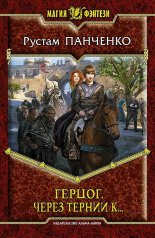Школа жизни. Честная книга: любовь – друзья – учителя – жесть (сборник) Быков Дмитрий

Когда подъехала к конюшне, вышел конюх дядя Митя, он был глухонемой, но я его понимала. Он мне показал, что коня он сам распряжет, а я чтоб шла домой. Когда я пришла домой, бабушка сильно плакала. Я спросила ее, что случилось? Она сказала, что грозой убило детей и среди них был мой брат. Хотя просто сказали, что Володю убило, и бабушка подумала, что нашего.
Потом прискакал взрослый парень Виктор Кузмичев и сказал, что убило грозой троих детей: Любу Здвичикову, Нину Жукову, нашу родню, и Вову Костина. В это время пришла тетя Нюра, услышала это и упала в обморок.
Потом рассказали, что, когда началась гроза, бригадирша Клава, студентка из Воронежа, сказала всем, чтобы уходили от пруда домой: нельзя во время грозы быть возле воды, тем более купаться. А Люба и Нина спросили разрешения, чтобы вернуться к роднику и попить. Бригадирша не разрешила. А Вова взял девчонок за руки и сказал, что они быстро вернутся. Остальные дети пошли домой, и как только все спустились к лощине, то сверкнула молния и гроза была очень сильная. Все обернулись и увидели, что бегут Володя с девочками, держась за руки. И тут огненный шар попал в Володю, и он загорелся, а девочек отбросило волной в стороны. Этой же волной отбросило всех детей.
Когда их привезли домой на телеге, на них было смотреть страшно: у некоторых были лица перекошены. После, правда, все они отошли, поправились. А Володю и двух девочек похоронили в одной могилке: он – в середине, а Люба и Нина – по бокалам. С тех пор все ужасно боялись грозы.
Через год, в 1953-м, умерла наша мама.
А еще через год меня приняли в комсомол и выбрали председателем комсомольской организации. Я плакала от радости и от того, что рядом не было мамы: она бы тоже за меня порадовалась.
Как-то надо было вести пионеров в райком комсомола для приема их в комсомол. Детям от школы было близко, а мне – больше трех километров. Я вышла пораньше, чтобы не опоздать. Когда шла, меня догнал на мотоцикле дядя Ваня – редактор районной газеты – и спросил, куда иду. Он решил меня подвезти, велел сесть и крепче держаться. Я анкеты спрятала под курточку, села, и мы поехали.
На дороге были большие ухабы, и нас так подбросило, что я вместе с ручкой от мотоцикла слетела, а мои анкеты разлетелись во все стороны. Я стала их собирать. А дядя Ваня остановился и испугался за меня. А я так не успела напугаться: за анкеты переживала. Мы поехали медленней, но успели вовремя. Дядя Ваня просил, чтобы я никому не рассказывала об этом – боялся, что мои родные станут его ругать. А позже сам же и проболтался моему двоюродному брату. Да, ладно, все же обошлось! И моих пионеров тогда всех приняли в комсомол.
Когда я была в седьмом классе, еще случай приключился: мы шли из школы через поля, чтоб сократить путь. Началась гроза, пошел дождь. И вдруг мы увидели, что зажглась большая скирда с соломой. Мы, не раздумывая, бросились растаскивать сено.
Приехал управляющий совхоза и поблагодарил нас за помощь. Но ребята сказали: это «Пушкин» первая бросилась к скирде. Александр Тихонович, так звали управляющего, нам всем пожал руки, и мне показалось, что мы сразу повзрослели. А дома бабушка заругала: «Тебе что, больше всех надо?» А дедушка, наоборот, сказал, что я молодец.
Когда мы шли в школу, то я заходила на свиноферму и мне давали жмых – это спрессованная шелуха семечек после отжима масла, а я потом делила между всеми детьми и мы ели – голодно было.
И вот однажды начался урок географии, а вел урок директор школы Дмитрий Иванович. Он увидел, что у меня полный рот, и тут же вызвал к доске. Я чуть не подавилась, старалась прожевать жмых. Я не ответила на его вопрос: все жевала-жевала. Он рассердился и указкой ткнул меня в лоб. Мне было очень больно, я испугалась и заплакала. Урок тем не менее ответила. Он сказал, что если еще раз заметит меня с этой жвачкой, то отведет в конюшню, и буду я там жевать жмых наравне с коровами и лошадьми. После он вскоре почему-то уволился.
Другой директор был очень хороший, звали его Виктор Иванович Хаустов. На выпускном экзамене по математике я решила все примеры, а вот задачку никак не могла решить. В это время пришел директор, походил по рядам класса и подошел ко мне, присел рядом и спросил: «Ну, что, брат Пушкин, как дела?» Я ответила тихо, что не получается задача. Он посмотрел ее и на листочке решил. Я ему сказала спасибо. И до сих пор вспоминаю с благодарностью.
А вот учительницу математики, Надежду Кузьминичну, я очень боялась. Она была очень несправедлива к ученикам. Я перед уроком смачивала волосы, чтобы распрямить, а они высохнут – и еще больше кучерявятся. А учительница меня донимала, что я накрутилась. Потом мы узнали, что ее вызывали на педсовет и ругали. После она уволилась. Но, думаю, это не только из-за меня.
Как же это было давно… Хочется снова туда вернуться.
Александр Самойленко
Ненаписанная сказка
Впервые… Когда это случилось со мной?
…Мне семь лет. Школа. Воскресенье. Пустой чистый класс на четвертом этаже. За тремя большими окнами – осеннее солнце, качаются голые ветки тополей. В классе уютно, тепло и по-воскресному молчаливо-загадочно. Рядом друзья: Вовка, Славка, Генка, Галька и Любка.
Генка с Любкой – брат и сестра. Сейчас их мать моет классы на втором этаже. Вовка лицом отличается ото всех. Говорят, у него отец был китаец. В нашей компании нет главаря, но самым большим уважением пользуется Вовка. У Славкиной матери другая семья, и Славка живет с бабкой. Она маленькая, горбатая и страшная, курит папиросы и работает в школьной кочегарке. Галька очень взрослая – учится в четвертом классе. Она большая и толстая, у нее всегда красные щеки. Все остальные, кроме Генки – он еще маленький, – первоклашки.
Компания уже набесилась, устала. Наступили какие– то странные минуты тишины. Всем хочется чего-то необыкновенного, даже волшебного. Генка рисует мелом на доске непристойности. Частенько кое у кого срываются с языка выраженьица, от которых покраснел бы и взрослый. Но никто не обращает внимания: привычно, так и дома у них говорят. Лишь мне иногда не по себе: у меня так дома не говорят. Но я скрываю. Я очень хочу быть здесь своим. Мне совсем не нравится, когда меня дразнят «училкин сын».
А в классе как будто что-то невидимо висит и подглядывает за нами. Пустые большие парты – для взрослых учеников – словно беззвучно смеются над нами. Скучно… Все с надеждой смотрят на Вовку: не придумает ли он какое-нибудь новое развлечение? Но нет, и Вовка примолк.
И тогда начинается галдеж. Каждый пытается рассказать что-то интересное. Но почему-то ничего не получается.
Творчества! Вот чего нам так не хватает! Мы не умеем творить. Мы и слова-то такого не знаем, но чувствуем: нам так нужно волшебство и чудо! Потому что где-то внутри себя, глубоко, мы, хотя и маленькие, ощущаем это чудо и чудесность всего вокруг, загадочность, свою собственную необыкновенность, неудержимую текучесть времени, неразгаданность этого видимого мира… Мы еще верим в сказки, но уже и не совсем верим.
И вдруг я, словно меня кто-то изнутри подтолкнул, говорю:
– В одном классе под классной доской есть дверца. Это тайный ход. Он через стены ведет на запасные лестницы…
Я говорю уверенно, убежденно, и моя новая, неизвестно откуда появившаяся воля подавляет недоверие друзей. Вижу, как заблестели их глаза, наполнились предчувствием сказочного. Им хочется верить мне! Я рассказываю, и все окружающее реальное проваливается куда-то, а остается только то, что я говорю.
Но тут:
– Не ври, учила! – кричит Любка.
Ее всегда бледное, неулыбчивое лицо выражает презрение к училкиному сынку. Но я все-таки подсматриваю и в ее глазах желание необычного. И мне хочется, чтобы именно Любка поверила больше всех.
– Нет, есть дверца! – твердо говорю я. – И в стенах и на запасных лестницах живут такие человечки… такие человечки. – Я показываю ладонью половину своего роста. – Они… они пластмассовые, но живые. Их зовут… школярики. Они тоже учатся, только ночью. Они кушают мел и промокашки, а пьют чернила. Но больше всего школярики любят тетрадки с двойками. Они пробираются ночью в учительскую, там выискивают такие тетрадки, посыпают их мелом, поливают красными чернилами и кушают. Это для них как шоколадки…
Эк разгулялась фантазия! Сам не ожидал.
Воздух в классе густеет от таинственности, все ошеломленно молчат, а я слышу, как в моей груди за слабыми ребрышками что-то дрожит и клокочет. Я не знаю, что это первый в моей жизни озноб творчества. Не знаю, но крепко запоминаю, чтобы использовать эту память через прорву лет в романе, который вряд ли успею дописать…
– А почему ж никто не видел этих твоих… школяриков? – подозрительно спрашивает Любка, но уже как-то неуверенно и почти робко.
– Их днем-то не видно – они только ночью видимые. Эти школярики днем в стенах сидят и на запасных лестницах. И на чердаке еще…
О, эти таинственные, всеми забываемые, но всегда присутствующие запасные лестницы! Они как будто из повторяющегося сна – вроде бы и нет их на самом деле, но они все-таки есть. Да и кому из нашей компании они не снились?!
Лестниц две: в восточном и западном крыльях школы. Они, конечно, всегда закрыты, словно за ними что-то запретное и запредельное. Но каждому из них хоть однажды удалось побывать и на лестницах, и на чердаке, и даже на самой крыше! Еще бы нам не побывать! Я и Славка живем в школе, а остальные – тоже рядом, в бараке.
Там, за закрытыми дверьми, – параллельный мир. Там пахнет пауками и прошлым. На ступеньках и площадках, как на поле битвы, в разных позах застыли погибшие в битве со временем старые стулья и парты, кое-как скручены пропыленные, с выцветшим кумачом, никому уже не нужные плакаты… А на чердаке! Там все так густо переплелось, покрылось пылью и страшным чердачным мраком! Конечно, там может жить кто угодно, даже пластмассовые человечки-школярики! Тем более что однажды Славка нашел возле чердачного люка ужасное странное дохлое существо. Мы такого никогда не видели. У него была маленькая голова, очень похожая на собачью, и огромные кожаные перепончатые крылья! Кто-то из взрослых сказал, что это летучая мышь. Отчего ж тут не жить пластмассовым человечкам?!
Вовка, сделав равнодушную морду – только так именуется лицо в нашей компании, избегающей всяких «телячьих нежностей», – незаметно подходит к доске, отводит ее от стены и заглядывает: нет ли здесь, именно в этом классе, той самой дверцы в потайной ход? Но все замечают Вовкины действия и понимают, что Вовка поверил. И все верят еще больше.
– А какая она дверца, маленькая? Я не пролезу? – спрашивает у меня толстая простодушная Галька.
Все смотрят на здоровенную Гальку, на ее бочки-ноги, на выпирающий из-под вылинявшего платья живот. Все представляют, как полезет Галька в дверцу, как застрянет там… Все хохочут, разряжая таинственность. Потом сыплются вопросы: что же дальше?
Но я вдруг осознаю ответственность за каждое новое слово, за свою фантазию, за ее судьбу. Жалко, если она поломается от одного неверного жеста. Я не знаю понятия «импровизация», но чувствую, что это трудно, нужно время на обдумывание.
– Это пока тайна. Ничего сейчас не могу рассказывать, потому что школярикам будет плохо, если расскажу…
Прошло пятьдесят лет. Друзей детства я давно потерял, потому что поменял место жительства. Некоторых из них уже нет на этом свете. Но еще стоит та старая школа номер двадцать семь.
Иногда я прихожу к ней: как будто из другого пространства-времени прилетаю, и жутко мне – от исчезнувшего времени, от ушедшей жизни, от ее иллюзорности и мгновенности. Давным-давно поумирали наши учителя и многие ученики. Новые поколения детей выпархивают из этого старого здания, считая его своим. Они другие, не похожи на нас. И вряд ли поверили бы в мою сказку про школяриков. Которую я так и не написал. Которая, возможно, сделала бы эту реальную жизнь чуть-чуть волшебнее…
А ведь обязан был написать: обещал же. Но… сам попал в дикую жестокую сказку, где грязные злые колдуны не дали мне творить…
Все, кто ждал от меня доброго волшебства и не дождался, – простите!
Николай Колесников
Первый бал
Если мне не изменяет память, то на свой первый бал Наташа Ростова попала в возрасте шестнадцати лет, и было это 31 декабря 1809 года. И у меня первый бал внезапно случился тоже под Новый год. Правда, дело было в начале семидесятых прошлого века (слышится тоже как древняя история) в средней школе № 1 города Кинешма Ивановской области…
Все началось с того, что накануне новогодних праздников наш класс посетила завуч по воспитательной работе и объявила, что есть мнение допустить нас, учащихся седьмых классов, до традиционного новогоднего бала, но… лишь при наличии карнавальных костюмов. Это была бомба! Мы все считали, что давно уже переросли детские новогодние праздники с хороводом вокруг елки и распеванием песенок про «Маленькую елочку».
Итак, на повестке дня: новогодний костюм! Вариантов было немного. Зайчики и мишки отпали сразу же. Мальчиши-Кибальчиши после недолгих раздумий были также отвергнуты: представить Мальчиша, танцующего шейк под «Шизгару», было затруднительно, а стоять целый вечер у стенки?.. Вопросы, вопросы. Решение подсказала жизнь, точнее, кино. Мы все тогда «болели» фильмами «Великолепная семерка» и «Верная Рука – друг индейцев», не пропустили ни одной картины про Виннету, Текумзе, Чингачгука и прочих благородных вождей индейского народа с Гойко Митичем в главной роли. Правда, в силу слабого развития мышечной массы на место самого Гойко Митича я претендовать тогда не мог, поэтому пришлось довольствоваться образом рядового ковбоя из салуна. Но и здесь все было не так просто: нужны были «ударные» детали, чтобы и дешево, и полное попадание.
Костюм ковбоя, рассуждал я, начинается с остроносых сапог – да где ж их взять в наше небогатое время? Так что и школьные ботинки сойдут, если их как следует начистить. Как раз к новогодним праздникам «поспевали» мои первые расклешенные брюки, сшитые на заказ. 24 на 27. У кого были такие, тот поймет, о чем речь. Рубашка тоже была: клетчатая, фланелевая, отцовская. Рукава, правда, нужно было закатывать и с боков приталить. В качестве шейного платка можно было приспособить пионерский галстук. Но во избежание «политических» осложнений мама пожертвовала свою парадную косынку. На голове очень даже смотрелась выпрошенная у соседа черная фетровая шляпа, в которой он ездил на рыбалку.
Вроде бы все было на месте, но явно чего-то не хватало. Думал я недолго: жилетка! И тут на помощь пришла моя бабушка со своим стареньким «Зингером». У нее как раз нашелся и отрез черного сатина, из которого можно было бы сшить эту самую жилетку. Правда, по ее словам, этой материи хватило бы на пару трусов. Но семейные трусы – вещь, конечно же, нужная, но в данном случае не жизненно необходимая. А какой же это ковбой – без жилетки? Словом, бабушка все поняла правильно и пожертвовала общественным ради моего личного счастья. И не сказала ни слова, когда я на жилетке во всю спину написал белой краской «Smith and Wesson». И куда в ней потом пойдешь? Да в тот момент разве ж я об этом думал?
Итак, я был готов. Ремень, кобура и пистолеты нашлись дома.
И вот я стою перед зеркалом и смотрюсь, в общем-то, неплохо. Конечно, Грегори Пек в роли шерифа Маккены выглядел поинтересней, но там над его образом целый Голливуд работал! А здесь, что называется, с миру по нитке… и собрали вот новогодний костюм.
Наша школа еще довоенной постройки, где все было сделано основательно и с размахом: и лестницы, и коридоры, и классы. А уж актовый зал тем более впечатлял. Потолок был такой высокий, как небо над Аустерлицем. А в небе не облака, а звезды: большие и маленькие, на тонких невидимых нитях. И огромная елка в центре зала.
Когда елку привозили из леса, зал запирали, а при входе ставили караул. Но разве мог он остановить любопытных? Мы пробирались сюда, чтобы вдохнуть аромат зимнего леса, который она приносила с собой. А еще можно было изловчиться и оторвать несколько зеленых лапок с золотистыми капельками смолы, а потом на уроке растирать пушистые иголки пальцами и наслаждаться запахом хвои. А можно было незаметно провести еловой лапкой по склоненной девичьей шее. И услышать шепот, от которого дрожали стекла:
– Дурак! Что ты делаешь?..
И увидеть щеки, от которых можно было прикуривать.
Зачем мы это делали? Кто знает. Наверное, так познавали окружающий мир и учились выражать свои чувства.
Новогодний бал открывался парадом карнавальных костюмов. И я в толпе таких же «ряженых» сначала прошелся по залу, а затем поднялся на сцену. Повертелся туда-сюда, поиграл револьверами и… неожиданно получил первую премию, а в качестве приза – огромную шоколадную медаль! Куда она делась потом, я не помню. Нет, правда, не помню. По идее, я должен был бы отнести ее домой и вручить маме с бабушкой, а я, честно признаюсь, не помню ее дальнейшей судьбы. Не исключено, что там же, на балу, мы эту медальку и съели.
Между тем, отыграв положенные по ритуалу «встречу» Деда Мороза и Снегурочки, а также бодренький туш во славу победителей всевозможных конкурсов и викторин, наш местный ВИА «Горизонт» взял небольшую паузу. Приближалась та часть новогоднего бала, ради которой все это, собственно, и затевалось, – танцы до упаду.
Последний раз участие в коллективных танцах я принимал еще в пионерском лагере, где безусловным «хитом» всех лагерных смен был «переходный танец», или танец с переходами. Это когда «кавалер», сделав несколько шажков вместе со своей «дамой», вежливо с ней раскланивается и с молодецким возгласом «И-йех» передает свою партнершу соседу справа, а сам в это время принимает новую от соседа слева. Нечто среднее между средневековым менуэтом и народным «Ручейком». Однако с тех пор прошла целая эпоха. И опыт, приобретенный в пионерском лагере, теперь никуда не годился.
Но прежде всего необходимо было принципиально решить: будем или не будем. Мы с ребятами решили, что непременно «будем», и приступили к тренировкам.
На танцплощадках страны в те времена господствовал шейк, что существенно осложняло процесс подготовки. Судите сами: по твисту было прекрасное пособие: «Носком левой ноги – ну, помните? – мы давим левый окурок, а носком правой ноги давим правый окурок. А затем оба окурка мы давим одновременно». Но при изучении шейка нам приходилось полагаться лишь на интуицию и что-то, увиденное в кино.
Тренировались мы самозабвенно: и вместе, и порознь. И вот, наконец, настал тот час, когда…
Я оглядел залу. Легкий гул возбуждения витал в воздухе. Народ, заполнивший окружающее пространство, совсем не выглядел однородной массой. Такие же, как у нас, отдельные стайки, группы по несколько человек, преимущественно своих, из одного класса. Все же сказывалась разница в возрасте: восьмиклассники никогда не признают семиклассников за своих, равно как и для старшеклассников мы все вместе – лишь «мелюзга, путающаяся под ногами у старших».
Внимание! На старт!
Шейк – от английского «shake», то есть «трястись». В 1959 году американский рок-певец Чен Ромеро сочинил песню «Hippy, Hippy Shake» («Тряси бедрами!»), а в 1964 году эту песню исполнили «Битлз». Тогда, собственно, и возник этот зажигательный танец. Его танцуют и в одиночку, и парами, но особенно приветствуется исполнение группами, когда партнеры обращены лицом друг к другу. Шейк не даст заскучать никому. Что же представлял собой шейк в нашем исполнении?
За основу мы взяли походку американского актера Юла Бриннера из кинофильма «Великолепная семерка». Из той самой сцены, когда он идет по пустым улицам техасского городка, ожидая выстрела из-за каждой занавески. А если кто не видел, то представьте себе человека, проскакавшего миль сорок на лошади без седла и далее вынужденного передвигаться на своих двоих. При этом нужно было еще припадать то на одну ногу, то на другую. Руки же следовало держать согнутыми в локтях и прижатыми к ребрам. Попробуйте сами…
Между тем новогодний вечер набирал обороты. Мы уже совсем освоились в обществе своих одноклассников и перестали обращать внимание и на старших товарищей, и на учителей.
Однако главные сюрпризы были еще впереди.
Внезапно верхний свет в зале погас. Зажглись огни на елке и светильники на стенах. Кто-то из музыкантов подошел к микрофону и объявил:
– Белый танец! Девушки приглашают кавалеров.
Это еще что такое? Об этом же предупреждать надо. Письменно, под роспись, при входе.
– Отказываться от приглашения нельзя, – пробурчал мой друг Мишка. – Смотри, идут.
Хорошо, что это были свои. Наши. Две подружки – очень похожие и удивительно разные. Достаточно сказать, что одна была жгучая брюнетка, а другая – огненно-рыжая. А еще они были «звездами» нашего местного танцевального коллектива – людьми творческими, привыкшими и к сцене, и к аплодисментам.
– Николай!
– Михаил!
Они церемонно присели и протянули нам свои руки.
Провалиться бы сквозь землю! Но нет, не получится. Ладно, прорвемся!
- Говорят, что некрасиво, некрасиво, некрасиво
- Отбивать девчонок у друзей своих…
– Как тебе новогодний вечер?
А это что такое? Нет, я, конечно, слышал, что во время танца нужно развлекать свою даму светским разговором. Но сам-то на это не подписывался! Однако придется разговаривать, не молчать же букой?
– Да, нормально все.
– Через два дня будет Молодежный бал в клубе. Придешь?
Танцевальные вечера в нашем клубе (Нардоме) назывались еще и молодежными. Интересно, а я кто теперь? Тоже молодежь?
– Не знаю. Наверное, приду.
– Приходи. Будет здорово. Мы с Валей в концерте будем участвовать, новый танец подготовили.
Валя – это та, другая. Хотя эта тоже Валя.
– Слушай, пригласи сейчас Таню на танец. Видишь, она стоит?
Я невольно посмотрел в ту сторону, где у стены стояли наши девчонки, почему-то вдруг ставшие какими-то незнакомыми. И не только от модных причесок. Прически здесь были не при чем. Что-то такое взрослое проступало в их лицах, таинственное и манящее.
– Хорошо, я попробую.
– Давай, она ждет тебя.
И я пошел. Не сразу и не через раз. А все же набрался смелости и пошел. Только это была уже совсем другая история…
Новогодний бал закончился. По нашим понятиям, даже не вечер, а скорее уж ночь. Дома ждет мама. Не спит, конечно же.
Крупные звезды блестели на черном небе. «Интересно, вот все говорят, что наша Вселенная расширяется, и звезды в ней удаляются друг от друга. Тогда почему сейчас они стали и крупнее, и ярче?» Морозный воздух наполнял тело здоровьем и свежестью. Было легко и спокойно. Впереди ждали новогодние каникулы.
Наталия Смородинская
Велюровое платьице
Помню, с начала семидесятых начался период повального увлечения джинсами. Я это увлечение как-то проскочила: сначала – из-за дороговизны и дефицита, потом, когда это перестало быть проблемой, мне уже было неинтересно. Но знаю случаи, когда мои ровесники, кому родители не могли достать джинов в период их взросления, надолго заработали комплексы неполноценности. Те же, кто носили джинсы, негласно считались элитой. Помню, в институте у нас был мальчик – все пять лет проходил в шикарных штатовских джинсах. Он мало говорил, звезд с неба не хватал, но иначе как «босс» к нему никто не обращался – уважали…
Что же касается девочек, то главным для них были тогда не джинсы, а сапожки. Они стоили месячную зарплату начинающего специалиста – 90–100 рэ, а особо шикарные – 120–150. Поэтому на сапожки копили месяцами, отказывая себе во многом. Считалось, что девушка без сапог – это вообще не девушка. На жутком морозе ходили в капроне, в мини-юбках – и при сапогах… Замерзали, ожидая автобуса, но иначе было нельзя: красота требовала жертв. Самое интересное, что лучшие сапоги были почему-то у секретарш. Помните Лию Ахеджакову в «Служебном романе»?
В память врезался один эпизод, который разломил мой мир надвое. Классе в девятом-десятом я попала в красивый дом на Большой Грузинской на чей-то день рождения. Это была большая отдельная квартира (редкость по тем временам), где толпилось много студентов, везде горели свечи – тогда эта мода гасить свет и зажигать свечи у нас только появилась. Я была одета по тем временам со вкусом: черное платье-рубашка, на шее – короткая серебряная цепочка из домашних запасов. Платье мне мама перешила из своего крепового, но материала немного не хватило – пришлось сделать кримпленовую клетчатую кокетку. Получилось шикарно, даже слишком для «летки-енки», и я себя чувствовала на коне. И вдруг…
С магнитофонной ленты полилась какая-то чудесная французская музыка, круг расступился, в середине оказался высокий парень в белой рубашке и голубых джинсах (видно, это и был именинник – хозяин дома) и миниатюрная златоволосая девушка в приталенном велюровом платьице. Девушка повисла у него на шее, ее тонкий «шоколадный» силуэт закружился в танце, а складки юбки развевались, переливаясь в отблесках свечи. Они были похожи на принца и принцессу, на пришельцев из сказки, они были так прекрасны и раскованны – нельзя было оторвать глаз…
Я смотрела на них и чувствовала, как стремительно меркнут моя серебряная цепочка, мой «шикарный» наряд, моя уверенность в себе, мое представление о будущем.
Я вдруг поняла, что эти ребята – из другой жизни, точнее, что я – из какой-то убогой жизни, где вечно экономят, перелицовывая старое, где прекрасное приходит из книг и там же ос тается, где любовь – только на экране, где мне никогда не удастся надеть ни шелка, ни бархата – да и как это будет смотреться в коридорах коммуналки! Я вдруг поняла, что в моем городе, совсем рядом, есть какая– то другая Москва, до которой мне не дотянуться… Начиналась эпоха внешторга и нефтедолларов – первое ощутимое социальное расслоение советской интеллигенции.
Велюровое платьице шоколадного цвета – оно стало моей идеей фикс…
Прошло тридцать лет, и в конце девяностых в одной из своих командировок, в Оттаве, я купила похожее. Но рядом не было ни парня в голубых джинсах, ни волшебной французской мелодии. Было, правда, французское вино, университетский фуршет и мудрые усталые глаза нашего директора-академика. «Что же это за страна такая? – говорил он с усмешкой о Канаде, пряча в карман сигарету “Ява золотая”. – Ни курить нельзя, ни целоваться – припишут sexual abuse!»
Светлана Кайсарова
Туфли из «Альбатроса»
1сентября 1973 года я пошла в первый класс средней школы № 270 Красносельского района Ленинграда. Вся семья по этому поводу радовалась и гордилась. Я же этих чувств разделить не могла: новые лакированные туфельки, которые купила мама в начале лета специально к этому дню, оказались мне безбожно малы и жутко жали…
Уж как же я ненавидела это слово, которое приходилось слышать часто! Еще было «подхудеем»! Не «похудеем», а именно с буквой «д», что означало не «сбросим лишний вес», а «подгоним одежду под себя». (Для справки: мои школьные годы пришлись на расцвет плановой советской экономики, и обувь фабрики «Скороход» и одежда фабрики «Новая заря» не просто обезличивали нас, но были некрасивыми и неудобными.)
Вариант замены тесных туфель на больший размер не рассматривался: мама достала их по большому блату в магазине для моряков загранплавания с красивым названием «Альбатрос». И они были важным элементом праздничного сценария. Понимая это, жертву я приняла осознанно и добровольно: туфли действительно были необычайно красивыми, особенно мне нравились маленькие черные бантики.
Торжественную линейку я продержалась достойно, не пикнув. Так в первый свой школьный день я усвоила первый урок: за красоту приходится платить. И терпеть.
Разносить шикарные туфли я так и не успела: через неделю они исчезли из школьного шкафчика прямо с мешком для сменной обуви.
В нашем семейном альбоме есть фотография моего первого 1 сентября. Мальчик и почему-то в фетровых беретах набекрень, на рукавах форменных пиджаков нашивки – раскрытая книжка и восходящее солнце (особо дерзкие позже расписывали их на свой вкус), девочки – с белыми бантами и в белых фартуках. Лица сосредоточенные и радостные.
На вопрос сына: «Мам, а почему у тебя такое выражение лица, словно ты хочешь заплакать?», – я ответила: «Такая вот радость у меня была: туфли из “Альбатроса”»…
Евгений Бунимович
Экзамены
1970-й год, год нашего выпуска, оказался последним перед разгоном (специальным решением горкома партии!) Второй московской математической школы, легендарного оазиса интеллекта и вольнодумства в Москве тех невеселых лет.
И без того тревожная, пора выпускных экзаменов была подпорчена еще и постоянными слухами об идеологических проверках, насылаемых на школу откуда-то сверху. Опасались, естественно, не физики с математикой. Но вот история с обществоведением…
Нашу учительницу истории Людмилу Петровну (сокращенную нами до аббревиатуры ЭлПэ) лихорадило. Мы боялись больше даже не за себя, а за школу, готовы были хоть чем-то помочь, честно приходили на все консультации перед экзаменом. Тщетно. Запомнить и воспроизвести ворох верноподданного бреда не получалось. Не тому нас учили.
Спасение пришло неожиданно в лице моей одноклассницы Наташи Зориной. Да, да, Наташа, та самая, жена моя. Однако поженились мы после окончания Московского университета – и это уже совсем другая история.
Так вот, накануне экзамена Наташа искусно пометила все экзаменационные билеты. Бессонной ночью каждый из нас выучил свой билет практически наизусть. Проверяли друг друга по текстам впервые открытого учебника обществоведения, который произвел неизгладимое впечатление. Последний параграф в этом учебнике назывался просто и непритязательно: «Счастье». А последний абзац звучал так: «Раньше поэты изображали счастье синей птицей, которая ускользала от того, кто хотел поймать ее за крыло. Теперь мы крепко держим ее в руках!»
Проверяющая тетка явилась, но она была уже не страшна. ЭлПэ сидела белей чистого экзаменационного листа, а мы были жизнерадостны и уверены в себе. Никаких нравственных мучений, что придется гнать идеологическую пургу, мы почему-то не испытывали.
Меня вызвали почти сразу. Иду к столу и – о, ужас! – начисто вышибло, как именно помечен мой билет. ЭлПэ почувствовала неладное:
– Женя, что с тобой?
И тут меня озаряет спасительная мысль:
– Людмила Петровна, а можно Наташа вытащит мне билет? На счастье? – спрашиваю со смущенной улыбкой влюбленного дебила.
Проверяющая тетка, насмотревшаяся советских фильмов про школу (а если это любовь?), не смогла скрыть умиления. Можно!
Наташа коршуном бросилась к столу, быстро-быстро-быстро просмотрела оборотки всех лежавших в ряд билетов и безошибочно вытащила мой.
Победа! Счастье! Теперь я крепко держал его за крыло.
Я сыпал всеми с утра распиравшими мою кратковременную память именами, датами и цитатами. Проверяльщица восторженно внимала.
И тут я увидел, как смотрит на меня Феликс.
Феликс Александрович Раскольников, наш удивительный учитель словесности, которого тоже зачем-то посадили в экзаменационную комиссию, снял очки, положил их на стол и глядел невидяще и абсолютно потерянно даже не на меня, а сквозь меня. Бунимович, Женя, которого он числил человеком, в мельчайших деталях и подробностях уверенно несет всю эту официозную ахинею…
Я запнулся, растерялся, умолк. Тут вновь вовремя включилась ЭлПэ:
– Наверное, достаточно.
Она вопросительно посмотрела на пришлую тетку. Та кивнула. Все обошлось. Но взгляд Феликса так и не забылся…
Из всех выпускных самым простым мы числили экзамен по французскому языку. Сдающих оказалось всего-то пятеро, все во Вторую школу пришли из языковых спецшкол, никаких опасностей и подвохов не ожидалось. Однако проверяющего засунули и сюда.
Всем достались темы как темы: «Моя любимая книга», «Мой любимый фильм». А мне досталась тема «Ленин в Париже». Еврейское счастье на французском языке. Все сдающие честно пытались мне подсказать, но никто не знал, когда Ильич там был и зачем при ехал. Только ответственная Ленка наконец вспомнила, что жил он где-то на Монпарнасе и через весь Париж ездил на велосипеде в Национальную библиотеку. Готовить, надо полагать, мировую революцию.
Этого оказалось более чем достаточно. Красочно, во всех подробностях рассказывал я обалдевшей комиссии, как будущий вождь мирового пролетариата садится поутру на велосипед, трогается в путь – и дальше описывал все подряд улицы по пути, дворцы, соборы, памятники. Спасла выучка французской спецшколы. План Парижа, где советский школьник никогда не был и быть не предполагал, я знал практически наизусть.
Проверяющий, не знавший ни слова по-французски, благосклонно кивал в такт моей мерно лившейся картавой, как у вождя пролетариата, речи, а учительница, вовремя сообразившая, что мы с Ильичом уже у Пале-Рояля, практически в двух шагах от библиотеки, благоразумно прервала нашу прогулку:
– Достаточно!
Приехав впервые в Париж двадцать лет спустя, уже во время perestroika, я первым делом прошел этим маршрутом.
Париж оказался точно таким, как во французском кино, – дождливым, серым, туманным, прекрасным, со своим местным Габеном на каждом отрезке набережной. Но все-таки тот мой, выученный по картам, фотографиям и импрессионистам в Пушкинском музее, с призраком коммунизма на велосипеде, был прекрасней, спасительней.
Он был несбыточной мечтой. И вот на тебе – сбылся.
А Сашке по прозвищу Мика досталась на том экзамене тема «Мой любимый фильм». Он стал рассказывать про мюзикл «Моя прекрасная леди», на который мы только что ходили большой компанией после уроков. Наверное, это был единственный фильм, содержание которого он в тот момент помнил. О первоисточнике – «Пигмалионе» Шоу – мы успели ему подсказать. На беду.
Кто-то из комиссии спросил, а кто же такой этот Пигмалион. Сашка бодро ответил:
– Это такой зверек, который меняет свой цвет.
Все рассмеялись, кроме проверяющего дядьки. Он не понимал по-французски. Но и после перевода ему не стало смешней. Зато ему стало обидно. Сашке вкатили трояк.
Мика закончил физтех, потом уехал за океан. Не так давно, на встрече выпускников сказали, что Саша умер. Помянули. Вскоре (почему-то в Киеве, в случайном пересечении людском) я узнал, что Саша в Канаде покончил с собой.
Может, и нет волшебных стран, кроме детства. Даже если через него проехал Ленин на велосипеде.
Ирина Данильянц
«Муха»
Наша Авторская экспериментальная школа № 47 открылась в 1991 году. Кларисса Дмитриевна работала в ней с первого дня. Это была маленькая сухая старушка в больших квадратных очках. Выражение лица всегда недовольное, губы всегда поджаты. Ученики звали ее «Муха» и, завидев в коридорах, начинали тихонько жужжать. Так она и ходила по школе под тихое «Бзззз». Никто из нас не знал, что именно она преподает и преподает ли вообще, хотя, говорят, когда-то давно она была удостоена звания «Заслуженный учитель».
Раз в году, в мае, она проводила для младшеклассников праздничный урок, посвященный Дню Победы. Рассказывала о тех днях и своих наградах. С урока уходила всегда с букетами гвоздик. В остальное время ее работой было следить за порядком. Утро и пересменок она проводила у парадных дверей школы вместе с дежурным учителем. Проверяла сменную обувь, «Личную книжку» (что-то вроде дневника лицеиста), оценивала «деловой стиль» каждого. Формы у нас уже не было, и это, кстати, отдельная гордость – лицей первым в городе отказался от платьев и фартуков. Но этот самый «деловой стиль» не давал покоя ни учителям, ни ученикам. Первые чуть ли не раз в полугодие обновляли дресс-код, вторые находили способы его нарушить. Помню год, когда девочкам запрещалось ходить в брючных костюмах; год, когда нельзя было носить юбки выше колена; год запрета любых каблуков, цветных блузок, свитеров, и не приведи господь заявиться на уроки в джинсах!..
Надо сказать, в Иркутске середины и конца 90-х проблем со шмотками для подростков не было. Город рядом с Китаем, и китайская толкучка, называемая в народе «шанхайкой», функционирует по сей день. У нас не было «сникерсов» и «марсов», зато дутые пуховики с торчащими из швов перьями появились еще тогда, когда жители остальных городов ходили зимой в тяжеленных шубах и мешковатых советских пальто. Не знаю, какие у вас, «в Европе», весной года 96-го были головные уборы, а у нас, в Сибири, все девочки от семи до пятнадцати мечтали о малиновых капорах с «шанхая», а осенью хором переоделись в бирюзовые беретки.
Ученицы старше пятого класса часто имели при себе два комплекта одежды. Через главный вход мимо двух дежурных старшеклассников, дежурного же учителя и «Мухи» мы шли в белых блузках, серых пиджаках и юбках средней длины. Тут же сворачивали в туалет, запихивали весь «деловой стиль» в целлофановые мешки и переодевались в модное шмотье. Кто-то ограничивался вельветовыми штанами и кроссовками на платформе, кто-то менял наряд целиком: вязаную кофту или цветастый топ вместо блузки, супер-мини вместо «средней длины», добавлялась пышная прическа + макияж. Все это держалось до первой перемены – дальше начинались облавы, приходилось снова переодеваться в «белый верх, черный низ» либо ехать «за родителями». Учеников, одетых не по правилам, не имеющих сменки и совести (а в «джинсе», разумеется, ходят только бессовестные), отправляли домой или заставляли писать объяснительную.
Однажды тетя, которая как раз в девяностые эмигрировала в США, прислала мне из Бостона шикарный вязаный свитер с «горлом» светло-сиреневого цвета. Естественно, появляться в нем в школе было запрещено, но кого это волнует? Сначала я таскала его с собой и каждый день переодевалась в туалете. Потом осмелела и просто стала надевать свитер под застегнутый серый пиджак, а после ежеутренней проверки пиджак снимала. Потом мне пришло в голову: как здорово американский сиреневый свитер будет смотреться с темно-зелеными клешами в мелкий рубчик! И как-то раз заменила ими свою обычную юбку.
В школу в тот день я прошла не через главный вход, а через спортзалы (тогда физру вели практиканты, которые с нами дружили и по утрам открывали уличные двери). После первого урока никаких проверок не было, дежурные учителя ходили, видимо, по другим этажам. А дежурным старшеклассникам было абсолютно все равно, что там за свитер и хипповские штаны гуляют по коридорам. Я совершенно расслабилась, потеряла бдительность. И вдруг после третьего урока (как сейчас помню – литературы) краем глаза увидела «Муху»: она стояла в противоположном конце коридора и внимательно смотрела на меня. Она сделала пару шагов, я спешно зашла в кабинет, потом выскочила из класса и понеслась куда-то: то ли на другой этаж, то ли под лестницу. Она почему-то не стала ждать меня в кабинете. Хотя, вспоминая этот случай сейчас, думаю, это было бы логично: ведь я все равно рано или поздно вернулась бы на урок, и там, при всех, можно было бы провести со мной воспитательную работу. Но нет, она не стала ждать, а решила меня догнать.
Я скрывалась от «Мухи» всю перемену, она ходила за мной, звала дежурных и кричала, чтоб я остановилась. Наша игра в кошки-мышки продолжалась до тех пор, пока я, пробегая мимо кабинета директора, не столкнулась с нашей «Мухой» лоб в лоб и чуть не уронила ее на пол. Чудом ей удалось устоять на ногах. «Муха» была в ужасе от такого поведения, да что уж там – даже я испугалась собственной наглости!
– Здравствуйте, Кларисса Дмитриевна! Вы сегодня прекрасно выглядите! – выпалила я и быстрым шагом удалилась.
До конца уроков я все ждала, когда она придет к нам в кабинет, как меня вызовут к директору, как явится классный руководитель, попросит меня немедленно выйти, а там и до «матери в школу» недалеко. Но ничего этого не случилось: «Муха» никому ничего не сказала, никуда не пожаловалась. Но с тех пор каждый раз, когда мы встречались с ней в коридорах, я говорила ей:
– Здравствуйте, Кларисса Дмитриевна. Вы сегодня хорошо выглядите!
Всегда, практически каждый день, она отвечала:
– Здравствуйте, – и шла дальше.
Я окончила школу в 2002 году. Все одиннадцать лет, включая четвертый класс (а тогда все учились по системе «один-три» и прыгали из третьего в пятый), провела в одной школе. На последнем звонке, после традиционного капустника, на котором, конечно, не обошлось без пародий на всех учителей, включая «Муху», после выступлений и благодарностей мы стояли в холле и думали, куда дальше. Кто-то предлагал набережную, кто-то – ночной клуб. У парней где-то в гардеробе уже были спрятаны бутылки и штопор.
Она подошла ко мне неожиданно и спросила очень серьезно:
– Когда вы говорили мне, что я хорошо выгляжу, вы говорили правду или это было просто так?
Тогда я, наверное, впервые увидела ее так близко. И смотрела в глаза. И видела не «Муху», от которой все носятся и которую, хоть и боятся, но всерьез не воспринимают, а пожилую даму, Клариссу Дмитриевну. Сказала ей, что сначала просто так ляпнула, от испуга, а потом не соврала ни разу, что она и правда прекрасно выглядит. Она улыбнулась, ответила:
– Спасибо! – и направилась к выходу.
Так все и было. Суровая, вечно недовольная «Муха» вдруг по-настоящему улыбнулась. Как улыбалась мне обычно моя бабушка.
Татьяна и Александр Мельниковы
Все было по-настоящему
Мы помним себя вместе с 1954 года, когда пришли в 1-й класс школы № 17 города Ульяновска.
Наша первая учительница Галина Александровна Покровская (Титова) была нам как мама: и добра, и в то же время строга. Класс был дружным, это она нас приучила: слабому – помоги, с «бедным» – поделись, больного – навести, уехавшему – напиши.
К праздникам – непременно спектакли с самодельными костюмами и декорациями. Начинали с «Репки». Я играл дедку, а Таня – бабку. Она сшила мне бороду, а я выпилил ей лобзиком прялку.
А в конце учебного года – поход! На целый день! Едем до конечной трамвая, а там еще минут двадцать пешком. В авоське хлеб, картошка, соль, огурец, яйцо. У некоторых – «крем-сода»!
В первом классе запомнилось занятие, когда изучали меры длины – миллиметры, сантиметры, метры, километры. Весь класс вышел на улицу и от порога школы до площади Ленина измерял путь матерчатым сантиметром. Оказалось, что мы прошагали до площади целый километр!
Город у нас был непростой – родина Ленина, и в школах об этом не забывали ни на минуту. Например, у нас были места, где стояли бюсты Ленина и Сталина. Проходя мимо, мы должны были отдавать вождям салют, а уж если кто бежал по школе, то здесь обязательно нужно было притормозить.
Так вот, когда после ХХ съезда в стране отовсюду выносились портреты и бюсты Сталина, нам на уроке труда велели не просто убрать гипсовое изваяние, а выбросить его в окно с третьего этажа. В целях, надо полагать, наглядной агитации. Конечно, бюст разбился вдребезги, и куски его позже были замурованы в фундамент строящейся в школьном саду беседки.
В старших классах, это 1963–1965 годы, в школе существовала школьная фабрика. Да, да, самая настоящая трикотажная фабрика с директором, ОТК, интерлочницами, оверлочницами, закройщиками, мастерами и техниками. И на всех этих должностях и специальностях были мы, школьники.
На заработанные деньги весь наш класс отправился «вниз по матушке по Волге». Пять суток плыли, любовались красотами волжских берегов и городов и распевали под гитару песни.
Не хотелось расставаться, не хотелось, чтобы путешествие закончилось. Кто-то сказал, что нужно бросить монеты в Волгу, чтобы все повторилось. Но денег уже не было, оставались банки с консервами «Килька в томатном соусе». Вот они и полетели в Волгу.
…В трескучие морозы 1964 года внезапно умер кочегар нашей школьной котельной. Чтобы школа не замерзла, директор попросил поработать нас, мальчишек 10 «Б». Работали по очереди, круглосуточно, наверное, недели две, пока не нашли нового кочегара. Директор, Борис Васильевич Карабанов, дежурил с нами как-то ночью. Каждый день после уроков мы бежали домой, переодевались, брали учебники, задания и шли в кочегарку. Я брал с собой аккордеон, так как учился в музыкалке, и в перерывах готовил свои музыкальные задания. Работали часов до шести утра, потом бежали домой отмываться от сажи. Я шел к моему другу Сашке Олейнику, потому что у них была ванна!
Девчонки нами гордились и иногда забегали к нам в котельную вечером, потому что надо было готовиться к смотру художественной самодеятельности и разучивать хором песню. Разучивали «Дымилась роща под горою» В. Баснера, ноты и слова которой нашли в «Комсомолке».
А когда и просто пели под гитару, глядя на огонь:
- Дым костра создает уют,
- Искры гаснут в полете сами,
- Пять ребят у костра поют
- Чуть охрипшими голосами…
От старой гимназии нам в наследство досталось здание классической гимназии с чугунными резными лестницами, классами, рекреациями с высоченными потолками, старинными пособиями по физике, химии и ботанике.
В нашей классной комнате за трехметровой перегородкой была кладовка – препараторская по биологии. На этой перегородке висела классная доска. В кладовке чего только не было: залитые формалином букашки, лягушки, гербарии, чучела птиц, таблицы с латинскими названиями и штампами старинной гимназии… Но самое главное – там был скелет, которого мы называли Васей.
Однажды наши мальчишки проникли в кладовку (обычно она была заперта), но тут прозвенел звонок, и наша молодая учительница ботаники начала урок. Она стояла лицом к классу, а за ее спиной над доской к потолку поднимался скелет человека с дымящейся папиросой в челюстях. Сначала все замерли, потом захохотали. Скелет Вася то поднимался, то опускался. Учительница оглядывалась, следуя нашим взглядам, ничего особенного не обнаруживала и продолжала объяснение нового материала. Но Вася появился снова – и мы снова захохотали. Ботаничка совсем растерялась. Слава богу, у наших «героев» хватило ума дальше не продолжать. Ох, что будет, что будет! Но ничего не было. Не считая того, что у бедного Васи что-то там отвалилось.
Мы часто учились во вторую смену. А темнело рано. Пройдет два урока, и наш класс отпускают домой, так как в школе погасли все лампочки. А на самом деле это наши умники в перемену подложили под цоколь лампочек мокрые промокашки. Потолки были высокие, метра четыре, но они добирались до лампочек, забираясь на плечи друг другу. Ура, домой! А то расческу сожгут в старинной кафельной печке в углу класса. Дымовуха! Снова домой!
Разбирательства были, старосте попадало, но не очень. Просто журили, «прорабатывали» в кабинете директора или в учительской.
Еще старинная гимназия оставила нам в наследство прекрасные словари и книги для чтения на французском языке. Наша библиотекарь София Эмильевна владела французским языком и нам эти книги показывала, но неохотно, осторожно.
…Мы с женой часто рассуждаем, отчего шестидесятые годы – самый замечательный период нашей жизни? Оттого, что это детство-юность? Или оттого, в какое время выпала эта юность? Или оттого, какие люди были рядом? Наверное, все вместе.
Учителя у нас были настоящие, интересные. Но самым необычным был учитель математики Борис Иосифович Абрамов. Он преподавал у нас с 7-го класса до 10-го. Влетал в класс и, стремительно направляясь к доске, объявлял: «Сегодня мы будем решать РАСЧУДЕСНЕЙШЕЕ УРАВНЕНИЕ!»
Строг был неимоверно. Рядом с отметками в тетради порою были рецензии чуть не на полстраницы, которые начинались так: «Прекрасно!», «Чушь!», «Кошмар!», «Молодец!». Он обладал огромной эрудицией и мы ловили каждое его слово, названия книг, авторов, что он упоминал. Он и выглядел необычно – очень худой, быстрый, выглядел намного старше, чем ему было, и в тоже время молодой, задиристый. Откуда-то мы знали его судьбу, хотя вслух это не обсуждали: тринадцать лет лагерей, реабилитация, в Ульяновск он попал как в один и «разрешенных» городов.
С Борисом Иосифовичем мы дружили и после окончания школы. Однажды подарили ему радиоприемник, и он насторожился, говорил, что кто-нибудь подумает, что он слушает западные радиостанции. Видимо, внутренний страх остался в его душе навсегда.
Последние два года наш класс стал особенно сплоченным. Мы организовывали тематические вечера, субботники, митинги, играли в драмкружке, участвовали в ремонте школы… В школу могли прийти по своим общественным делам когда угодно, даже поздно вечером. И почему-то никаких запретов на это у директора не было. Видимо, у нас был особенный директор, если нам казалось, что мы все можем сами. А может, тогда это было у всех?
А еще у нас был клуб юных коммунаров. И были мы счастливы в этом школьном братстве. Проводили областные слеты, оказывали помощь сельским школам. Заработали деньги и поехали на слет коммунаров в Ленинград. Свои впечатления о том, как влияют на нас и на наших сверстников коммунарские дела, мы посылали в отдел «Алый парус» «Комсомольской правды».
В клубе были законы, которые и до сих пор нам кажутся важными:
• Наша цель – счастье людей!