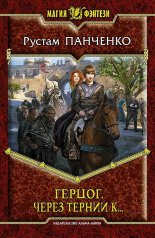Школа жизни. Честная книга: любовь – друзья – учителя – жесть (сборник) Быков Дмитрий

При этих словах директор сразу принял сторону учителя, начал поддакивать ему, для убедительности приложился еще раз носом к листу бумаги. За партой кто-то ехидно хихикнул в кулачок, а Василь Петровичу того и нужно было. Он продолжал разносить в пух и прах юное дарование:
– Что ж там, в газете, дураки, что ли, сидят? Сразу догадаются, что автор этих стихов (кстати, недурственных) курит с пяти лет… Посмотрите на него! Он уже позеленел от табака! Его впору самого засушить под навесом и измельчить на махорку!
И пошло-поехало! То прямой дорогой, то пересеченной местностью. Укатал математик лирика вдрызг!
Аким Григорьевич был добрее. Старался притушить пожар страстей и сгладить резкость упреков. Даже все-таки посоветовал послать стихи в «Пионерскую правду».
– Может, и напечатают, – подмигнул он мне одобряюще.
Правда, однако, оказалась на стороне учителя математики: стихи мои не опубликовали, хотя ответ из газеты пришел. В нем ничего не говорилось по поводу курения, как, впрочем, и о качестве стихов. Витиеватым тоном литературный сотрудник газеты Моткова (инициалы, к сожалению, запамятовал) намекала мне показывать во всем пример другим ребятишкам, к чему, собственно говоря, призывал и Василь Петрович.
Светлана Муромцева
Он ведь с красным знаменем цвета одного!
Октябренком мне быть не довелось. В городке Острино в октябрята вступить я не успела, а в Минске процесс политизации первого «Д» класса, по-видимому, уже состоялся до моего приезда. Опоздала. Ко времени моего появления в Минске все одноклассники уже были украшены красной звездочкой с анодированным, ядовито-желтым кучерявым Володей в центре. У меня звездочки не было. Как принимают в октябрята, я потихоньку выяснила у соседа по парте. Оказывается, надо, чтобы был важный праздник 7 Ноября. В этот великий день, по словам Миши, требовалось прийти в школу нарядным, чисто вымытым и принести с собой эту самую звездочку. Потом на торжественной линейке такие же нарядные и чистые пионеры, то есть практически уже взрослые, состоявшиеся люди, прикалывают к твоему передничку красную звезду. И все: ты уже октябренок.
Несколько удивило то, что звездочку надо было принести с собой. Мне казалось, что это орден, которым должны торжественно награждать. То есть подарить, как дарят все нормальные ордена и медали. Второе. Где взять такую вещицу? Неужели столь важные ценности могут запросто продаваться в магазинах? Если да, то в каких? Не в гастрономах же. И главный вопрос: мне что, ждать опять 7 Ноября?! И целый год ходить неизвестно кем, быть каким-то изгоем?
Спросить у строгой Натальи Петровны, как мне быть, и в голову не приходило. Еще выяснится, что я вообще не имею права ходить в класс, где все, кроме меня, – октябрята.
Отсутствия на мне звездочки никто не замечал. Более того, я увидела, что некоторые одноклассники не всегда надевали этот знак отличия.
Мой старший брат первые пять классов учился в городе Дрогобыч, на западной Украине. Там у них вообще все было по-другому. И потом, он был уже настолько старым пионером, что даже красный галстук носил преимущественно в кармане. К нему со своими вопросами не подойдешь: обсмеет.
Так я и мучилась в одиночку, ощущая себя неполноценным человеком, да к тому же обманщицей.
Мучиться пришлось долго: аж до следующего великого праздника – Первое мая, с которым ко мне пришла настоящая беда. Наталья Петровна объявила, что состоится общешкольная торжественная линейка, на которой надо быть при полном параде. То есть опять-таки: чисто вымыть руки, уши и девочкам завязать исключительно белые банты на головах (даже тем, которые носили стрижку), надеть белые парадные передники и – обязательно! – приколоть октябрятскую звездочку. Вот ее, звездочку, не забыть ни в коем случае!
Вот так дела… Мало того, что у меня просто не было этой чертовой звездочки, так я еще и не имела права ее носить. Наверно, не имела. И не скажешь никому: тогда всё обнаружится и величайший позор обрушится на мою бедную голову. На линейку меня точно не допустят, даже если я вымою руки и уши не просто мылом, а со стиральным порошком.
Прибежав домой, я быстренько кинулась перебирать мамины брошки: вдруг да найдется что-то, напоминающее звезду. Одна ерунда всякая: какие-то цветочки, квадратики, бантики, да и те – синие, зеленые, фиолетовые. Ничего пятиугольного и красного не было. Попался на глаза большущий кусок янтаря, привезенный летом из Паланги! Вот оно! Он был темно-оранжевым, почти красным и размером как раз таким, как надо!
Вытащив папины тиски, не без труда я присобачила их к кухонному столу (семилетний ребенок, девочка!). Зажав с трудом в тисках кусок янтаря, принялась треугольным рашпилем выпиливать из него предмет нужной формы. Дело оказалось не таким уж простым: рашпиль царапал янтарь вкривь и вкось, отчего тот становился некрасивым, тусклым и никак не хотел напоминать звездочку. За этим занятием, всю грязную, лохматую, исцарапанную и мокрую от трудового пота, и застал меня брат. Пришлось сознаваться.
Хорошенько отсмеявшись и подняв с пола выроненный от смеха портфель, брат куда-то ушел. Вернулся быстро. На его раскрытой ладошке прямо перед моим носом сверкала настоящая октябрятская звездочка, которая и была мне немедленно вручена. В ответ на мой идиотский вопрос:
– А имею ли я ПРАВО ее надеть? – последовал очередной взрыв братского хохота:
– Цепляй на грудь, да и носи! Нужна ты им…
Мой мудрый брат был старше меня на целых пять лет, в том далеком 1965-м он многое понимал и уже знал настоящую цену разным вещам, про которые я по малолетству понятия не имела.
И вдруг наступила весна! Яркое майское солнце било толстыми лучами прямо на стол, где валялся испорченный янтарь. В открытую форточку, вместе с громким пением птиц, ворвался теплый свежий ветер, на мокнущей в стакане ветке раскрылись настоящие маленькие зеленые листья! Мир опять сделался большим и красивым.
На первомайской торжественной линейке я стояла в белом переднике, на голове красовался огромный белый бант, а на моей груди сверкала новенькая звездочка. И я поняла важную вещь: счастье в том, чтобы быть как ВСЕ.
Потом принимали в пионеры. В первый эшелон меня не записали, несмотря на то что я училась хорошо и ничего не нарушала.
Потом опять принимали в пионеры, а я простудилась и проболела это событие, отлеживаясь дома с перевязанным горлом.
И потом принимали в пионеры уже последних: второгодников, просто двоечников, нарушителей и прочий асоциальный элемент. По злой иронии судьбы я опять болела – на сей раз каким-то гастритом.
Так мне и не удалось стать пионеркой, несмотря даже на то, что «Клятву юного ленинца» я заранее добросовестно выучила: к тому самому, первому разу…
Когда же наступил очередной «великий праздник» и было велено прийти на праздничную линейку в парадной форме и – естественно – в отглаженном пионерском галстуке, я спокойно пошла в магазин, заплатила семьдесят копеек и купила себе галстук. Даже отглаживать утюгом его не стала. Так и алел он на мне, изгибаясь во все стороны девственными магазинными изломами. И мне было нисколечко не стыдно.
К десятому классу, уже будучи комсомолкой, я поняла, что в этой стране все можно делать понарошку. Не просто можно, но даже нужно. Кругом было вранье. Тот, кто врал наиболее красиво и убедительно, жил лучше, чем те, которые врать не умели или не хотели. Тот, кто не только не врал, но и пытался говорить правду, из страны изгонялся с позором. Как Солженицын, чье имя учительница Наталья Петровна произносила шепотом, говоря о «запрещенной литературе».
И вся страна годами наблюдала за тем, как взрослый и даже старый человек цеплял на себя звезды совсем не октябрятские. Был он в той стране главным. И потому над ним смеялись потихоньку, беззвучно.
Аннета Мейман
Когда бьют – больно, а когда молчат – больнее
Я пошла в 5-й класс в 60-м (неужели это было так давно?!). И почему-то именно в этот момент у меня возникли проблемы с самооценкой. Я была худенькой, невысокого роста, с толстенной, до попки, косой и веснушками по всему лицу. Мнения по поводу моей внешности в нашей семье кардинально расходились. Папа считал, что я красавица. Мама же, глядя на меня, вздыхала:
– И в кого ты такая уродилась? Конечно, не в меня, а в папину родню. Такая же страшилка, как и его сестренки.
Еще за мою любовь к некоторым старым вещам она называла меня «синим чулком». Например, сколько раз прятала и даже пыталась выбросить обожаемый мной китайский синий берет с красными бабочками, которые победно летали над моей головой, удерживаемые лишь фетровыми ножками! И почему-то не хотела понимать, как сказочно все, что с ним связано. Как-то, когда я в своем любимом берете вместе с мамой ехала в вагоне метро, к ней стал приставать чужой дядька. И ужасно противным голосом на весь вагон сказал: «Что это у такой красивой женщины такая некрасивая дочка?» А мама даже не заступилась за меня… «Ну и что, что некрасивая, – успокаивала я себя. – Ведь я еще ребенок, могу и измениться».
Раньше в нашей жизни все было хорошо и просто. Я, мама и папа, дедушка и бабушка жили все вместе в центре Москвы в замечательном, полном тайн желтом доме с белыми колоннами, что на углу Волхонки и улицы Маршала Шапошникова. А напротив, прямо через дорогу от нашего дома, за красивой металлической оградой возвышался роскошный особняк. Это был Музей изобразительных искусств им. Пушкина. Туда меня и детей из ближних домов пускали без билетов. И мы играли в больших залах музея в казаки-разбойники, рисуя мелом на полу указательные стрелки. Я пряталась за египетскими надгробиями и с замиранием сердца следила, чтобы меня не нашли, перебегая от одного места к другому. Случалось, эти стрелки выходили на улицу и вели всю нашу компанию к Цветному бульвару и на Арбат, за что родители нас ужасно ругали.
Когда мама особенно сильно сердилась на меня, и все могло закончиться поркой, я убегала и пряталась у маминой подруги тети Зины, которая жила в нашем доме, в своей мастерской в полуподвале под аркой, где на стеллажах стояли ее скульптуры, и там пережидала грозу.
Но вдруг неожиданно умерла бабушка. И сразу вся жизнь полетела кувырком. Мама стала ругаться с дедушкой. Папе от работы дали квартиру, и мы уехали в Тушино, на улицу Свободы. С чем я никак не могла смириться.
Размышляя как раз на эту тему, я в первый раз подходила к своей новой школе № 820. У входа стоял крупный мальчишка – Васька-Сыч, как я потом узнала, – с двумя шестерками и отбирал у тех, кто послабее, деньги. И никто даже не пытался протестовать. Меня это так возмутило, что я решила: буду стоять насмерть!
Ко мне подошли два парня, которым я была по пояс:
– Ты что, малявка, новенькая? Давай-ка, быстро плати за вход.
Один из них обошел меня со спины и попытался схватить за косу. Тогда, не долго думая, я подпрыгнула, и изо всех сил вцепилась в лицо стоявшему напротив горе-грабителю, и висела на нем, царапая его лицо. От неожиданности и боли он стал кричать. Двое других, щедро осыпая меня тумаками, пытались меня от него оторвать. Но не тут-то было! Услышав крики парня, на крыльцо выбежала завуч. Тут массовка быстро рассосалась, и на поле боя остались только я и расцарапанный верзила, истошно вопящий:
– Спасите, уберите от меня эту сумасшедшую!
Завуч за ухо оторвала меня от него и велела нам обоим следовать за ней. В этой школе было два завуча: Рыжая – добрая и Черная – ну очень злая. Именно злой – Черной в первый же день я и попалась. Верзилу завуч сразу же отправила к медсестре. Потом она повернулась ко мне:
– Ты кто?
– Я новенькая. В пятый класс.
– Не успела прийти в школу и уже отличилась! Сейчас ты идешь в свой 5-й «А», а завтра жду твоих родителей.
Я поднялась на второй этаж и пошла по длинному, залитому солнцем широкому коридору к двери в неизвестность… Урок уже начался. Я растерянно стояла у входа, не зная, куда сесть: почти все парты были заняты. Вдруг рыжая девчонка, сидящая за четвертой партой в левом ряду, вытолкнула свою соседку так, что та чуть не упала на пол, и громко сказала:
– Иди сюда, садись со мной.
Я с облегчением вздохнула и прошла на свое новое место. Так началась моя жизнь в Тушине. Препод по имени Александр Александрович сразу вызвал меня к доске: доказать какую-то теорему. Я никогда не учила доказательства: мне это было скучно. Но всегда как-то выкручивалась, доказывая теоремы по-своему. Так же я поступила и на этот раз. Ал-Ал, как сокращенно его про себя назвала, окинул меня ироничным взглядом:
– Ну, что ж, барышня, четыре за сообразительность, но все же я бы вам рекомендовал материал учить.
Остальные уроки прошли достаточно весело. Моя соседка, которую звали Галя, и на переменках, и на уроках вводила меня в курс школьной жизни. Оказывается, в этом классе была группа девочек и мальчиков, у которых родители занимали высокие посты. А у одного из них, мальчика с большими черными глазами по имени Валя Подерин, папа был известным писателем и имел две машины. Меня это как-то не впечатлило: родители давно мне объяснили, что наличие у моего папы личного шофера и высокой должности не дает мне повода считать себя чем-то лучше других. Ну, я как-то и не стремилась в число классной «элиты».
Васька-Сыч с приятелями делали вид, что в упор меня не видят да и раньше никогда не видели. Более того, они не только никогда ко мне не подходили, но даже тех, кто шел рядом со мной, не трогали. Так что некоторые стали у входа в школу делать вид, что они мои друзья.
После прихода родителей в школу по вызову Черной месяца полтора прошли относительно спокойно. И вдруг меня на переменке вызвал из класса мальчик, передал записку и, сказав, что будет ждать ответ, отошел к окну. Записка была от того самого Вали Подерина, у которого черные красивые глаза и папа – писатель. Раньше у меня приятелями были дворовые мальчишки – в их компании я играла, лазала по деревьям и крышам домов на любимой Волхонке. И вдруг: «Давай с тобой дружить, мне без тебя не жить. Я буду очень рад видеть нежный твой взгляд»…
Я покраснела до корней волос и в полном смятении спряталась в классе. Мне почему-то было ужасно стыдно, записка жгла руки. Исписав и изорвав немыслимое количество бумаги, вся перемазанная синей пастой от шариковой ручки, когда уже за окнами потемнело и в школе зажгли свет, я, наконец, оглядываясь по сторонам, как преступница, вышла из класса. Тот же самый мальчик, что принес записку, по-прежнему стоял у окна и ждал. Я с колотящимся сердцем подошла к нему, протянула свою записку с ответом и мгновенно умчалась, съехав по перилам. Плодом моего эпистолярного творчества явилось вымученное послание: «Я согласна с тобой дружить. Но только так же, как со всеми девочками и мальчиками нашего класса».
Приближался конец четверти, и надвигалось родительское собрание. И вот этот день наступил. Мои родители решили пойти на собрание вместе. Я осталась дома и, сидя за фоно, старательно разучивала вальс Шопена, готовясь к экзамену в музыкальной школе Дунаевского, в которой параллельно училась. Родители что-то задерживались. Я даже подумала, что они пошли к кому-нибудь в гости. Вернулись они какими-то мрачными. И я не могла понять, в чем дело: отметки у меня были хорошие, к поведению после той истории с компанией Васьки-Сыча больше претензий не было.
Как самый дипломатичный, первым со мной решил поговорить папа:
– Доченька, какие у тебя проблемы с Валентином Подериным?
Меня всю как огнем обдало:
– Он мне написал записку, а я ему ответила. Вот и все.
Папа нахмурился:
– Но на родительском собрании выступила мама Валентина и попросила оградить ее сына от нашей дочери. Она утверждает, что ты ему каждый день звонишь и требуешь, чтобы он шел с тобой в кино и покупал тебе конфеты. Мы что, не даем тебе конфет или в чем-то отказываем?
Я видела, что папа сильно расстроен:
– Папочка, я никогда ему не звонила. Честное слово!
К моему удивлению, мама вдруг за меня заступилась:
– Если девочка говорит, что не звонила, значит, не звонила.
Папа набрал телефон Подериных. И женщина, которая, не задумываясь, опозорила чужого ребенка перед родителями всего класса, услышав мой голос в телефонной трубке, тут же извинилась, признав, что звонил им кто-то другой. Но о ее извинениях кроме моих родителей так никто и не узнал.
На следующий день весь класс стоял в два ряда в коридоре перед дверью классной комнаты. Я шла через живой коридор, в начале которого стояли Валька Подерин и его ближайший друг Мишка Славин. Они попытались меня остановить. Но я, гордо подняв голову, прошла, не отвечая, мимо: я никому ничего не хотела объяснять…
Тогда я не знала слова «обструкция», но что это – почувствовала на своей шкуре: со мной почти все перестали общаться, а по школе гуляли слухи, что я обрываю телефон Вальке Подерину, а Галя – Мишке Славину.
Злая Черная разбираться, кто прав, кто виноват, не стала, отреагировала по-своему: вызвала наших родителей и заявила им, что девочки дурно влияют друг на друга. И Галю перевела в немецкий класс 5-й «Б». Теперь Галя училась на первом этаже и каждую перемену бежала ко мне на второй. Мы демонстративно под руку ходили по коридору все перемены.
В классе я оказалась совсем одна. А Мишка Славин меня начал преследовать и при большом скоплении школьного народа все время говорил что-то обидное. Я решила, что не стану жаловаться родителям, а сама с ним разберусь.
Я собрала все свои ценные вещи: велосипед, коньки, лыжи – и спрятала, а родителям сказала, что потеряла. Потом все это богатство подарила Лиде из моего класса. Она была крупная и очень сильная девочка, но училась плохо, была второгодницей, над ней все насмехались и никто с ней не дружил. Я же стала помогать Лиде с уроками, а та стала верным моим пажом и телохранителем. Сколько раз она появлялась вовремя и меня выручала! Теперь в школе уже никто не мог безнаказанно меня обидеть. А Мишку Славина после очередных его издевок в мой адрес при большом скоплении народа Лида отмутузила и скрутила ему руки за спиной, а я тонкой кожаной перчаткой отхлестала его зловредную физиономию, приговаривая:
– Будешь уважать девочек, скотина (ну просто как в моем любимом фильме «Мичман Панин» – «Будешь замечать офицера, скотина!»)!
Фильма этого, похоже, Мишка не видел, а если и видел, то в тот момент аналогии не понял. Но от меня отстал.
А к концу учебного года папе дали квартиру в центре Москвы, и мы переехали в Фурманный переулок. Там прошли счастливые годы моего взросления. Туда из роддома номер один я привезла своего первенца… Только это уже было в другой жизни. А та, тушинская, горьким осадком осталась в памяти навсегда.
Алексей Завьялов
Утро в сосновом бору
В нашей волости, Сондоге, что в Вологодской области, в начале шестидесятых была только начальная школа – четыре класса, а потом все шли в восьмилетку за тридцать километров на Вожбал. Жили там в интернате, а в субботу после уроков бежали домой. В воскресенье после обеда возвращались. И так весь год: и в мороз, и в дождь, и в грязь со снегом, по тракторной дороге лесом, гатями. Зимой иногда нас подвозили в санях на тракторе, но половину дороги все равно приходилось бежать, чтоб не замерзнуть.
Нас у родителей было четверо: три брата и младшая сестра Света. На Вожбале пришлось поучиться только старшему, Саше. Полтора года он там отбыл. А начиная с моего года родившихся в шестидесятом стали отправлять в райцентр, что за семьдесят километров, в Тотемскую школу-интернат. С Вожбала-то на каждый выходной домой можно было прибежать, а из Тотьмы – только на каникулы.
Начальную школу я окончил почти отличником (чистописание хромало) и в интернате год еще по инерции хорошо учился, хотя мысли были больше о доме и о еде, а не об учебе. Народ в интернате собирался самый разный. Были там и детдомовские, были и из детских колоний, была тотемская блатная шпана, ну и мы, деревенские, мужики. Воспитатели и учителя подобрались хорошие, нормальные люди, желавшие нам добра и жалевшие нас.
После зимних каникул, на третий день, я сбежал. Накопил хлеба, украл два кухонных ножа в столовой (от волков). За картиной Шишкина «Утро в сосновом бору», что висела напротив кабинета директора, я оставил записку, чтоб меня не искали: «всё равно не найдете». Морозы стояли ночами за тридцать градусов. Добирался я по узкоколейке на лесовозах. Выловили меня только утром следующего дня в лесопункте Крутая Осыпь, это за семнадцать километров от дома. Там бы уже пешком пошел и дошел бы – мы подготовленные все были, не мороз это был для нас и не расстояние (знайте, дети, любой пятиклассник может пройти 17 километров по тридцатиградусному морозу). А в Осыпи меня уже ждали: директор с воспитателем (они на машине по зимнякам доехали) и отец на лошади с санями. Родные из-за меня натерпелись.
Меня отпустили домой на неделю. Святые люди! Тогда-то я обрадовался, но зря они это сделали (хотя если б не отпустили, то снова бы сбежал). У них не было выбора, наверное, но они создали прецедент (как сейчас говорят) – в интернате начались побеги, порой с драматическим и даже трагическим исходом.
Вот Серега Ульяновский ушел весной в свою Тарногу – сто километров по бездорожью, дошел, но стоптал ноги так, что отслоилась кожа на пятках, а две девчонки замерзли на дороге зимой в сорокаградусный мороз, не дойдя до дома километров десять из сорока: сели отдохнуть… Говорят, какой-то говнюк на бензовозе не взял, хотя они и голосовали. Да хоть бы и не голосовали! Моего младшего брата Ивана тоже через год сняли с лесовоза: моим проторенным путем пошел.
А учеба? Да какая там учеба! Три года я отбыл в интернате, брат Ваня – два, Саша – два с половиной, его после моего побега тоже перевели в тотемский интернат, чтоб мне было веселее. Сестре не пришлось, к счастью, – семья переехала в Тотьму. Учились ни шатко ни валко: все дни считали до каникул, вычеркивали в календаре. Нас, сондогских, вместе с девчонками было человек двадцать. Мы держались все вместе. Скидывались, у кого были деньги, и на всех покупали в пирожковой булочки.
В город было опасно выходить. Тотемская шпана лютовала: братья Тиховы, Цыка, братья Хрычи, Суббота, Аника – всех не помню. Они все с ножичками ходили, многие через колонии прошли, могли подколоть или запинать до полусмерти. Были случаи. Мы их побаивались, но все равно делали вылазки, – по двое, перебежками, от угла к углу. Городские шарой ходили, жестокие были, звери. Из тюрем не вылезали, многие там и сгинули. Мы в драки с ними не ввязывались, да и драться-то не умели. Мы и драк-то до интерната не видали: у нас в деревне как-то все мирно жили, мужики даже по пьянке не дрались. Недавно один старик сказал: как в лукошке там жили.
До сих пор у меня к Тотьме нет теплых чувств, хотя столько лет прошло. Не было там праздника без поножовщины, чтоб кого-нибудь не убили или не покалечили. Многие имели тюремный опыт, молодежи было у кого учиться. Север. Кругом зоны и поселения, леспромхозы с вербованными, бывшими уголовниками. По Тотьме и мужику-то не местному опасно было ходить даже днем – законы действовали тюремные.
Голодные мы были всегда. Лет десять назад Ванино письмо на чердаке родительского дома нашли. Ваня пишет, что живем хорошо, учимся тоже, ну и все такое на страницу, а в конце приписка, чтоб прислали «мяса печеного и паренцы (пареная репа). Побольше». Передачи нас выручали, мы их все вместе ели.
Кормили нас в два захода: вначале младшие классы, потом мы. На обед отпускали после последнего урока, а на ужин – после домашней подготовки. Толпа из всех классов вначале сбивалась, неслась, как голодное стадо, вниз по широкой лестнице, потом сужалась в коридоре к столовой, размазывая зазевавшихся учителей по стенам, а потом ломилась в узкую дверь, за которой была крутая лестница вниз, шесть ступеней. Протиснувшиеся, продавленные напором толпы ученики сразу валились, прыгали вниз, но внизу были еще одни узкие двери, – создавалась буферная подушка из тел, поэтому травм особых не было. В столовой порядка было больше, так как места за каждым классом и учеником были закреплены, и можно было тем, кто дежурил по столовой, «паснуть» другу побольше еды.
Очень жалко было детдомовских ребят из младших классов. У нас родители, дом, мы на каникулы домой, а они весь год там, и передачку им никто не пришлет, голову не к кому приклонить. Мы некоторых подкармливали и старались быть с ними приветливыми. Помню, в первый класс пришел Гоша из детдома – крепыш такой, рыжий, на моего брата Ваню, что дома остался, похож. Мы спрашивали его: «Гоша, ты почему такой рыжий?» – «Я, – отвечал, – трактор ржавый проглотил». Он так «р» выделял, будто недавно выговаривать стал. Я его очень жалел, делился иногда, чем мог. До сих пор их жалко. Как будто долг какой-то перед ними.
Да, еще об учебе. Помню, в пятом классе, в начале зимы я заболел, температура высокая. С температурой пришел вечером на подготовку домашнего задания, мы все вместе его в классе делали, так мне старожилы у виска пальцами крутили: радовался бы да лежал в спальне. А я тогда не мог, но через год уже мог.
Детдомовские и те, что из колоний, ушлые были. Мы с ними не так боялись в город выходить. Они нас учили фене, учили воровать пирожки в тотемских столовых. Меня Васька Антонов натаскивал, я несколько украл, каюсь: на десять копеек покупали пару, а два-три еще в карманы совали. Возможно, женщины столовские видели это, но закрывали глаза, жалея нас, «инкубаторских», голодных.
Разные в классе были ребята. Были и одаренные. Вот Толик Красильников из Великого Устюга почти не занимался, но контрольные по физике и математике за десять минут решал, а потом нам помогал. Все мастерил что-то, красивые перстни напильником вытачивал из бильярдных шаров, наушники делал в коробках из-под гуталина – магнит, обмотка из медного провода, мембрана. Мы радио слушали, закинув из форточки на уличные провода один выход, а другой, землю, к батарее прицепив. Но психованным был, учителям грубил, и в седьмом классе его в колонию упекли. Яшка Коротаев из Тарноги ночами книжки у окна под уличным фонарем читал. Музыканты были. Был и свой вечный второгодник, Коля Некипелов, на задней парте сидел. Мы учились в пятом, а он должен был быть уже в восьмом. Такой мужик! Голос уж сломался, но добродушный, никого не обижал. Учитель пения ему говорит: ну, «недокипяченный», иди, пой. Коля только лыбится, а мы ржем. Он редко в классе появлялся: кочегарам помогал уголь таскать, они его подкармливали.
В седьмой класс к нам из детской колонии поступил Толик Федосеев, отец его привез. Такой небольшого роста паренек, и не качок, а дрался как в кино. Жил независимо. Никого не трогал, справедливый был. Блатные старшеклассники Япончик, Макака, Боцман, Баланда его однажды в коридоре возле туалета поучить смирению решили. Рожи у них после этого неделю светились, у Макаки два ребра было сломано, у Боцмана нога не гнулась, а у Толи – ни царапины! Его даже тотемская шпана боялась, черным дьяволом звали, он в черной кожаной куртке ходил. На поговорку «дают – бери, а бьют – беги» он говорил: не побегу. Смелый был парень. Потом его отец забрал. Интересно, как сложилась его судьба?
Зимой в спальнях было холодно, вечно пьяные кочегары топили не очень и плюс высокие потолки и большие окна – это был старый купеческий дом, да и зимы здесь морозные. Спали под двумя байковыми одеялами и простыней вместо пододеяльника. С простыней теплее, хотя она и тонкая, но воздушная прослойка сохраняет тепло, греет (так нас учили воспитатели, и это действительно так). А вот в Вожбальском интернате, где пришлось поучиться брату Саше, зимой спали в одежде под тюфяками, все вместе, так теплее (наверно потому, что простыней у них не было). Сдвигали кровати и освободившимися тюфяками укрывались, а на полу делали ледяной каток, чтобы быстрее добираться до своего места.
Раз в полтора месяца каждый класс, начиная с пятого, дежурил неделю по столовой. Там приходилось делать все: от самой приятной работы – хлеборезом – до мытья посуды. Очень много посуды. Меня часто ставили хлеборезом: я умел ровно половинить буханку, а потом каждую половину разделить на восемь равных кусков. Вася Климов с клинообразной, вечно стриженной головой (мы все там часто ходили стриженными наголо, чтоб вши не заводились) под общее восхищение колол об свою макушку крупную картошку – пополам! А парикмахеры обычно появлялись неожиданно, и всегда на вечерней подготовке, чтоб никто не сбежал. Дверь запиралась, и, пока карнали первого несчастного, мы судорожно чесали головы гребнями, выхватывая их друг у друга, чтоб доказать, что у нас вшей нету. Но гниды-то все равно оставались. Коля Конев вычесал однажды сто двадцать пять вшей, мы считали, пока его не увели под наши восторженные возгласы. Такой рекорд и слава! Коля остался навеки в нашей памяти, многое уж забылось, а это нет.
По воскресеньям нас строем водили в кинотеатр. Я до сих пор не люблю смотреть кино в кинотеатрах, в темных залах, хотя сам много лет работал киномехаником, в том числе и в том самом кинотеатре. Я не любил то удручающее состояние, когда выходишь на улицу из темного зала, где два часа был в каком-то другом, ярком, захватывающем, нездешнем мире, а этот, реальный, сильно проигрывает киношному. Я и сейчас иногда испытываю нечто похожее: по сравнению с кино мир статичен, малоподвижен. Я сейчас понимаю, что это хорошо. Но хорошо, когда ты свободен, а тогда было только плохо, потому как тянулось долго. Тогда, в школе-интернате.
До интерната мир был лучше кино. Выходя после фильма из деревенского клуба, мы возвращались к жизни счастливой: стоял родительский дом, падал снег или солнце светило, все было хорошо! Паслись овцы, шли коровы, текла река, в реке – рыба, дома ждали родители, бабушка с дедом, в печке – каша, стояла школа с первой учительницей, доброй Галиной Васильевной, за деревней – бор с грибами и ягодами. И уже никогда не вернуться в тот красочный, полный жизни мир детства…
Недавно был в Тотьме, зашел в интернат – там сейчас сельскохозяйственный лицей. Ком к горлу. Батареи под окнами всё те же, мы около них вечерами грелись, паренцу жевали. Напротив кабинета директора – глазам не поверил – так и висит картина «Утро в сосновом бору». Я даже невольно проверил: не там ли моя записка? В конце коридора к столовой все такая же узкая дверь, но новая. Добрый охранник, выслушав про мою здесь учебу когда-то и про коридор этот, сказал, что сейчас в столовую можно зайти с улицы и пообедать недорого. Да только вот есть расхотелось…
Юрий Лукин
Про физику и многое другое…
От слова «косинус» во мне тоска и трепет, как от всего, что не вмещает разум. Из теорем помню лишь про квадрат гипотенузы, да и то благодаря анекдоту про Пифагора. Но физика…
У физики был шанс стать одним из любимейших моих школьных предметов, когда я впервые увидел Его.
Какой размашистой энергичной походной Он вошел в наш класс Кушвинской средней школы № 3, что в Свердловской области, с какими интонациями гулкого бархатистого голоса объявил физику важнейшей из наук!
Каждый Его урок был потрясающим спектаклем, где все крутилось, вертелось и даже закручивалось вокруг Него – худощавого и нескладного двадцатидвухлетнего выпускника Нижнетагильского пединститута, с горящим взором подвижника и сеятеля Доброго и Вечного на ниве народного просвещения!
Он неизменно начинал с фразы: «На все, что происходит в жизни, физика задает вопрос: “А почему?!” При этом дугой оттопыривал указательный палец, подносил его к правой щеке и, вывернув руку кругообразным движением, с силой втыкал в ближайшую горизонтальную поверхность – чаще всего в столешницу второй парты среднего ряда, отчего Ленька Большаков сперва вздрагивал, а потом целый месяц таскал с собой стыренную у младшеклассников чернильницу-непроливашку, и – что самое удивительное! – сумел-таки однажды подловить физика. Физик, кстати, на наш взгляд, повел себя не совсем адекватно: всего лишь удивился, обнаружив на пальце нечто, вернул чернильницу Леньке и протер палец носовым платком, не переставая интригующим, как у Пуаро Агаты Кристи, голосом рассказывать историю про буравчик.
После первой четверти он уволился по собственному желанию. Естественно, обстоятельства, мотивирующие это желание, мне неизвестны, но подозреваю, что таковое было прямым следствием фатальной ошибки: представляясь традиционным «Здравствуйте, дети! Я ваш новый учитель физики, а зовут меня…», помимо имени-отчества, он назвал свою фамилию: Вовкотруб. Имя-отчество из моей памяти стерлись, а то, как эта фамилия пишется, я узнал много позже. Думаю, некоторые из моих одноклассников по-прежнему воспринимают ее только по звучанию.
В 1973–1974 учебном году, когда некоторым еще казалось, что распад «Битлз» – чья-то неумная шутка, когда из каждого утюга с хрипами и всхлипами звучали «Дым на воде» и незабвенная «Шизгара», а переписать на магнитофон «Обратную сторону Луны» с пласта почиталось за счастье, когда «Марш рыбаков» Доривала Каимми перепевался пацанами во дворах словами «Погасло солнце, и в песках темно, прошедший день принес печаль, а генералы уже спят давно, и их мечты уносит вдаль», когда Костя Ионов, которого я знаю из прожитых пятидесяти пяти лет пятьдесят три года, играл в школьной группе «Квинта» на фирменной с виду гитаре (сделанной моим соседом по парте Сашкой Татауровым), – в третьей школе девятиклассники вели войну с учителями за право носить длинные волосы и покидали поле боя (временно) лишь из-за предательства коллаборационистов-родителей.
Я держался до последнего.
Обвинения в пресмыкательстве перед загнивающим Западом меня не впечатляли. Проживание в маленьком рабочем городке на Урале, куда ссылали столичных вольнодумцев, иногда провоцирует легкую нотку диссидентства в подростковом нигилизме.
«Тихое доброе слово» педагогов было слишком тихим по сравнению с тогдашними моими комплексами. Был я толстым и некрасивым, поэтому девчонкам хотелось нравиться более чем, а волосы у меня и сейчас пышные и шелковистые.
Родители работали по сменам, даже в детский садик из-за отсутствия мест меня устроить у них не получилось, и с трех лет я был предоставлен сам себе.
Конкретно удалось надавить на меня военруку Михаилу Егоровичу (за глаза – Горынычу) Храмцову: за ним стоял авторитет советской армии и реальная для меня перспектива в скором будущем на два года влиться в ее ряды. Но тройку по военному делу вряд ли можно засчитать его победой, а поскольку троек у меня в аттестате навалом, на Горыныча я почти не обиделся.
Более чем приблизилась к успеху завуч Балабкина, однажды заявившая, будто я своей прической напоминаю ей евнуха. Повторяю: я был тогда толстый и некрасивый, поэтому допускаю, что действительно напоминал. И это меня задело по-настоящему. До зубовного скрежета. До желания бросаться на стенку. До готовности кого-нибудь убить. Например, себя.
Спасла, как ни странно, общегородская допризывная комиссия. Проводили ее в Кушвинском ГПТУ, и это был классный перфоманс времен развитого социализма: штук двести шестнадцатилетних гавриков голыми слоняются по актовому залу от стола к столу, за которыми восседают узкие специалисты в белых халатах… И вот когда я стоял перед пожилым и невеселым хирургом, меня и осенило попросить заверенную его личной печатью справку, согласно которой с репродуктивными органами у меня все в порядке. Дядечка просветлел лицом, не чуждый, как выяснилось, того специфического юмора, который отличает медицинских работников от нормальных людей, справку мне выдал с легкостью и, я бы даже сказал, с радостью.
В день, когда справка была предъявлена по назначению, наша классная вошла в кабинет, сгибаясь пополам от смеха, и выгнала меня с урока. Под предлогом, что мое присутствие мешает ей сосредоточиться и абстрагироваться от пережитого в учительской, где Ирина Николаевна Балабкина долго и весьма нелестно выражалась в мой адрес, пока ей кто-то не посоветовал ни в коем случае не озвучивать столь сильных выражений в моем присутствии во избежание еще одной справки, согласно которой все, обо мне в сердцах завучем сказанное, мягко говоря, не будет соответствовать действительности.
В конце апреля, когда озабоченные моральным обликом советских школьников товарищи перестали обращать внимание на мои роскошные локоны, а я решил, что себе уже все доказал, я подстригся.
Есть мнение, что пионерская организация и комсомол были хорошей школой менеджмента и именно поэтому бывшие комсомольские активисты оказались неплохими бизнесменами. Признавая правомерность такой оценки, все-таки рискну предположить, что школой менеджмента комсомол был не ахти, судя по состоянию современной российской действительности, на фоне которой преуспевают отдельные господа из бывших комсомольских товарищей. Это во-первых.
А во-вторых, с раннего отрочества мне несимпатичны люди, выработавшие в себе умение держать нос по ветру и, пританцовывая от вожделения грядущих благ, двигаться в фарватере руководящей партии, как бы она ни называлась. Или это всего лишь бухтение неудачника, у которого не получилось стать бизнесменом или чиновником?
А не заладилось у меня с комсомолом опять-таки в школе – уже с процедуры вступления в его стройные и сплоченные ряды. На мою беду, приглашенный товарищ из горкома ВЛКСМ слишком ответственно отнесся к своей роли – потому, наверное, что его карьерный взлет только-только начинался.
Каждого из соискателей товарищ из горкома дотошно спрашивал про ведущую роль Советского Союза на международной арене, про решения Съезда КПСС, про комсомольскую символику и атрибутику.
Моей тогдашней эрудиции для ответов хватало, и это ему не нравилось. И прежде чем расписаться в списке рекомендаций напротив моей фамилии, он стал задавать самые «каверзные» вопросы:
– Скажите, юноша, какой праздник отмечает все прогрессивное человечество 1 Мая?
– 1 Мая все прогрессивное человечество отмечает праздник солидарности трудящихся, – не будучи еще комсомольцем, с комсомольским задором ответил я.
Товарищ нервно сглотнул и задал следующий вопрос:
– А какой праздник отмечает все прогрессивное человечество 14 июля?
Когда я ответил:
– 14 июля все прогрессивное человечество вместе с французским народом отмечает День взятия Бастилии! – товарищ из горкома не смог скрыть досады.
– Тогда скажите, молодой человек, какой праздник отмечает все прогрессивное человечество 18 марта?
Тут моя эрудиция дала маху, и я удрученно опустил голову.
Товарищ расслабился и отечески просветил бестолкового восьмиклассника:
– Запомните на всю оставшуюся жизнь, юноша: 18 марта все прогрессивное человечество отмечает дату начала Парижской Коммуны! – После чего с чувством глубокого самоудовлетворения расписался в рекомендации и отпустил меня из пионерской комнаты небрежным мановением руки.
Я запомнил и уже больше сорока лет 18 марта обязательно поздравляю всех со столь знаменательным событием.
Только вот когда кто-нибудь из нынешних политиков, чиновников или бизнесменов напоминает мне повадками комсомольского активиста, я становлюсь очень смешливым. Поэтому, наверное, у меня не получилось и уже никогда не получится стать политиком, бизнесменом или чиновником.
Да и не хочу, если честно. По профессии я учитель русского языка и литературы с тридцатилетним стажем, и быть учителем мне все еще нравится. Как нравится каждый будний день приходить в школу, где происходящее вокруг напоминает мне то, чем я был счастлив в своем детстве-отрочестве-юности.
Татьяна Мальцева
Танечка
Несколько лет назад я научилась свободно гулять по бескрайним просторам Интернета, освоила почту, завела странички в «Одноклассниках», «Моем мире», «Facebook», «ВКонтакте». Сидя у монитора, с замиранием сердца находила кого-то из старых знакомых, постепенно увеличивая их численность, даже считала – десять, двадцать, тридцать, сорок человек в друзьях. Этот процесс казался очень увлекательным, почти азартным. Каждый день новая встреча, письма… «А ты как? А как ты? А помнишь?..» Как-то в очередном рвении я зашла на сайт своей школы и в блоге одного из учителей увидела фотографии своих одноклассников, свою фотографию в том числе. Учителя, создавшего блог, я не узнала, вспомнила только, что именно эта женщина настойчиво предлагала мне дружбу в социальных сетях. Несколько раз я нажимала «Отклонить», потом перестала обращать внимание, как-то так все и закончилось.
Надо сказать, что многие люди моего поколения после распада СССР потеряли Родину, разъехавшись кто куда, пустили корни вдали от дома, поменяли гражданство. Так случилось и со мной. Я родилась в одной из республик бывшего СССР. Вышла замуж за военного и в 1987 году уехала с мужем и сыном служить в Германию там-то и накрыло нас известие о распаде Советского Союза. Возвращались мы уже с двумя детьми и не в СССР, а в Россию.
Забрав родителей из ставшей чужой мне Родины, я крепко захлопнула за собой дверь и стала осваивать новые просторы. Что-то получилось в моей жизни, что-то нет. Но все, что у меня есть, люблю и, как могу, стараюсь беречь.
На Родине я не была больше двадцати лет.
Редко вспоминала школу, в которой проучилась десять лет, еще реже – своих одноклассников, совсем не вспоминала учителей – я их благополучно забыла, всех! Почему? Да, наверное, потому, что в моей жизни никто из них не сыграл значимой роли. Никто не запомнился как талантливый педагог или врачеватель детских душ. А с одноклассниками не было романов, душевных разговоров, тайн с замиранием сердца. Мои подруги учились в других классах. Первый роман случился уже после школы. Я шла в школу, как на каторгу, и вприпрыжку бежала из школы домой, потому что у наших соседей была огромная библиотека, и мне было разрешено в ней жить.
Я была уверена, что меня так же никто не вспоминает.
И вот фотографии моих одноклассников, и под каждой имена: Саша Иванов, Сережа Гутман, Ира Смирнова, Катя Белова, Лена Конева… почти весь класс, и только под моей фотографией – Танечка (Сомова). Почему вдруг Танечка?! Кто эта женщина, создавшая блог? Учитель? Что она вела? Почему так активно пытается со мной «дружить»?
Я начала прыгать по страничкам и выяснила, что она заслуженный учитель, сейчас на пенсии, преподавала физику в нашей школе, самостоятельно создала блог для того, чтобы общаться со своими учениками.
И тут я вспомнила! Вспомнила и эту женщину, и историю, благодаря которой только под моей фотографией есть надпись «Танечка». История совершенно не выдающаяся – наверное, поэтому я и забыла всех ее участников.
Началась она в девятом классе, кажется, в конце второй четверти. Весь класс решил сбежать с физики и пойти в кино. Меня не спрашивали, пойду я или нет – это не обсуждалось, мое мнение не имело никакого значения. На физику не пойдет никто!
Может быть, если бы это случилось в другой день, я тоже с удовольствием сбежала бы с уроков, но в этот день я не могла не пойти на занятие. Я выучила урок! В отношении физики это случалось так редко, что пустить прахом свой труд я была просто не в состоянии. Сказать, что я не знаю физику, – ничего не сказать! Я абсолютно убеждена, что физику надо вести как факультативный урок, по желанию учеников. Хотя вряд ли такие желающие найдутся.
На физике я выезжала на контрольных, которые, конечно, писала не сама – списывала всегда! Давал списать отличник – получала пять, троечник – получала трояк. В итоге у меня выходила крепенькая четверка. Фантастика, но по физике у меня и правда всегда была четверка. Когда я чувствовала, что меня должны вызвать к доске, я срочно заболевала. Придя после «болезни» на урок и услышав «Сомова, к доске», я вставала и говорила, что только после болезни, знать не знаю, что задано на дом.
Но сколько веревочке ни виться, а конец все равно объявится. И этот конец был назначен как раз на тот самый день, когда мои одноклассники решили не идти на физику.
Физика была последним уроком – очень удобно, в школу возвращаться больше не нужно. Классная в очередной раз на больничном, в общем – зеленый свет по всей дороге от школы до кинотеатра.
Активисты «физиковой» забастовки уверенно уговаривали сомневающихся отличников в том, что всем двойки не поставят, а если и поставят, то только так, для острастки, а им, отличникам, и вовсе бояться нечего, «физичка» показатель успеваемости в классе снизить не посмеет.
– Я не пойду в кинотеатр, я пойду на физику. – Наверное, я сказала это очень тихо, потому что никто не обратил на мои слова внимания.
– Я пойду на физику. В кино я не пойду. – Кто стоял рядом, услышал, показывая на меня пальцем, стал кричать, чтоб услышали остальные.
– Сомова на физику хочет! Народ, хватит орать, Сомова не идет с нами.
Я оказалась в самом эпицентре землетрясения. Еще минута, и земля у меня под ногами обвалится, и я вместе с ней. Класс у нас был еще тот! Как-то в очередной раз, издеваясь над девочкой (она была просто крупнее остальных), мы облили ее маслом, надели на голову мешок и отлупили. Мальчишки – ногами. Я была вместе со всеми.
Вспоминать об этом сегодня стыдно, но это было.
На ее месте в тот день могла запросто оказаться и я. У меня не было свиты поклонников, я не могла похвастаться отличным аттестатом – в наше время это давало защиту: будешь наезжать на отличника – списать не даст. У меня не было даже такого друга, который бы впрягся за меня. Я стояла одна в орущей толпе и слушала, как мне будут отрывать разные части тела, если я посмею пойти на физику.
Объединенный в едином порыве против общего врага, мой класс отправился в кинотеатр, выкрикивая по дороге, что, мол, она не посмеет, пусть только попробует!
Как я решилась? Наверное, мне было трудно; не помню. Скорее, класс мне просто не оставил выбора: если бы я тогда на физику не пошла, меня бы начали так же травить, как ту девочку. Но я пошла. Физичка спросила меня, так, чуть-чуть, поставила пятерку и рассказала тему для меня одной. Она меня не хвалила, не ругала. Просто я пришла на урок, а она, учитель, этот урок провела.
На другой день я шла в школу умирать. Я сидела за партой, а вокруг меня бушевал класс. Причем я помню, что бушевали в основном мальчишки. Девчонки с презрительным видом предлагали объявить мне бойкот. Я сидела молча, каждую секунду ожидая подзатыльника сзади, но вместо подзатыльника услышала, как сказал староста Женька Дмитриев: «Она ведь сказала, что пойдет на физику. Отстаньте от нее». А потом начались уроки – первый, второй, третий. Все вели себя так, как будто ничего не произошло. На переменах ко мне никто не приставал, после уроков никто не караулил. Казнь была отменена.
На следующем уроке физики физичка рвала и метала. Всем поставила не по «единице», которую при желании можно исправить, а по «паре». Всем, и отличникам в том числе. Ругалась на чем свет стоит, при этом не забывала нахваливать меня, какая я умница, честная да порядочная. У меня началась на физике жизнь принцессы. За контрольные, даже те, которые я списывала у троечников, она ставила мне как минимум четверку, при этом те, кто давал мне списывать, сами получали честные трояки. Если подходило время вызывать меня к доске, она делала так: «К доске пойдет… пойдет к доске…». Смотрела на меня, я, естественно, стыдливо опускала нос в парту, и она называла любую фамилию, но только не мою.
Скажу честно, я долго не замечала такой перемены; скорее всего, поняла, что ношу корону, только в десятом. Наверное, поэтому вела себя тихо, скромно, без претензий на индивидуальность. Мои одноклассники не роптали, подлизой меня не называли, так же давали списывать.
Почему вспомнила эту историю? Потому что все как-то сложилось: огромные возможности Интернета, учительница физики, мой класс, с подачи которого я приняла первое в моей жизни трудное решение, и, конечно, подпись к фотографии «Танечка».
Ирина Завьялова
Детские судьбы и взрослые игры
Работая с 1985 года учительницей, понимаю, каким подарком в детстве была для своей классной руководительницы и вообще для школы, где училась. Сама удивляюсь теперь: в двенадцать-тринадцать лет ребенок сочинял и воплощал сценарии общешкольных праздников, литературных вечеров, а летом вместо какой-то официально оформленной дамы работал старшей пионервожатой городского лагеря («площадки»).
И, думаю, если б не произошла история, о которой я хочу рассказать (и, конечно, если б не «пятый пункт»), то наверняка сделал бы этот ребенок семидесятых карьеру – в масштабах Ленинграда, а то и до депутата Госдумы бы дотянул или до его помощника… Да… Но меня однажды «задвинули».
Я была членом совета дружины нашей петродворцовской школы, и мы периодически обсуждали рекомендации для приема в комсомол. Сама я уже стала комсомолкой. Помню, меня разочаровало собеседование в райкоме: мы учили Устав, конспектировали труды Ленина, выпытывали у старших ответы на каверзные вопросы, типа: «Сколько стоит Устав ВЛКСМ? Две копейки? Ты что?! Он бесценен. Ха-ха!..» А на меня там посмотрели, переглянулись, услышав фамилию, – и радостно объявили, что со мной все ясно: единогласно.
Чтоб не разочаровались другие, мы с «боевыми товарищами» стали требовательно подходить к обсуждению кандидатов и… почти никому не давали рекомендацию в ВЛКСМ: ведь у наших семи-восьмиклассников не сформировалось нужное для борьбы за коммунизм сознание… Вскоре мне шепнула наш организатор внеклассной работы Ирина Георгиевна, что ее отругали в райкоме за невыполнение плана приема в комсомол. Абсурдность ситуации для меня была очевидна. Меня это потрясло. Начитавшись книг про пионеров-героев (слава богу, школьный библиотекарь Инна Ефимовна подкладывала к «Улице младшего сына» «Кондуита и Швамбранию», а дома благодаря маме звучали Окуджава, Дольский и Высоцкий), я решила действовать.
В то время в 16.00 по радио шла передача «Ровесник», частым гостем которой был инструктор ЦК ВЛКСМ, толково отвечавший на волнующие нас вопросы. Туда, «дорогая передача», я и написала письмо, наполнив его болью за существующие (?) планы приема в комсомол.
В марте я собиралась в «Артек» – не от школы, а от моего отряда, победившего в телеигре «Один за всех – все за одного», в которую я втянула одноклассников.
…На днях мне исполнилось 50 лет. Мама принесла папку моих бумаг – дипломы победителя олимпиад, грамоты за отличную учебу и активную общественную работу, газетные заметки обо мне – участнике бардовских фестивалей (это уже студенческая пора). Между нами – конверт. В правом верхнем углу его – «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Под этим подчеркнутым призывом чернеет: Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз молодежи. Затем еще чернее, жирнее и крупнее: ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, ну и адрес отправителя: Москва, ул. Богдана Хмельницкого, дом 3/13. (Интересно вам, что там сейчас? Поселок Минвнешторга!)
Вот текст письма Исх. № 10/11:
Ира! В ВЛКСМ нет нормативных документов, устанавливающих план приема юношей и девушек в члены Ленинского комсомола, не высказывались и рекомендации по определению разнарядки на прием молодежи в ВЛКСМ.
Мы поручили Ленинградскому обкому комсомола внимательно разобраться с фактами, о которых ты пишешь, принять конкретные меры по повышению уровня работы комитетов комсомола по подготовке к приему в члены ВЛКСМ и дать тебе подробное разъяснение по поднятым вопросам.
Зам. зав. Отделом школьной молодежи ЦК ВЛКСМ С. Дармодехин.16.02.1978
Из-за ошибки в нумерации квартиры (небрежность секретарши?) письмо нашло адресата только в марте, за несколько дней до моего отъезда в Крым. Помню, что, вытащив его из ящика, я побежала к маме на работу, чтоб похвастать, что меня заметили в самой Москве. Что-то павлико-морозовское скребло в душе, но правда была на моей стороне! Я взлетела на чердак здания РОНО, где обычно до 22–23-х вечера работала моя мама, инспектор.
– Ты кому-нибудь показала письмо?
– Нет, я сразу к тебе.
– Ну вот, иди домой, спрячь его и никому не рассказывай. Иначе тебе не то что «Артека» – даже не знаю, что будет…
Как меня ни распирало, я продержалась – и через несколько дней уехала в лагерь. А к исходу смены пришло письмо от товарища по оружию, Светы Ш., из которого стало известно, что нашей пионерской дружине впервые за много лет не дают звания «Правофланговая». Виновата я, написавшая в ЦК какое-то письмо, из-за чего трясут наш райком.
Я вернулась домой. Мама грустно и твердо попросила меня не ходить никуда, куда б меня ни вызывали, и обо всем, что со мной будет, сообщать ей.
В первый же день в школе Ирина Георгиевна схватила меня, подкараулив у столовой, за шиворот, вбросила в свой маленький кабинет, закрыла дверь на ключ и стала «промывать мне мозги». Из ее ора я расслышала, что Александр Матросов не совершил бы своего подвига, если б не был комсомольцем, потому что он был плохим, а в комсомоле его исправили. Что планы есть, даже точные цифры – и они были мне показаны. И, устав от собственного крика, подытожила: к сожалению, исключить меня из комсомола они не могут (а я уже этого захотела), но уж общественной работой заниматься мне никто теперь не позволит. Меня изолировали. «Школа без тебя обойдется, а вот ты…»
Потом, через много лет, я узнала от мамы, что меня вызывали на заседание райкома комсомола, на какие-то совещания директоров, но ходила она, и ее вместо меня там «песочили», и что два директора из тринадцати после такого совещания пожали ей руку, а один из них – даже при всех! – посоветовал мною гордиться. Это была Вера Георгиевна Черкасова. (А шесть лет назад она ушла на пенсию, подготовила к блестящей сдаче творческого экзамена в университет мою дочь, и мы с ней, Почетным жителем Петергофа, иногда за кофе и коньяком вспоминаем дела давно минувших дней: оказывается, она сбежала из райкома на заре своей взрослой жизни, категорически не приняв этого, чем и какими методами он занимается.)
Конечно, сознание правоты и сочувствие друзей придавали сил, но теперь я понимаю, что должность мамы смягчила удары. Как понимаю, что взрослые нас обманывали и сами заигрались до искреннего лицемерия. И масштаб этой игры и этого вранья – целая страна…
Ирина Красильникова
Язык твой – враг твой
«Язык твой – враг твой!» – твердили мне, естественно, из самых лучших побуждений. Я всегда согласно кивала головой. Хотя… Как выяснилось, на латинском эта фраза звучала несколько иначе: Lingua est hostis hominum amicusque diaboli et feminarum – Язык – враг людей и друг дьявола и женщин. Только мне лично он другом так и не стал…
Баба Аня меня учила: «Все что-то обсуждают, а ты молчи, молчи». Учитель химии вторил: «Запомни, ты ничем не отличаешься от других детей!.. Только немного лучше рисуешь». «Ну вот, все дети как дети, а ты опять отличилась!» – вздыхала мама, в очередной раз посетившая школу по поводу моих «новых художеств». Лишь один папа, к счастью, ничего не твердил. Его нельзя было волновать такой ерундой, как мое школьное поведение: он в космос ракеты запускал.
Итак, хоть мне все и «твердили», и в 1979 году, в момент написания годового сочинения по окончании девятого класса нашей московской средней школы № 531 имени Героев Перекопа я была уже вполне взрослой и, казалось бы, должна была понимать, чем грозит «свободное волеизъявление», но… Вот уж тридцать пять с хвостиком лет я нет-нет да вспоминаю этот случай и в который раз задаюсь вопросом: что за странная муха цеце укусила меня в солнечный майский день 1979 года, на который и назначено было написание злополучного сочинения «Будущее моего города»? Могла ли я тогда – как все – «накатать» про высотные дома из стекла и бетона, чистые светлые улицы и счастливых людей, спешащих на любимую работу»? Могла! И… не могла одновременно. Потому что одна детская обида не давала мне покоя.
Была у меня с самого раннего детства – это лет эдак с четырех – заветная мечта: мультики рисовать. Но первое же наше с мамой посещение «Союзмультфильма» показало, что мечтать об этом мне, дочке инженеров, не стоит. Потому как в детский кружок рисованной мультипликации можно было попасть, только имея родителей-режиссеров или на худой конец какую-нибудь тетю Машу, виртуозно разливающую сок по стаканам в буфете Дома кино. Об этом и поведал нам тихонько руководитель кружка. «Ищите дядю-режиссера, – сказал он маме на прощанье. – И я с удовольствием возьму вашу девочку: у нее рисунки добрые и живые».
«Дядю-режиссера» мне-таки через пару лет отыскали: он в местном детском садике Дедом Морозом подрабатывал. Так что в кружок желанный я попала – правда, «переростком», – и долго еще с нескрываемым изумлением взирала на детишек режиссеров, от скуки пуляющихся на занятиях шахматными фигурками. Они ведь не по призванию сюда пришли, эти дети, не потому, что с «дядей Котеночкиным» хотели, как я, волка рисовать. Вот такая у меня была детская обида, и забыть ее, как мне этого ни хотелось, я не могла.
Итак, быстрехонько отстрелявшись в итоговом сочинении дежурными фразами про дома с яркими фасадами и простых советских трудящихся, разгуливающих в отпусках по цветущим садам далеких планет, я перечитала все написанное и… призадумалась. Как-то фальшиво у меня получилось, хотя вроде все было правильно и красиво написано. Нет, слишком много у нас еще несправедливости, чтобы люди ходили по улицам города с блаженно-счастливыми лицами, столь красочно мною описанными.
И черт-таки дернул меня за шариковую ручку. А может, это ангел перышко из крыла своего услужливо протянул – как вам больше нравится. И я приписала к практически готовому сочинению одну «совершенно ненужную и глупейшую» – как меня потом убеждали учителя – фразу. Смысл ее был в том, что главное все-таки не в домах из стекла и бетона и не в полетах на другие планеты. А в том, что в будущем у каждого человека будет любимая профессия, потому что скоро, совсем скоро исчезнет из нашей жизни всяческий блат. И если, скажем, сын дворника будет прекрасно рисовать, никто не посмеет препятствовать ему стать художником.
С сознанием выполненного долга я захлопнула тоненькую тетрадочку в зеленой обложке и отнесла ее на стол учителю…
Что было на следующий день – это может представить себе лишь тот, кому повезло учиться в то время. «К счастью, – как убеждала “мою терпеливую мать” учитель литературы, – перед тем как отправить сочинения на районную комиссию, их читают школьные учителя». «Ну, и что нам теперь с этим делать прикажете? Тетрадки-то все помеченные, с печатью! – чуть не плакала завуч старших классов. – Ну и где, скажите на милость, ваша дочь видела в нашем социалистическом обществе блат? И слово-то ведь такое где-то услышала!»
Надо отдать должное моей маме: она лишь вздохнула и, глядя на меня, произнесла знакомое: «Ну вот, опять все дети как дети, а ты отличилась!» Промучив нас с мамой полчаса, учителя удалились «для принятия решения». Не знаю уж, что они там с моим сочинением решили, но за содержание я схлопотала «трояк». За запретное слово «блат», не иначе.
Сейчас, по истечении стольких лет, пора бы, наверное, выбросить из головы этот случай. Но – не выбрасываю. Смеяться будете, но я до сих пор им себя «меряю и чищу». «Ну что, побоишься на сей раз слово “блат” написать?» – ехидно вопрошает Ирка-маленькая Ирку-взрослую в особо экстремальных ситуациях. И мне очень сложно предать ту смешную девчушку, глядящую на меня чуть исподлобья. «Ну вот, все дети как дети, а ты…» – с улыбкой отвечаю я Ирке-школьнице и… смело опять наступаю на те же грабли.
Профориентация – такое серьезное слово вошло в нашу жизнь, когда мы перешли в девятый класс. Нет, конечно, мы и раньше знали, что далеко не всем нам по окончании школы посчастливится поступить в вуз, а значит, мы уже сейчас должны готовиться к взрослой жизни, получая некие профессиональные навыки. У нас в районе для этой цели даже школьный завод «Чайка» организовали, где мы раз в неделю после уроков собирали дверные замки из готовых деталей, до крови расцарапывая руки жесткими пружинами.
Но в девятом классе нас явно ждало нечто более серьезное, чем сбор замков. Это мы поняли сразу, как только узнали, что четверо девочек из нашего класса будут получать профессию секретаря-машинистки. Почему только четверо – история умалчивает, но ходили слухи, что у этих девочек просто «родители вовремя подсуетились».