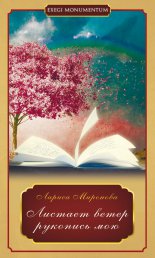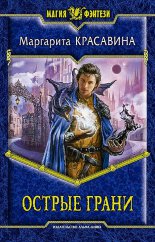Русская Православная Церковь и Л. Н. Толстой. Конфликт глазами современников Ореханов Протоиерей Георгий
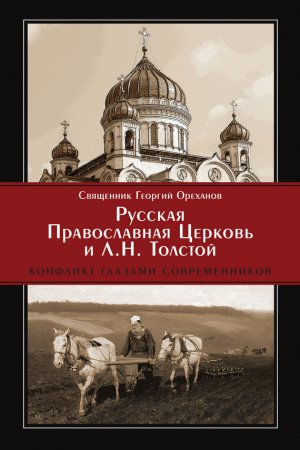
Интерес представляет записка В. Г. Черткова министру двора В. Б. Фредериксу с предложением издания посмертных произведений Толстого, «еще никогда не появлявшихся в печати и оставленных им для издания после его смерти», под общим наблюдением императора; в записке предполагается, что издателем будет А. Л. Толстая, а редактором – сам В. Г. Чертков. Крайне примечательна дальнейшая история записки: император в устной форме передал свое мнение бар. Фредериксу, суть его заключалась в том, что гофмейстер А. А. Голенищев-Кутузов должен был осуществлять предварительную цензуру и в случае возникающих вопросов обращаться лично к государю. Об этом решении императора В. Б. Фредерикс 21 января 1911 г. доложил П. А. Столыпину, который был крайне возмущен тем, что предварительную цензуру будет осуществлять министр двора, а не он сам. Кроме того, премьер-министр справедливо указал, что предварительная цензура отменена и введение ее по отношению только к книгам Толстого может вызвать недоразумения. В конечном счете императору стало ясно, что этот проект несостоятелен[961].
В публикации упомянуты новые документы о крайне негативном отношении Св. Синода к чествованию Л. Н. Толстого по поводу 80-летнего юбилея. 28 августа 1908 г. П. П. Извольский обратился к императору с докладом, в котором упрашивал его запретить чествование человека, отлученного от Церкви и отвергающего все догматы христианской религии (РГИА. Ф. 797. 1908 г. Д. 463. Доклад № 185).
Наконец, представляет интерес еще один документ, связанный с увековечением памяти писателя. Вскоре после смерти Толстого Академия наук принимает решение об образовании комитета по вопросу об увековечении памяти Толстого. В январе 1911 г. П. А. Столыпин представил императору Особый журнал Совета министров по данному вопросу, но император наложил на доклад резолюцию: «Нахожу весьма желательным отложить рассмотрение этого вопроса». Несколько неожиданный характер резолюции связан с тем обстоятельством, что в Особом журнале была приведена другая – положительная резолюция государя на докладе о смерти Толстого (ее текст: «Душевно сожалею о кончине великого писателя, воплотившего во времена расцвета своего дарования, в творениях своих, родные образы одной из славнейших годин русской жизни»). Кроме того, в докладе также указывалось, что комитет имеет в виду не вообще Толстого, а писателя-беллетриста раннего периода и поэтому деятельность комитета окажет противодействие тем демократическим слоям общества, которые пытаются использовать чествование Толстого в качестве способа борьбы с самодержавием. Председателем комитета планировался великий князь Константин Константинович. В итоге решение Совета министров не было утверждено[962].
В 1970-е и последующие годы в научный оборот были введены и другие документы. В публикации Г. Петрова 1978 г. дан обзор с отдельными цитатами некоторых источников, имеющих отношение к предварительному этапу подготовки отлучения Л. Н. Толстого[963]. В публикацию вошли отрывки из следующих документов:
1. Письмо архиеп. Херсонского Никанора (Бровковича) проф. Н. Я. Гроту.
2. Речь в Харьковском кафедральном соборе прот. Т. Буткевича «О лжеучении графа Л. Н. Толстого» 2 марта 1891 г. (опубликована в газете «Южный край» 5 марта 1891 г.).
3. Информация о посещении в марте 1892 г. Ясной Поляны архим. Антонием (Храповицким), ректором МДА.
4. Проект отлучения Л. Н. Толстого от Церкви, составленный архиеп. Амвросием (Ключаревым) в ноябре 1899 г. Об этом документе речь пойдет подробнее ниже.
5. Письмо митр. Антония (Вадковского) К. П. Победоносцеву, датируемое 11 февраля 1901 г., с предложением составить и опубликовать синодальное постановление о Л. Н. Толстом 17 февраля (в субботу первой недели Великого поста), т. е. в канун Недели православия. Однако соответствующее постановление Синода от 20–22 февраля было опубликовано только через неделю, 24 февраля, в «Церковных ведомостях», а 25 февраля перепечатано всеми газетами. Г. Петров высказал в связи с этим важнейшим документом предположение о том, что инициатива отлучения исходила от митр. Антония, текст был написан Победоносцевым, а затем митр. Антоний с другими членами Синода его отредактировал[964].
Отметим две публикации М. Н. Курова. В них содержатся следующие документы:
1. Письмо К. П. Победоносцева С. А. Рачинскому от 26 апреля 1896 г. (ОР ГПБ. Ф. 631), в котором говорится о предположении в Синоде объявить Толстого отлученным от Церкви во избежание недоразумений в народе, который понимает, что вся интеллигенция поклоняется Толстому.
2. Публикация материалов из фонда СПбДА (ОР ГПБ. Фонд СПбДА. № А 1-289), содержащих документы из личного архива митр. Антония (Вадковского), а именно многочисленные письма, полученные им в связи с отлучением Л. Н. Толстого[965].
Предыдущая публикация была М. Н. Куровым расширена и дополнена[966], однако и в новом виде признать удовлетворительным издание писем митр. Антонию не представилось возможным (в основном из-за эпизодичности выдержек: в публикации М. Н. Курова выбирался, как правило, самый «горячий» материал), поэтому автором данной диссертации была предпринята новая публикация части этого материала[967].
В целом вторая статья М. Курова представляет собой публикацию документов из следующих архивов: РГИА, ОР РНБ, НИОР РГБ и ИРЛИ АН СССР (Пушкинский Дом). Она включает в себя первое издание некоторых писем К. П. Победоносцева С. А. Рачинскому, имп. Николаю II, а также письма митр. Антонию (Вадковскому). К сожалению, в статье М. Курова повторяется ряд традиционных штампов, имеющих отношение к личности К. П. Победоносцева, в том числе утверждение, что тот «категорически был против печатания «Крейцеровой сонаты»[968], а также совершенно ошибочный, как мы увидим далее, тезис о том, что по вопросу об отлучении Толстого от Церкви ожидать разногласий «между обер-прокурором и членами Синода не приходилось, так как высший орган по управлению Русской Православной Церковью назначался царской властью и давно превратился в безгласный чиновничий аппарат при всесильном обер-прокуроре <…> Воля обер-прокурора была законом для Синода. Никто не осмелился поднять голос в защиту Толстого. Единомыслие было полное»[969].
Самым важным документом, который присутствует во второй статье М. Курова, является полный текст письма митр. Антония (Вадковского) К. П. Победоносцеву по поводу возможного отлучения Толстого от 11 февраля 1901 г. (РГИА. Ф. 797. Оп. 94. № 133. Л. 1–2 об.). К сожалению, в публикации письма присутствует грубейшая ошибка: публикатор зачем-то решил «расшифровать» имя известного Санкт-Петербургского священника, прот. Философа Орнатского, как Философ[ов], отождествив его, таким образом, с Д. В. Философовым, единомышленником Д. Мережковского и З. Гиппиус.
Письмо, опубликованное М. Куровым, имеет принципиальное значение, так как можно с большой вероятностью предполагать, что именно оно дало толчок к подготовке синодального акта 20–22 февраля 1901 г. В письме, в частности, идет речь об очень значимом событии – «выходке» свящ. Г. Петрова, т. е. об эпизоде, имевшем место 6 февраля 1901 г.
В этот день Д. С. Мережковский делал в Санкт-Петербургском философском обществе доклад о Л. Н. Толстом, в ходе обсуждения которого свящ. Г. Петров выступил с апологией писателя, что было полной неожиданностью для священноначалия. Митр. Антоний сообщает своему корреспонденту, что 10 февраля долго беседовал с о. Григорием Петровым «по поводу выкинутой им глупости в философском обществе». Личность свящ. Г. Петрова характеризуется митр. Антонием в письме следующим образом: «О. Григорий еще формирующийся человек, мысли его не перебродили еще и не пришли к мирному, гармоническому течению. Против него начинают сильно вопиять как против толстовца, и некоторые готовы прямо воздвигнуть на него гонение <…> я посоветовал пока молчать, потому что не вижу в нем упорства, и потому полагаю пока достаточным воздействовать на него путем пастырского попечения и убеждения»[970]. Характерно, что публикатор письма М. Куров не обратил внимания на эту характеристику и на то обстоятельство, что большая часть письма посвящена именно свящ. Г. Петрову, выступление которого автором письма фактически поставлено в прямую связь с деятельностью Л. Н. Толстого.
Таким образом, можно сделать следующий вывод: исследователями была проделана большая работа по выявлению, систематизации и изданию документов, связанных с отлучением Л. Н. Толстого от Церкви. Фактически в 60-80-е гг. XX в. в научный оборот были введены важнейшие материалы, связанные с темой данного раздела работы.
Цель дальнейшего текста – показать, что выявлены были не все документы, позволяющие восстановить историческую правду об отлучении. Кроме того, даже выявленные документы, по причине антицерковных установок исследователей, как правило, интерпретировались предвзято: общая картина страдала односторонностью, неполнотой, а в некоторых случаях была просто ошибочной.
Вопрос об отношении русского правительства и Православной Церкви к учению и деятельности Л. Н. Толстого неоднократно рассматривался в предшествующих исследованиях. Главные выводы, к которым приходят историки, заключаются в следующем:
A. Проводником антитолстовской правительственной политики был всесильный обер-прокурор Св. Синода К. П. Победоносцев.
Б. Именно он был главным инициатором отлучения Л. Н. Толстого от Церкви, а сам акт отлучения был его личной местью (при первой представившейся возможности) за роман «Воскресение» и его героя – чиновника Топорова.
B. Синодальный акт 1901 г. был крайне расплывчатым по содержанию и крайне неудачным по времени издания и был единодушно отвергнут всей прогрессивной Россией, которая выразила бурную поддержку своему кумиру – Л. Н. Толстому.
Задача данного раздела – рассмотреть эти утверждения и дать им соответствующую научную оценку.
Когда речь заходит о выдающихся исторических деятелях, историку следует стремиться избежать того, что прот. Г. Флоровский вслед за Дж. Коллингвудом называет субстанциональностью историографии: живые люди изображаются в виде исторических типов в характерных позах. Так рождаются исторические стереотипы, которыми переполнена не только старая советская научная литература, но часто и литература новейшего периода, претендующая на статус «научной». Стремясь к созданию синтетического образа, заботясь о целостности восприятия изучаемого исторического персонажа, историки превращают живых людей в «типы» и «характеры», которые, как роботы, лишены свободы воли и на страницах исторических трактатов вынуждены поступать только «типично»[971]. Историки, к сожалению, часто забывают, что «в суждениях о большом человеке самое страшное – общее место»[972].
К сожалению, именно такой ходульный образ был создан из К. П. Победоносцева. В определенном смысле иначе и быть не могло: в великом противодействии двух идей русской истории – идеи консервации, сохранения верности традиции и преданию, почвенности, наконец, «заморозки» и идеи обновления жизни, политического прогресса, новых общественных институтов, представительства – К. П. Победоносцев часто противостоял всем или почти всем. И несколько позже эти «все» жестоко ему отомстили, создав театральный портрет «живого трупа», Торквемады, «Великого инквизитора», колдуна, простершего свои крыла над Россией.
Победоносцев был обвинен во всех грехах: в «зоологическом консерватизме» (П. А. Зайончковский), в невольном содействии грядущей революции (тем, что сорвал планы группы Лорис-Меликова в марте и апреле 1881 г.), в установлении режима контрреформ, в преследовании любого свободомыслия и широкого культурного творчества, в распространении идей абсолютной религиозной нетерпимости, в противодействии планам созыва Церковного Собора и возрождения патриаршества и даже в дворцовых интригах.
К сожалению, К. П. Победоносцеву исторически не повезло, как не повезло всем современникам страшной смерти императора Александра II: слишком жестокой была рана, нанесенная сознанию русского человека взрывами 1 марта 1881 г. В представлении современников это событие было настолько ужасным, что очень немногие люди сумели сохранить трезвость и не потеряться в вихре самых разных, подчас противоположных по направлению тенденций.
Жизнь К. П. Победоносцева – служение одной и главной идее – идее самодержавия, в рамках которой и возникает проблема «заморозки». Но было бы большой исторической ошибкой полагать, что здесь он противостоял всей остальной России, стремившейся к новым общественным формам и институтам. Как это ни парадоксально, К. П. Победоносцев выполнял завет К. Н. Леонтьева: «…надо подморозить хоть немного Россию, чтобы она не гнила»[973]. За этим желанием «подморозить» стоит большой страх: страх за огромные пространства, страх за большие сокровища, к которым постоянно протягиваются жадные руки, страх за неустойчивую государственность. В России возможны и практически осуществимы самые разные спекуляции: политические, культурные и религиозные. Самые почтенные и «прогрессивные» идеи на русской почве часто оборачиваются злым и бесовским фарсом: свобода – произволом администрации всех уровней, народоправие и демократия – парламентской говорильней и откровенным обманом, предательством и «политической проституцией», экономическая самостоятельность, рынок – подкупом и коррупцией.
Россия – зыбкая и ненадежная почва. С. Г. Бочаров очень убедительно показывает, насколько этот образ значим в творчестве К. Н. Леонтьева. Фактически программа Победоносцева как политического деятеля была развернута в статье К. Н. Леонтьева «Над могилой Пазухина». Русская почва роскошная, но слабая, рыхлая, подвижная, поэтому западная революционная постройка (социализм) может осуществиться на ней быстрее. Если не будут в срочном порядке осуществлены необходимые меры, русский народ «через какие-нибудь полвека» из народа-богоносца станет народом-богоборцем (заметим: статья К. Н. Леонтьева написана в 1891 г., таким образом, его прогноз осуществился не через полвека, а через 25 лет, т. е. в два раза быстрее).
Какие же это меры? Русский народ должен быть строгими, властными мерами «ограничен, привинчен, отечески и совестливо стеснен» – только в этом случае, удержанный в этих насильственных рамках, он сможет пребыть этим народом-богоносцем. Главные враги народной жизни – «преступные замыслы», «подражание Западу» и «мягкосердечное потворство», которые приводят к главной и глобальной русской беде – «состоянию безначалия», рождающему крайности и ужасы, в которых проявляются самые трагические черты русского характера – «молодечество», «дух разрушения» и «страсть к безумному пьянству»[974].
К. П. Победоносцеву очень любят вкладывать в уста фразу о России как ледяной пустыне, в которой бродит лихой человек. Но не В. В. Розанов ли, в определенном смысле (правда, очень условном) антипод Победоносцева, который, кажется, и пустил в оборот это крылатое словечко Победоносцева, сам сказал о ней же – «ледяная страна вечного забвения и вечной неблагодарности»[975]?
Представляется, что та развернутая характеристика обер-прокурора Св. Синода, которую дает ему в «Путях русского богословия» столь проницательный человек, как прот. Г. Флоровский («пафос исторического неделания», «воинствующий архаизм», старание «удержать “народ” вне культуры и истории и тем спасти от порчи и погибели», «Победоносцев верил в народ и не верил в историю», он «дорожит коренным и исконным больше, чем истинным» и т. д.)[976] несет в себе черты некоторой ходульности и «портретности» и должна критически восприниматься сквозь призму русской истории начала XX в., советского периода и даже 1990-х гг. Тем не менее тот же автор замечает по поводу сходства культурных типов: «Сходство не значит согласие. Сходство означает принадлежность к единому культурно-психологическому типу. Сходство Толстого и Победоносцева не было случайным. И во многом они одинаково веруют в природу и не веруют в человека – верят в закон и не доверяют творчеству» [977].
Взаимоотношения двух личностей неотделимы от их мировоззренческих установок. С этой точки зрения, предваряя содержательную часть раздела, нужно кратко остановиться на тех возможных моделях христианской (или псевдохристианской) религиозности, которые можно описать следующим образом.
Христос и Церковь. Эта модель созидается на вере в Христа – Богочеловека, Спасителя и Искупителя человеческого рода, в тесный, нерасторжимый союз Церкви земной и небесной и в спасительное значение Церкви в жизни человека. С догматической точки зрения во всей полноте эта позиция представлена в догматическом учении Православной Церкви и в католицизме.
Христос, но не Церковь. Это очень сложная и очень условная модель, которая включает многообразные вариации, в зависимости от истории происхождения. В первую очередь речь здесь должна идти о протестантизме с его известными вероучительными принципами solus Christus и sola fide, которые, формально признавая значение Церкви в жизни человека, тем не менее проводят слишком явную грань между «Церковью небесной», «Церковью святых», и земной церковной организацией, в результате чего последняя превращается в «слишком человеческое» общество единомышленников. С точки зрения этой модели требуют серьезного осмысления аналогии между Л. Н. Толстым, которого иногда стремятся представить религиозным реформатором, и М. Лютером. Заметим, что действительно в формировании религиозных взглядов последнего определенную роль сыграла критика видимых недостатков католической церковной организации и современного ему католического духовенства. Но Лютер никогда не сомневался в Божественном достоинстве Христа и спасительном значении Его подвига, поэтому указанные аналогии носят весьма условный характер. В этом смысле Толстой не был религиозным реформатором в традиционном понимании этого термина, его взгляды скорее нужно сближать с неопротестантским богословием XX в.
Не Христос (и тогда автоматически «не Церковь»). Эта модель (если речь идет именно о религиозной модели) предполагает, что человек не верует в божественное достоинство Христа, а почитает Его великим учителем морали, одним из многих. В этой модели нет места личному общению с Богом, молитве в христианском смысле (она заменяется медитацией или даже релаксацией) и, конечно, нет места признанию спасительного значения Церкви в жизни человека. И действительно, Л. Н. Толстой сознательно и целенаправленно подчеркивал тот факт, что вся его деятельность направлена именно против христианской догматики и именно против Церкви.
Говоря о теме «Победоносцев и Толстой», мы понимаем, что речь идет именно о противопоставлении двух типов религиозности. При этом необходимо учитывать динамику мировоззрения и Л. Н. Толстого, и К. П. Победоносцева, отдавая себе отчет в том, что их взгляды и позиции по различным вопросам в начале 80-х гг. XIX в. (т. е. к моменту их заочного знакомства) и через 20 лет (финальный конфликт, связанный с отлучением писателя от Церкви) могли претерпеть и реально претерпели большие изменения.
Оппозиция «Толстой – Победоносцев» таит в себе такие же подводные камни, как и оппозиция «Толстой – Достоевский»: не следует отождествлять личные религиозные взгляды оппонентов Л. Н. Толстого с точкой зрения Церкви. Дело в том, что, будучи христианином в самом строгом смысле этого слова, К. П. Победоносцев мог заблуждаться по тем или иным вопросам церковной жизни и построения вероисповедной политики государства. В то же время, будучи последние 30 лет своей жизни последовательным и убежденным врагом Церкви и ее учения, Л. Н. Толстой, обладая глубокой социальной и творческой интуицией, мог в своих публикациях и письмах затрагивать очень важные вопросы церковно-государственных отношений, церковной жизни и веры. И в этом смысле его аргументы, как правило, неубедительные и даже примитивные с чисто богословской точки зрения, могут быть весьма показательны с точки зрения отражения тех тенденций, которые характерны для русской жизни начала XX в.
Ввиду той заметной роли, которую Л. Н. Толстой и К. П. Победоносцев играли в истории России второй половины XIX – начала XX в., их противостояние не носило случайного характера, конфликта на личной почве, а было глубоко связано с важнейшими проблемами, в той или иной степени волновавшими все русское образованное общество.
И здесь следует сразу подчеркнуть, что в восприятии русского общества конца XIX – начала XX в. Победоносцев и Толстой действительно были антиподами. Л. Н. Толстой – совесть своего поколения, борец за правду, защитник обиженных, человек, которому вполне подходят слова, сказанные В. Шаламовым по другому адресу: «Русская интеллигенция искала у него решения всех вопросов времени, гордилась его нравственной твердостью, его творческой силой <…> в жизни должны быть такие люди, живые люди, наши современники, которым мы могли бы верить, чей нравственный авторитет был бы безграничен <…> тогда нам легче жить, легче сохранять веру в человека. Эта человеческая потребность рождает религию живых будд»[978]. Л. Н. Толстой и был таким живым буддой «героического» сознания русской интеллигенции, причем, заметим, не только в среде профессоров, писателей, поэтов и художников, но, как это ни странно, и в среде чиновников всех рангов, как показывают публикации их писем по поводу отлучения писателя.
Наоборот, для этой среды К. П. Победоносцев является воплощением абсолютного зла, которое ассоциируется с политическим произволом (опять вспомним пресловутые «совиные крыла»), творцом системы, гонителем всего прогрессивного и творческого, тем лихим человеком, который в конечном счете и превратил Россию в ледяную пустыню. В «поединке» с Толстым Победоносцев в представлении русского общества и даже политической элиты был заранее обречен на поражение, именно поэтому после отлучения писателя в 1901 г. в глазах этого общества он сразу стал и главным виновником, и главным творцом этого акта, и объектом едких сатирических нападок.
Но много ли исторической правды в таком подходе?
Как уже было сказано выше, К. П. Победоносцев, человек глубоко верующий именно в церковного Христа, являлся сторонником той точки зрения, что Русская Православная Церковь играла важнейшую, определяющую роль в исторической жизни России и ее роль продолжает оставаться значимой в жизни каждого христианина. С его точки зрения, в силу исторических особенностей развития России для русской политической модели характерен теснейший, нерасторжимый союз Церкви и монархического государства, союз жизненно необходимый, любая попытка коррекции которого приведет, как считал К. П. Победоносцев, к крушению русской монархической государственности и гибели самой Церкви.
Наоборот, с точки зрения Л. Н. Толстого, Церковь играла и играет крайне негативную роль в истории человечества вообще и в истории России в частности и в жизни каждого отдельно взятого человека: она враждебна человеческому прогрессу и является копилкой предрассудков и обмана. Церковное учение порабощает человека, причем это происходит с самого начала, когда утверждается, что над человечеством тяготеет первородный грех. Фактически центральная проблема толстовского «богословия» – роль Церкви в жизни человека. Уже указывалось, что, с его точки зрения, первородный грех – богословская спекуляция, которая не имеет никакого реального значения в жизни человека. Для современного человечества принципиально возможен нравственный прогресс и достижение конкретных результатов в нравственной области своими собственными силами, без участия благодати Божией, а роль Церкви заключается в том, чтобы «препятствовать человечеству в его движении к истине и благу» (ПСС. Т. 25. С. 284).
К. П. Победоносцев, именно в силу своих взглядов на характер церковно-государственных отношений в России, символизирует идею синтеза и созидания, как он это созидание понимал: монархическая власть, стоящая на православной вере, является главным источником формирования и развития национального самосознания, следствием чего является широкое культурное развитие в самых разных областях русской жизни. Именно этим, а вовсе не стремлением якобы чуть ли не контролировать все стороны русской политической, социальной и культурной действительности объясняется, в частности, активное участие К. П. Победоносцева в поддержке русских писателей, художников, музыкантов и т. д.
Наоборот, в своих произведениях Л. Н. Толстой, как известно, проповедовал идею разрушения государственности и культуры вообще и был активным и энергичным критиком русской политической системы. Правда, идеи отрицания культуры носили для него скорее характер отвлеченных размышлений: всегда оставаясь художником в широком смысле этого слова, Толстой так и не смог сказать культуре свое последнее «нет». Но, без сомнения, из-за огромной популярности личности Л. Н. Толстого в оппозиционной русскому правительству среде критика «режима» играла крайне негативную роль в формировании отрицательного (можно сказать, гротескно отрицательного) образа власти и в значительной степени работала на ее крушение, т. е. в конечном счете на социальный коллапс, революцию.
Л. Н. Толстой является символом религиозной свободы, веротерпимости и свободы совести, противником той религиозной политики, инициатором и главным символом которой, по его мнению, был именно К. П. Победоносцев. Поразительно, что при этом русский писатель в конкретных ситуациях был абсолютно нетерпим к взглядам других людей и критиковал их часто в грубой и неприемлемой форме. Очень ярко предельная противоположность подходов Толстого и Победоносцева к вероисповедному вопросу проявилась в эпизоде конца 1880-х гг., когда Жюль Эрнест Навилль, президент «Евангелического союза», обратился к Александру III c протестом против преследования лютеран в Прибалтийском крае. К. П. Победоносцев ответил Навилю, выразив в этом ответе суть вероисповедной политики русского государства, и именно этот ответ вызвал бурное негодование писателя, отразившееся в дневниковых записях[979].
Л. Н. Толстой является категорическим противником той системы воспитания, которая сформировалась в России во второй половине XIX в. и в которой значительная роль отводилась русскому духовенству. Этому вопросу посвящен ряд сочинений и записей в дневнике писателя. Толстой доказывает, в частности, что преподавание религии – абсурд, ибо как можно преподавать то, что большинством отвергается (ПСС. Т. 53. С. 61; Т. 35. С. 187).
Наоборот, К. П. Победоносцев на практике реализует идею, согласно которой все начальное образование и воспитание должно быть передано в руки духовенства[980]. Как известно, во многом благодаря его личным усилиям в России сформировалась широкая сеть церковноприходских школ, которая получила характер системы.
Учитывая сказанное выше, необходимо обратить внимание на то, каким образом это противостояние идей нашло свою конкретную реализацию в жизни.
Первым эпизодом, во многом повлиявшим на развитие дальнейших отношений, стала казнь народовольцев в 1881 г.
Вопрос, который здесь возникает, – были ли Толстой и Победоносцев знакомы до этого события? До недавнего времени биографы Л. Н. Толстого отрицали этот факт, игнорируя свидетельство воспоминаний И. М. Ивакина, который, ссылаясь на писателя, определенно говорит о том, что Л. Н. Толстой уже был знаком с К. Победоносцевым до марта 1881 г.[981] Правда, нигде больше это свидетельство подтверждений не находит, нам неизвестны какие-либо подробности этого знакомства. Во всяком случае, утверждение о том, что Победоносцев послужил прототипом Каренина, было отвергнуто еще Н. Н. Гусевым.
Идея обратиться к Победоносцеву с просьбой передать новому императору письмо была подана Толстому его домашним учителем, кандидатом математики Петербургского университета В. И. Алексеевым, с осени 1877 г. обучавшим старших детей Толстого. К. П. Победоносцев в 1875 г. помог освобождению из тюрьмы друга Алексеева А. К. Маликова[982], основателя религиозно-этического учения о «богочеловечестве» и земледельческой колонии в США, учившего о непротивлении (некоторые исследователи полагают, что именно Маликов впервые навел Л. Н. Толстого на эту мысль). Считая Победоносцева отзывчивым человеком, Толстой направляет ему свое письмо императору Александру III c просьбой к последнему помиловать народовольцев.
Эпизод с казнью народовольцев сыграл большую роль в биографии писателя. Он сам утверждал, что суд над убийцами царя и готовящаяся казнь произвели на него одно из самых сильных жизненных впечатлений. Но и для всей России это был знаковый эпизод, в восприятии которого перемешаны ужас, растерянность и недоумение о будущем страны. Нужно иметь в виду, что суд над народовольцами готовился на фоне бурных дебатов о будущем политическом устройстве русского государства (программа М. Лорис-Меликова), о чем упоминает Л. Н. Толстой в письме императору: «Для людей, смотрящих на дело с материальной стороны, нет других путей – или решительные меры пресечения, или либеральные послабления <…> или пресекать – строгость, казни, ссылки, полицию, стеснение цензуры, и т. п. Или либеральные потачки – свобода, умеренная мягкость мер, взысканий, даже представительство – конституция, собор»[983].
Нужно учитывать также, что в этих дебатах именно К. П. Победоносцеву принадлежала важная, ключевая, в итоге решающая роль: на известном совещании в присутствии нового императора Александра III 8 марта 1881 г. он произносит пламенное слово в защиту принципа самодержавия (по мнению некоторых современников, свою лучшую речь в жизни), речь, потрясшую участников совещания и приведшую к отставке главных апологетов идеи представительства (М. Т. Лорис-Меликова, А. А. Абазы и Д. А. Милютина) и изданию манифеста 29 апреля 1881 г., лейтмотивом которого являлась мысль о незыблемости самодержавия.
Заметим, что слишком оптимистический взгляд на природу человека, характерный, как сказано выше, и для Л. Н. Толстого, всегда приводит к парадоксальным выводам и рекомендациям в области практической жизни и политики. Обращая внимание на разницу в подходах писателя и обер-прокурора к судьбе народовольцев, исследователи, как нам представляется, прошли мимо того факта, что Л. Н. Толстой в своем письме фактически предлагает свою нравственную модель поведения для молодого императора и свою нравственную модель будущего политического устройства России: «Только одно слово прощения и любви христианской, сказанное и исполненное с высоты престола, и путь христианского царствования, на который предстоит вступить вам, может уничтожить то зло, которое точит Россию; как воск от лица огня, растает всякая революционная борьба перед царем – человеком, исполняющим закон Христа»[984]. Суть разногласий между обер-прокурором и писателем проявилась в данном эпизоде очень ярко, выпукло: Толстой верит в возможность нравственного исправления не только отдельных людей, но общества в целом, верит в последнюю, решительную победу добра на земле (и в частности, на русской земле), победу, которая будет результатом добрых поступков отдельных личностей: убийцы раскаются, потенциальные убийцы задумаются, а все общество будет очаровано императорской христианской любовью. И в этих мечтаниях, конечно, Толстой не был одинок. Достаточно вспомнить, что аналогичными заявлениями (простить виновных в гибели императора) «грешил», например, и В. С. Соловьев, который 28 марта 1881 г. в зале кредитного общества прочел публичную лекцию о смертной казни, закончившуюся призывом к государю простить убийц его отца.
Напротив, К. П. Победоносцев знает, что эта победа добра, реальная в эсхатологической перспективе, здесь и теперь требует подчас решительности, жесткости и даже жестокости. Хотя общественное мнение отчасти уже было подготовлено к возможному катастрофическому исходу страшной «охоты» на русского императора предыдущими многочисленными покушениями на него, само известие о событиях 1 марта было настоящим общественным шоком. И в своей жесткой оценке действий народовольцев К. П. Победоносцев был выразителем точки зрения определенной группы патриотически настроенных лиц, буквально требовавших их казни.
Было бы непростительным научным промахом, более того, грубейшей ошибкой, не учитывающей особенностей исторического контекста, полагать, что все современники Л. Н. Толстого были последовательными противниками смертной казни и смотрели на нее его глазами или глазами В. С. Соловьева. Впечатление от талантливых и в чем-то убедительных доводов великого русского писателя и великого русского философа не должно заслонять исторической действительности, ибо для историка важен не вопрос, был ли Л. Н. Толстой прав по существу, а вопрос, насколько широко его аргументы отражают палитру общественного мнения по вопросу о возможности прощения народовольцев.
В этом смысле многие источники свидетельствуют, что далеко не все представители русской интеллигенции разделяли точку зрения Л. Н. Толстого и В. С. Соловьева.
Приведем несколько примеров. Н. Ф. Федоров, человек мирный и аполитичный, откликаясь на события 1 марта 1881 г., пишет К. П. Победоносцеву: «Всякий, кому дорого отечество, не может успокоиться лишь на том, что злодеи, лишившие нас отца нашего, будут казнены»[985]. 4 апреля 1881 г. в письме к великому князю Сергею Александровичу А. Ф. Аксакова, недовольная ходом официального следствия и судебного процесса над народовольцами, указывала: «Что еще облегчает сердце – это сознание, что после такого вежливого обращения их все-таки повесили. Здесь начали уже волноваться предположением, что будут просить у Государя помилования и что Государь его дарует. Я не верила этому ни минуты, но об этом много говорили. Общественная совесть требовала осуждения и была бы в отчаянии, если бы ей отказали в этом справедливом удовлетворении»[986].
Супруг А. Ф. Аксаковой, И. С. Аксаков, двумя днями раньше (2 апреля 1881 г.) указывал в письме Н. Н. Страхову: «Правда ли, что Соловьев держал речь о том, что Государь не должен казнить преступников и что если казнит, то мы не пойдем за ним в этом направлении, и что при этом будто сослался на меня, уверяя, что это именно то, что я не досказал по замечанию статьи Русского в «Новом времени»? Я знаю, что гр. Л. Н. Толстой писал об этом письмо, но ведь Толстой, говорят, встречая солдат, внушает им, что они не должны стрелять в неприятеля. Это кривомудрие. Я всегда был против смертной казни в принципе и держусь этого мнения. Но если она существует, если казнены Лизогуб и К°, то не казнить Рысакова было бы исключением, извращающим смысл правосудия. Есть какое-то повреждение смысла!» В ответном письме Н. Н. Страхов называет казнь народовольцев «горькой необходимостью»[987].
Наконец, примечательно, что всего за три года до эпизода с убийством Александра II, в 1878 г., Л. Н. Толстой совершенно по-иному реагировал на дело В. Засулич, стрелявшей в Ф. Ф. Трепова, назвав оправдательный приговор ей «бессмыслицей» и «дурью», а Н. Н. Страхов, в свою очередь, отметил этот эпизод как «кощунство над самыми святыми вещами»[988].
Интересно отметить также, что из окончательного варианта письма императору по поводу судьбы народовольцев был исключен (по совету некоторых знакомых Толстого) отрывок, в котором писатель советует царю не только простить убийц отца, но и выпустить на свободу всех сидящих в тюрьме революционеров: «Если бы вы простили всех государственных преступников, объявив это в манифесте, начинающемся словами: «Люби врагов своих», – это христианское слово и исполнение его на деле было бы сильнее всей человеческой мудрости. Сделав это, вы бы истинно победили врагов любовью своего народа»[989].
Письмо государю было послано Н. Н. Страхову с просьбой передать его К. П. Победоносцеву. Самому обер-прокурору Толстой также послал письмо, в котором указывал: «Я знаю Вас за христианина – и, не поминая всего того, что я знаю о Вас, мне этого достаточно, чтобы смело обратиться к Вам с важной и трудной просьбой…»[990]. Однако надеждам писателя, как известно, не суждено было сбыться: обер-прокурор Св. Синода был решительным противником помилования. Когда Л. Н. Толстой узнает о реакции К. П. Победоносцева на свою просьбу и, видимо, об отношении последнего в целом к казни, он пишет Страхову: «Победоносцев ужасен. Дай Бог, чтобы он не отвечал мне и чтобы мне не было искушения выразить ему мой ужас и отвращение перед ним»[991]. А Н. Н. Гусев сообщает, что всегда Толстого посещало чувство ужаса, «когда ему позднее приходилось говорить или писать о Победоносцеве»[992].
Так уже в начале знакомства обозначились полярные черты в мировоззрении двух великих современников: христианин-чиновник настаивает на казни, отступник-писатель молит о помиловании. И сам Победоносцев достаточно глубоко понял суть этого идеологического противостояния. В своем ответе Толстому в июне 1881 г. он подчеркивает: «В таком важном деле все должно делаться по вере. А прочитав письмо Ваше, я увидел, что Ваша вера одна, а моя и церковная другая, и что наш Христос – не Ваш Христос. – Своего я знаю мужем силы и истины, исцеляющего расслабленных, а в Вашем показались мне черты расслабленного, который сам требует исцеления» (ПСС. Т. 63. С. 59).
Март 1881 г. определил характер дальнейших отношений Толстого и Победоносцева, связанных в первую очередь с изданием сочинений писателя в России. Уже в 1882 г., как следует из письма К. П. Победоносцева министру внутренних дел гр. Д. А. Толстому, обер-прокурору было хорошо известно о произошедших изменениях в мировоззрении писателя[993]. При этом нужно сразу отметить, что Победоносцев отдавал дань таланту Толстого: в одном из писем императору Александру III (1884) он называет писателя человеком умным и с художественной натурой и удивляется, каким образом он при этих обстоятельствах мог поддаться соблазну сектантской проповеди[994].
К лету 1885 г. относится свидетельство В. Г. Черткова о том, что по сведениям от человека, лично беседовавшего с К. П. Победоносцевым на эту тему, последний был прекрасно осведомлен о деятельности ближайшего друга писателя по распространению сочинений Л. Н. Толстого литографическим способом и искал возможности ее прекратить, но самого Л. Н. Толстого, по причине его общественного и семейного положения, трогать не собирался (см.: ПСС. Т. 85. С. 195. Письмо B. Г. Черткова Л. Н. Толстому от 8 мая 1885 г.).
В связи с этим следует кратко остановиться на вопросе, каким образом распространились в России запрещенные цензурой произведения Л. Н. Толстого. Об этом подробно в своих воспоминаниях рассказал Н. Н. Бахметьев, в прошлом сотрудник издательства журнала «Русская мысль». Он указывает на то обстоятельство, что хотя издание «Исповеди» Л. Н. Толстого было в 1882 г. запрещено и выпущенные печатные экземпляры (а также гранки) ее подлежали уничтожению в Главном комитете по делам печати, весь этот материал впоследствии оказался у некоторых высокопоставленных лиц в Петербурге, которым комитет отказать не мог. Именно с этих экземпляров делались гектографические и литографические копии, которые затем расходились по всей России: «В Петербурге существовал кружок студентов, специально занимавшихся таким издательством, и за три рубля за экземпляр в Петербурге, Москве и других городах можно было иметь сколько угодно оттисков “Исповеди”. В Петербурге главный склад этого издания помещался в квартире тестя одного из товарищей министра внутренних дел, того именно, который заведовал тогда жандармской частью. Несомненно, что нелегальным путем “Исповедь” разошлась в числе экземпляров во много раз большем, чем распространила бы ее “Русская мысль”, печатавшаяся тогда только в трех тысячах экземпляров»[995].
Примерно такая же история повторилась и с другим сочинением Л. Н. Толстого. Когда в конце 1883 г. он обратился в редакцию «Русской мысли» с предложением напечатать свой новый трактат «В чем моя вера?», по совету Н. Н. Бахметьева были отпечатаны всего 50 экземпляров этого произведения по очень высокой цене – 25 рублей за экземпляр, таким образом подчеркивалось, что книга не предназначена к широкому распространению. Однако весь тираж был конфискован и снова передан в Главный комитет по делам печати. Но и его уничтожить не удалось: к Е. М. Феоктистову, начальнику комитета, обратились с просьбой о выдаче экземпляров многие лица, так тираж этого произведения разошелся по частным библиотекам, отдельные экземпляры попали в «дворцовые и придворные сферы», а также в руки министра внутренних дел Д. А. Толстого, московского генерала-губернатора, К. П. Победоносцева и самого Е. М. Феоктистова[996].
Таким образом, складывалась совершенно парадоксальная ситуация: лица, стоявшие во главе государства и цензурного ведомства, сами способствовали распространению тех произведений Л. Н. Толстого, которые цензурой были запрещены.
Эти выводы Н. Н. Бахметьева подтверждаются другими источниками. Н. Н. Страхов, в частности, ссылаясь на информацию, полученную от известного историка литературы О. Ф. Миллера, сообщает, что в 1884 г. не прошедшее цензуру сочинение Л. Н. Толстого «В чем моя вера?» было отлитографировано неизвестными лицами в достаточном количестве экземпляров и продавалось по 4 рубля за экземпляр в пользу Исполнительного комитета партии «Народная воля»[997]. Другой примечательный пример такого рода – свидетельство В. В. Розанова: в 1890 г. он пишет Н. Н. Страхову, что многие в Ельце (где в это время Розанов был учителем гимназии) читают «Крейцерову сонату» по рукописным копиям и литографиям и не может быть, чтобы в Ясной Поляне не было литографированного ее экземпляра. Розанов просит Страхова прислать такой литографированный экземпляр и добавляет: «…если нельзя открыто – то почтой, в посылке»[998].
Здесь мы сталкиваемся с очень важным для понимания русской жизни XIX в. феноменом распространения подпольной литературы (независимо от того, был ли это литографированный самиздат или зарубежные издания). Н. П. Гиляров-Платонов указывает, что широкое распространение это явление получило с конца 1850-х гг. в связи с деятельностью А. И. Герцена, когда из Лондона запрещенная в России литература сначала распространялась по всей Европе, «во всяком городке… куда только ступала русская нога», а затем многообразными способами, в том числе под охраной высокопоставленных лиц, которых не смели обыскивать на границе, попадала в Россию, где не читалась только «ленивым читать, лишенным любопытства, обделенным чувством общественным»[999]. В сущности, достать в России запрещенное сочинение Л. Н. Толстого (как и других авторов) не представляло никакого особого труда, точно так же как не представляло никакой проблемы переправить соответствующие издания из Европы в Россию.
В 1885 г. встал вопрос об издании 12-го тома 5-го собрания сочинений Л. Н. Толстого. В этот том, по замыслу С. А. Толстой, должны были войти трактаты «Исповедь», «В чем моя вера?», «Так что же нам делать?». Таким образом, это была новая попытка издать в России религиозные трактаты писателя, которые уже были известны в рукописных копиях в кругах заинтересованных лиц. По вопросу издания С. А. Толстая была вынуждена вступить в переписку с обер-прокурором Св. Синода, так как рукопись 12-го тома была отдана на отзыв духовной цензуре, причем ситуация усложнялась тем, что официальный цензор прот. А. М. Иванцов-Платонов фактически поддержал писателя, сделав некоторые изъятия из трактатов и составив к ним свой собственный комментарий, о котором шла речь выше[1000].
Однако Св. Синод задерживал окончательное решение вопроса, поэтому С. А. Толстая обратилась с письмом к К. П. Победоносцеву с просьбой дать ей решительный ответ о судьбе 12-го тома. 16 декабря 1885 года К. П. Победоносцев отвечает С. А. Толстой письмом, смысл которого сводится к следующему: нет никакой возможности и надежды издать данную рукопись. При этом Победоносцев подчеркивает: «Примечания Иванцова-Платонова не только не ослабляют действие сочинения, но еще усиливают его в отрицательном смысле… по совести скажу вам: книга эта, при всем добром намерении автора, – книга, которая произведет вредное действие на умы» (ПСС. Т. 25. С. 758). При этом обер-прокурор Св. Синода подчеркивает, что самые добрые намерения любого писателя и деятеля преломляются через очень сложную социально-политическую призму и в конечном счете могут привести совсем не к тому результату, которого ждет автор. В июле 1886 г. Московский духовный цензурный комитет уведомил жену писателя о своем определении «не разрешать к печати означенные сочинения» (ПСС. Т. 23. С. 522).
Тем не менее, анализируя частную переписку К. П. Победоносцева, можно заключить, что обер-прокурор Св. Синода вовсе не был бездумным гонителем таланта писателя. Наоборот, К. П. Победоносцев являлся очень внимательным читателем произведений Л. Н. Толстого. Это видно по истории постановки драмы «Власть тьмы». Так как с пьесой сразу возникли серьезные цензурные проблемы, за дело взялся В. Г. Чертков, который воспользовался «стандартным» приемом: постарался ознакомить с содержанием пьесы как можно большее число влиятельных лиц из светского общества, способных оказать давление на цензурные сферы. Драма читалась в различных салонах, мать Черткова, Е. И. Черткова, постаралась добиться положительного отношения к произведению со стороны министра двора гр. И. И. Воронцова-Дашкова. 13 января 1887 г. пьеса была разрешена к печати, а 24-го – к постановке на сцене Александринского театра. 27 января 1887 г. драма читалась на квартире Воронцова-Дашкова в присутствии государя и членов его семьи, причем государь остался, по-видимому, очень доволен произведением и вызвался быть на генеральной репетиции пьесы. 18 февраля К. П. Победоносцев вынужден был обратиться к императору с письмом, в котором протестовал против постановки пьесы на императорской сцене. Очень примечательно его мнение о пьесе: «Искусство писателя замечательное, но какое унижение искусства»[1001].
Эта способность К. П. Победоносцева читать и оценивать ярко проявилась в связи с историей публикации «Крейцеровой сонаты». Еще до того как повесть была окончательно отделана, она стала распространяться в рукописных списках, причем особенно интенсивно после первого чтения рукописи 28 октября 1889 г. в доме родственников Толстых, Кузьминских.
Практически сразу после этого чтения были готовы 300 литографических копий, которые мгновенно разошлись по всему Петербургу, причем с этих копий в гораздо большем количестве были сделаны новые с помощью домашних гектографов (см.: ПСС. Т. 27. С. 588)[1002]. Гр. А. А. Толстая вспоминала по этому поводу: «Трудно себе представить, что произошло, например, когда явились “Крейцерова соната” и “Власть тьмы”. Еще не допущенные к печати, эти произведения переписывались уже сотнями и тысячами экземпляров, переходили из рук в руки, переводились на все языки и читались везде с неимоверною страстностью; казалось подчас, что публика, забыв все свои личные заботы, жила только литературой графа Толстого… Самые важные политические события редко завладевали всеми с такой силой и полнотой»[1003].
Первоначально в намерение К. П. Победоносцева не входило читать новую повесть Толстого. Затем обер-прокурор Св. Синода все-таки с ней ознакомился, его реакция на это произведение изложена в письме Е. М. Феоктистову от 6 февраля 1890 г., которое с полным основанием можно назвать программным. В нем находит отражение очень важная черта характера К. П. Победоносцева – способность серьезно и с вниманием отнестись к явлению, лично ему чуждому. Оказывается, что при всей своей колоссальной занятости Победоносцев оставался внимательным и вдумчивым читателем: «Прочел я первые две тетради: тошно становилось – мерзко до циничности показалось. Потом стал читать еще (сразу все читать душа болит), и мысль стала проясняться» (ПСС. Т. 27. С. 593. Примеч. 2). Победоносцев отдает должное не только художественному таланту Толстого (как в случае драмы «Власть тьмы»), но и его философским обобщениям. Но только с одной оговоркой – эти обобщения неприемлемы для обер-прокурора Св. Синода: «Да, надо сказать, – ведь все, что тут написано, – правда, как в зеркале, хотя я написал бы то же самое совсем иначе, а так, как у него написано, хотя и зеркало, но с пузырем – и от этого кривит» (ПСС. Т. 27. С. 593. Примеч. 2).
Еще раз подчеркнем: поразительно, каким внимательным читателем Толстого является Победоносцев. Хорошо известно, что Константин Петрович читал все, что было значительного в русской и европейской литературе, журналистике, социологии. Но из письма Е. М. Феоктистову видно, как читал Победоносцев. Обер-прокурор Св. Синода подметил серьезные колебания главного героя повести, Позднышева, который признает, что, помимо натуралистического взгляда на брак, есть и другой взгляд – как на Таинство, но сейчас, т. е. во второй половине XIX в., так на брак уже никто не смотрит. Победоносцев отмечает стремление героя Толстого к покаянию, отмечает, что если бы в сердце героя нашлась возможность признать и свою вину и протянуть руку помощи запутавшейся жене, история этой семьи могла бы сложиться по-другому: «…и от мужа зависело только пожалеть ее и вовремя остановить – не свирепым укором, а ласкою» (ПСС. Т. 27. С. 594).
Здесь нужно иметь в виду еще одно обстоятельство. Как совершенно справедливо заметил прот. Г. Митрофанов, именно русская литература впервые серьезно попыталась осмыслить проблему семьи и положение женщины в семье в XIX в., но литературный «образ идеальной женщины и семьи не связан с православием»; кроме того, реально, исторически также только в XIX в. происходит «осознание брака как единственного, на веки данного Богом»[1004]. Таким образом, в XIX в. мы имеем дело с двумя процессами, шедшими параллельно: осознание, рефлексия смысла христианской семьи и формирование идеала свободной любви и свободной женщины, которая стремится вырваться из жестоких рамок поработившей ее навеки семьи.
Победоносцев находит в себе силы признать нравственную правду повести Л. Н. Толстого: «И все-таки правда, правда в этом негодовании, с которым автор относится к обществу и его быту, узаконяющему разврат в браке. Произведение могучее. И когда я спрашиваю себя, следует ли запретить его во имя нравственности, я не в силах ответить да. Оболживит меня общий голос людей, дорожащих идеалом, которые, прочтя вещь негласно, скажут: а ведь это правда <…> Знаю, что это чтение никого не исправит, что во многих читателях оно достигнет противоположной цели <…> И не разделяю мнение тех, кои готовы возвесть эту повесть на степень какого-то евангелия идеальной нравственности. Тем не менее думаю, что нельзя удержать это зеркало под спудом» (ПСС. Т. 27. С. 593. Примеч. 2).
Но самым ценным представляется тот главный вывод, который К. П. Победоносцев делает в конце письма: «Увы! Как гр[аф] Толстой, подобно всем сектантам, забывает слово св. писания: “всяк человек есть ложь”. И потому истинную правду и истинный идеал человек должен искать не в своем чувстве и сознании, а вне себя и над собою» (Там же).
Таким образом, обер-прокурор не потерял способности увидеть произведение большой жизненной и художественной правды – но не согласиться с основными нравственными выводами писателя. Именно этот эпизод, отраженный в письме к Е. М. Феоктистову, является важной иллюстрацией к словам В. В. Розанова о Победоносцеве: «Можно без преувеличения сказать, что за весь XVIII, XIX и тоже десять лет XX в. в составе высшего нашего правительства не было ни одной подобной ему фигуры по глубокой духовной интересности, духовной красивости, духовной привлекательности, но оказывавшейся только «здесь в комнате» <…> Обычное представление о Победоносцеве»: “строгий, сухой чиновник”, “враг всего нового”, “беспощадный гаситель света’ – совершенно обратно действительности»[1005].
13 апреля 1891 г. жена писателя, С. А. Толстая, добилась свидания с императором, который дал разрешение печатать «Крейцерову сонату» только в составе полного собрания сочинений Л. Н. Толстого[1006]. Это свидание вызвало большое сожаление со стороны обер-прокурора Св. Синода, который в письме императору от 1 ноября 1891 г. сетует о том, что не знал о намерении государя принять жену Толстого, и говорит о пагубном влиянии творчества писателя на умы современников. В этом письме обер-прокурор Св. Синода называет писателя «фанатиком своего безумия», который «увлекает и приводит в безумие тысячи легкомысленных людей»[1007].
Свидетельство о «тысячах» не является преувеличением. В 1915 г. К. Н. Нардовым были опубликованы данные о тех тиражах, которыми издавались произведения Л. Н. Толстого в России. Нет никаких оснований не доверять этим цифрам. Итак, к ноябрю 1915 г. на русском языке было издано 4 610 120 экземпляров произведений Л. Н. Толстого, на других языках – 73 600 экземпляров. Таким образом, в среднем на каждых 18 грамотных читателей приходилась одна книга Толстого. По содержанию эти издания распределялись следующим образом: художественные – 2 312 320, религиозно-нравственные – 1 876 200, полное собрание сочинений – 352 600, педагогические – 91 200. По отдельным произведениям первые места занимают такие произведения, как «Живой труп», «Воскресение», «Исповедь»[1008].
В начале 1890-х годов конфликт Церкви и власти с Толстым обостряется, фактически здесь приходится говорить уже о подготовке отлучения писателя от Церкви. В 1890 г. Л. Н. Толстой упомянут в ежегодном отчете обер-прокурора. К марту 1891 г. относится проповедь прот. Е. Буткевича против Толстого в Харькове. К этому же периоду можно отнести и появление проповедей и антитолстовских произведений известных церковных иерархов – архиеп. Амвросия (Ключарева) и архиеп. Никанора (Бровковича).
Однако приходится констатировать, что, несмотря на кажущуюся очевидность, роль обер-прокурора в вопросе об отлучении писателя от Церкви до конца неясна. К. П. Победоносцев прекрасно понимал, насколько труден по соображениям конъюнктуры вопрос о возможных прещениях по адресу Толстого. По случаю публикации писателем упомянутой статьи о голоде он писал в 1892 г. тогдашнему редактору «Московских ведомостей» С. А. Петровскому: «Что делать с Толстым? Ведь это вопрос очень мудреный: ныне нет прежней пружины николаевских времен и надо соображать пропорцию времени»[1009].
То, что обер-прокурор был принципиальным сторонником энергичных мер против писателя, сомнений не вызывает. 26 апреля 1896 г. в письме С. А. Рачинскому К. П. Победоносцев подчеркивает ту пагубную роль, которую играет Толстой в России: он разносит заразу анархии и неверия. Далее Победоносцев указывает: «Есть предложение в Синоде объявить его отлученным от Церкви во избежание всяких сомнений и недоразумений в народе, который видит и слышит, что вся интеллигенция поклоняется Толстому»[1010]. Н. Н. Гусев сообщает (со ссылкой на Н. В. Давыдова), что в конце 1896 г. в Петербурге была образована специальная комиссия под председательством К. П. Победоносцева, «которой было дано поручение рассмотреть сочинения Льва Николаевича и выяснить приносимый ими вред»[1011]. Весь вопрос заключается в том, как далеко был готов идти обер-прокурор в своей борьбе против мятежного писателя.
Как уже указывалось выше, в феврале 1897 г. антиправительственная и антицерковная деятельность В. Г. Черткова и его ближайших сотрудников привела к их высылке. Этот шаг рассматривался в петербургском обществе как акт мести К. П. Победоносцева Л. Н. Толстому, причем интерпретировался он следующим образом: так как прямо преследовать Толстого не было возможности, то мера эта была реализована по отношению к его ближайшим друзьям и сотрудникам. По этому поводу в письме сестре С. А. Толстая указывала: «К радости моей и удивлению все петербургское общество в разных слоях негодует на эти высылки и отлично понимает источник злобы. Ну да Бог с ними, то место в истории, которое займут Толстой и его последователи, насколько завиднее того, которое достанется на долю разных господ в роде Победоносцева и К°»[1012] (письмо от 12 февраля 1897 г.).
Безусловно, одним из важнейших шагов, приблизивших появление синодального акта о Толстом, стало издание романа «Воскресение».
По поводу «Воскресения» следует сделать несколько дополнительных замечаний, связанных с историей и хронологией выхода его из печати. Роман публиковался в России в семейном издании «Нива», издателем которой был Адольф Федорович Маркс (1838–1904). В начале XX в. тиражи «Нивы» были огромными, а Маркса называли «фабрикантом читателей»: «Он умел пробуждать и удерживать читательский интерес к своим изданиям, стремился приобрести право первой публикации и не допускал разглашения редакционной тайны, чтобы сама публикация получилась сенсационной»[1013]. Мало кто ожидал, что Л. Н. Толстой отдаст свой новый роман именно в «Ниву», так как это издание не имело репутации «идейного» литературного органа и было рассчитано на пеструю аудиторию. Естественно, что в «Ниве» роман печатался с большим количеством цензурных изъятий. В «Ниве», в частности, были полностью опущены 39-я и 40-я главы первой части романа, содержащие описание тюремного богослужения.
В России новый роман Л. Н. Толстого стал печататься с 11-го номера журнала «Нива», датируемого 13 марта 1899 г. Издание второй части романа было закончено номером 37 (11 сентября 1899 г.), а последние главы романа были напечатаны в декабре 1899 г. Характерно, что вскоре после начала печатания романа А. Ф. Маркс обратился к Л. Н. Толстому с жалобой на то, что главы нового романа перепечатываются многочисленными русскими газетами сразу после их выхода в «Ниве» (см.: ПСС. Т. 33. С. 396). Кроме того, в течение 1900 г. в издательстве A. Ф. Маркса вышли два отдельных тождественных издания романа.
Одновременно с изданием Маркса роман готовился к печати B. Г. Чертковым в Англии, в «Свободном слове», и переводился на иностранные языки, что позволило так оперативно (впервые в жизни Л. Н. Толстого) познакомить с новым романом писателя весь цивилизованный мир. В течение 1899–1900 гг. издательство «Свободное слово» подготовило пять изданий романа «Воскресение», причем огромным тиражом, который полностью разошелся в России. Как установили исследователи, готовившие текст романа «Воскресение» к изданию в Полном собрании сочинений Л. Н. Толстого (так называемом юбилейном), по различным причинам в английское издание романа также попали те или иные цензурные искажения, как правило незначительные (см.: ПСС. Т. 32. С. 521).
После публикации в «Ниве» роман был перепечатан во многих русских издательствах, причем за короткое время в России появилось около 40 изданий «Воскресения», во Франции только за один 1900 год вышли 15 изданий романа, в Германии за два года «Воскресение» было издано 12 раз. Та же ситуация имела место и в других странах[1014].
Во всех других странах, кроме России, самые скандальные сцены романа обычно в первое издание не попадали – так случилось в Германии и США. Так же было и во Франции, так как первоначально текст романа печатался в консервативной газете «Echo de Paris».
Итог такой организации издания романа подвела в начале января 1900 г. газета «Россия», которая сообщала о том, что «роман Л. Н. Толстого читали разом, вместо десятков тысяч, сотни тысяч людей. Он проникал в массы небогатых читателей, до которых нередко вести о выдающихся явлениях литературы доходят из вторых рук»[1015].
Тиражи романа были так велики, что с марта 1899 г., когда роман был впервые (с большими купюрами) издан, до января 1900 г. этот роман прочитали действительно сотни тысяч людей во всем мире[1016]. Россия действительно была потрясена небывалым глумлением над православной верой (гл. 39, 40 первой части) и действительно узнала в Топорове Победоносцева.
Отклики на это произведение писателя показывают, что зарубежным читателям романа в первую очередь был близок его антигосударственный пафос, стремление показать тяжелую жизнь тех, кто вынужден своим трудом зарабатывать на хлеб. Но интересно, что резкая антицерковная направленность произведения оказалась неприемлемой даже для лиц, которые считали себя единомышленниками Л. Н. Толстого и не имели никаких симпатий по отношению к православию: здесь можно назвать французского литератора и ученого Ш. Саломона, английского квакера Джона Беллоуза и других[1017].
Показательно, что наибольшее сопротивление идеи Л. Н. Толстого нашли в Германии, где дело дошло даже до судебного разбирательства: в начале XX в. публицистические и религиозно-философские работы Толстого неоднократно запрещались, а в 1902 г. в лейпцигском суде разбиралось дело переводчика произведений Толстого на немецкий язык Р. Левенфельда и книгоиздателя Дидерикса, издание которыми в Германии сборника «Смысл жизни» рассматривалось как оскорбление Протестантской и Католической Церкви. Сборник был запрещен, «а издатели были привлечены к ответственности «за богохульство»[1018].
Прежде чем перейти конкретно к анализу обстоятельств, приведших к появлению синодального определения об отпадении Л. Н. Толстого от Церкви, следует сказать несколько слов по поводу известного утверждения некоторых историков о тотальном якобы всесилии обер-прокуроров, и особенно К. П. Победоносцева, в Синоде. Смысл подобных заявлений заключается в том, чтобы «доказать», что Победоносцев имел реальную возможность подготовить отлучение Л. Н. Толстого от Церкви не только без ведома членов Св. Синода, но чуть ли не без ведома самого императора.
Однако в действительности дело обстояло совершенно по-иному. В своем исследовании С. И. Алексеева показывает, что подавляющее большинство «решений» обер-прокурора Синода нуждалось в санкции синодального присутствия, причем это ограничение касалось даже вопросов назначения на второстепенные должности, например помощников наблюдателей в церковно-приходских школах, что давало право К. П. Победоносцеву утверждать, что юридически он не имеет никакой власти в своем собственном ведомстве, а с начала 1890-х гг., по мнению исследовательницы, которое находит подтверждение в материалах личной переписки обер-прокурора, К. П. Победоносцев вообще начинает утрачивать свое положение в Синоде[1019].
Этот последний вывод можно проиллюстрировать материалами переписки К. Н. Победоносцева с П. А. Тверским. Обер-прокурор указывает, в частности, по поводу истории духоборов, что она приняла столь острый характер только потому, что «за грехи и ошибки администрации по делам сектантским привыкли все ставить в ответ меня и церковное управление и все валить на мою голову. Напрасно: если бы в духоборческом деле не напутала администрация, без участия и ведома церковных властей – не было бы всей этой путаницы <…> Если бы делами сектантов не заведовало министерство внутренних дел, не знающее характера и существа сект, – дело мало-помалу обделывалось бы церковными средствами»[1020]. Тот же мотив звучит в переписке с другим корреспондентом: административные меры по отношению к сектантам (суды, выселения) – только вспомогательное средство; главное – подвиг священника и устроение церковной жизни и прихода[1021].
Известно, что К. П. Победоносцев имел возможность игнорировать свою стесненность рамками нормативных документов синодального ведомства тем, что обращался в подходящий момент непосредственно к императору, без утверждения которого ни одно решение Синода принципиального характера не могло быть актуализировано. Но в случае с Л. Н. Толстым этот «механизм» не мог сработать – слишком важным был вопрос, практически приобретший статус события, значимого не только для внутренней жизни России, но и для ее внешнеполитической репутации.
Таким образом, следует обратиться к истории появления синодального акта 20–22 февраля 1901 г. и проанализировать историю его появления и его содержание.
Смысл и значение синодального акта 20–22 февраля 1901 г.
Переходя к вопросу о непосредственной подготовке акта отлучения Л. Н. Толстого, следует заметить, что в этом сюжете ряд вопросов требует самой детальной проработки – необходимо найти ответ на следующие вопросы:
– Каким было отношение к Толстому со стороны императора Александра III? Кроме того, важно понять: каково было в целом отношение русского правительства к Л. Н. Толстому, насколько церковные санкции против писателя были для власти выгодны и приемлемы?
– Какова роль конкретно обер-прокурора Св. Синода К. П. Победоносцева в подготовке известной редакции синодального акта 1901 г. и каково было его отношение к этому акту?
– Какова роль митр. Антония (Вадковского) и его окружения в подготовке синодального акта от 20–22 февраля 1901 г.?
– Является ли синодальный акт действительно отлучением в строгоканоническом смысле слова или мы должны приписывать ему какое-то другое значение?
– Наконец, последнее: насколько вообще осмысленны и практически реализуемы призывы некоторых почитателей писателя «исправить историческую ошибку» и «отменить» распоряжение церковной власти?[1022]
Поставленные вопросы в современной России не только имеют абстрактный научный интерес, но существуют в определенном контексте, т. е. связаны с ожесточенными дискуссиями, которые давно уже получили выраженную идеологическую окраску. Этот контекст определяется вопросом о месте и роли Православной Церкви в жизни России. Очень характерно, что в одной из монографий последнего десятилетия православие характеризуется как «комплекс организационных структур и идеологических постулатов, не имеющих отношения к современности»[1023]. Похоже, к подобной оценке близка и другая исследовательница, серьезно утверждающая с высокой научной трибуны, что «официальная русская христианская православная церковь» (сам термин вызывает уже большое недоумение), которая «утверждала и насаждала в умах и образе жизни верующих» догмы и каноны, а также «ложную доктрину господствующей официальной христианской религии», совершала большой исторический грех, ибо эта доктрина внедрялась часто вопреки «образу жизни» и «историческим особенностям и культуре» русского человека[1024].
Еще один исследователь торопится заявить, что, как бы ни относился современный человек к Церкви, он вынужден «безусловно признать (это не будут отрицать и самые яростные сторонники православия), что разуму с церковным учением делать нечего», а «перед современным человеком сейчас альтернатива, выбор между истиной и Церковью»[1025]. При этом поразителен тот факт, что в «подтверждение» этой глубокой мысли даются ссылки на работы прот. С. Булгакова, который говорит вовсе не о противопоставлении разума и веры, а, наоборот, об их глубокой связи. Другой исследователь творчества Л. Н. Толстого, с явным сочувствием к взглядам писателя, противопоставляет «слепой вере» опору «на логику и факты»[1026], таким образом, совершенно искажая адекватное представление об объеме и содержании понятия «богословие» и давая неверное представление о способе «богословствования» самого Л. Н. Толстого. Далее этот же автор серьезно утверждает, что «с исторической точки зрения» смысл догмата о Св. Троице является «своего рода сокращенным вариантом языческого многобожия»: вместо множества боговявлений вводится всего (!) три Лица Одного Бога[1027]. Возникает законный вопрос, почему же три Лица, а не два, ведь так для человечества было бы еще экономнее?
Таким образом, авторы, пытающиеся представить какие-либо аргументы в пользу Л. Н. Толстого в его конфликте с Церковью, заранее ставят перед собой неблагодарную задачу, не имеющую никакого отношения к науке, – дать совершенно искаженный образ Церкви и ее учения, создать миф об «идеологической структуре», враждебной всякому проявлению прогресса и культуры.
Именно в рамках этой псевдонаучной «парадигмы» синодальный акт 1901 г. представляется как «одна из скандальных страниц» истории русской Церкви[1028], которая при этом настойчиво призывается к переосмыслению своих «отношений» с писателем: «От своего имени Толстой сказать уже ничего не может. Но эта возможность есть у Русской Церкви. Не пора ли понять и принять Толстого как великого русского христианина, выразившего в своем учении о законе любви и непротивлении злому неисчерпаемые гуманистические возможности русского православия»[1029]. Православная иерархия при этом обвиняется в том, что, проповедуя смирение и покорность гражданам России, сознательно и несмиренно не желает «простить бунтарю его гордый дух»[1030].
Нет смысла далее перечислять подобные примеры.
Складывается впечатление, что некоторые современные исследователи работают по следующему методу, впервые проницательно описанному В. Ф. Ходасевичем: «Котлета, съеденная Львом Толстым в 1850 году, для доцента – сущий клад; Толстой еще ест убоину. Но котлета 1900 года – уже несчастье, потому что не укладывается в схему»[1031]. Пришло время, когда необходимо констатировать, что в отношении русской церковной истории подобная «котлетная наука» трещит по всем швам – слишком много появилось таких «научных котлет», которые не укладываются в позитивистские схемы и требуют оперирования понятиями, которым до недавнего времени в отечественной науке места не находилось, например «духовная жизнь» или «христианская вера».
Учитывая сделанное замечание, следует перейти к сформулированным выше вопросам.
Ответ на первый из них может быть дан только в самых общих чертах. Представляется вероятным, что вопрос об отлучении Л. Н. Толстого мог быть поставлен только после смерти императора Александра III, который называл писателя не иначе как «мой Толстой» и постоянно просил его «не трогать», чтобы не сделать из него мученика[1032]. К тому же не забудем, что его супруга, императрица Мария Федоровна, была покровительницей семьи Чертковых, мать которого находилась с ней в очень близких отношениях.
Эти соображения были очень хорошо понятны современникам. В 1890 г. в письме Т. И. Филиппову из Оптиной пустыни К. Н. Леонтьев указывает, что ссылка Л. Н. Толстого имела бы совершенно отрицательные последствия, так как сохранила бы от его влияния «десяток мужиков», но привлекла бы к нему «сотни образованных юношей»[1033].
В этом смысле еще раз обратим внимание на описание визита к императору Александру III графини С. А. Толстой, жены писателя, по поводу издания «Крейцеровой сонаты», которое, помимо дневников графини, содержится во многих письмах, в частности в письме Н. Н. Страхова В. В. Розанову от 19 апреля 1891 г. Визит продолжался час, и «все ее просьбы были уважены <…> с этих пор сам Государь будет цензором Толстого – того, что он вперед задумает напечатать»[1034]. Описание визита подчеркивает милостивое отношение императора к писателю. Очень примечателен также комментарий В. В. Розанова к этому письму, который указывает, что по отношению к императору Л. Н. Толстой поступил «с невероятной грубостью», не оценив деликатного отношения к нему императора, и принялся «на виду» и «для народа» переводить конфликт с правительством «в шумную гласную ссору»: «Работа его была не тихая и внутренняя, не была работа “души”, а именно – публициста. Государь собственно очень много сделал для него, сжав большим внутренним усилием долг и личную жажду защищать Церковь, им определенно и горячо любимую и “защитником” коей его видел весь народ, и призывал к этому долг Государя»[1035].
Эта точка зрения подтверждается данными других источников: складывается впечатление, что в конечном счете любая «выходка» Л. Н. Толстого находила оправдание или прощение у императора. Очень характерна в этом отношении хорошо известная история с толстовской статьей о голоде 1892 г. Хотя она вызвала большой переполох, никаких последствий для писателя это не имело, что дало повод А. В. Богданович отметить в дневнике: хотя толки о высылке Толстого были совершенно определенными в январе, в феврале уже «видно, что с Толстым очень церемонятся»[1036].
Таким образом, император Александр III действительно был противником репрессий против Л. Н. Толстого, но сказать определенно, по какой причине, очень сложно. Здесь, по-видимому, имеет место сложная комбинация различных факторов, которые можно только перечислить, так как материала для определенных выводов пока совершенно недостаточно.
Во-первых, император и правительство откровенно не желали громкого политического скандала.
Во-вторых, определенное значение могли иметь связи В. Г. Черткова (точнее, его матери) при дворе, а также влияние на императора гр. А. А. Толстой, которая неоднократно пользовалась своим положением, чтобы тем или иным способом помочь своему племяннику. Так, в 1886 г. она способствовала погашению скандала по поводу опубликования в английской печати антиправительственной статьи писателя (этот скандал чуть не привел к ссылке Толстого в Суздальский монастырь), а в 1891 г. – организации визита к государю жены писателя, гр. С. А. Толстой[1037].
В-третьих, некоторый интерес представляет гипотеза А. Фодора, о которой речь шла выше: В. Г. Чертков и его критика революционных, насильственных методов борьбы с правительством могли кем-то в правительстве рассматриваться как некий сдерживающий фактор.
Важно отметить, что до выхода в свет романа «Воскресение» все предыдущие произведения писателя, в том числе и антицерковные и антигосударственные философские трактаты, издавались только за границей и только достаточно ограниченными тиражами. Для получения экземпляра такого произведения нужно было прикладывать некоторые усилия, а глумление над церковным учением и литургическим церковным строем не было столь выражено, как в последнем большом романе Л. Н. Толстого (хотя все кощунственные мысли и выражения писателя можно найти и в более ранних произведениях).
Ситуация принципиально меняется, как было показано выше, с выходом «Воскресения». И «чертковское» издание этого романа, и его переводы на иностранные языки позволили познакомить с ним огромное количество читателей по всему миру, в том числе и в России. Совершенно справедливо указывает Л. Мюллер, что толстовские религиозные трактаты были малодоступны большинству читателей, но только узкому кругу. Дело принципиально менялось, когда речь заходила о романе «Воскресение», изданном огромными тиражами на всех европейских языках[1038].
Наконец, в-четвертых, не следует сбрасывать со счетов и преклонение перед талантом писателя, которое было характерно для императора Александра III.
Очень ценные штрихи для прояснения этого вопроса дают воспоминания гр. С. Д. Шереметьева. Он утверждает, что император восхищался Толстым как писателем, затем сожалел о его новом направлении, считая его человеком увлекающимся, но «искренним и пламенным», наконец, очень трезво смотрел на его деятельность: «он разобрал его со свойственным ему тонким психологическим чутьем», несмотря на то что в пользу писателя действовала его придворная агентура (здесь называются гр. А. А. Толстая и Е. Г. Шереметьева). Именно эти «агентурные действия» привели к упомянутому визиту жены писателя[1039]. Далее С. Д. Шереметьев сообщает, что ему несколько раз приходилось говорить с государем о писателе и слушать его суждения, в которых «никогда не было запальчивости и озлобления. Он говорил трезво, спокойно, с оттенком грусти и сожаления и не бросал в него камня»[1040].
Важно обратить внимание еще на одно обстоятельство: эскалация решимости самого Л. Н. Толстого бороться с «ненавистным режимом», по всей видимости, приходится на период уже после смерти императора Александра III и связана с двумя обстоятельствами. Во-первых, это начало решительного преследования русским правительством духоборов после демонстративного сожжения последними оружия на Кавказе в июне 1895 г. Как указывает А. А. Донсков, репрессии против духоборов были «прямым вызовом всей толстовской философии ненасилия»[1041]. Во-вторых, это связанная с первым обстоятельством высылка в 1897 г. ближайших сотрудников Л. Н. Толстого, в первую очередь В. Г. Черткова. После этого шага правительства писатель почувствовал себя лично оскорбленным, в письме В. Г. Черткову в феврале 1897 г. он указывает, что теперь то, что случилось, «требует от меня того, чтобы высказать до смерти все, что я имею сказать. А я имею сказать очень определенное и, если жив буду, скажу», тем более что «меня не трогают» (ПСС. Т. 88. С. 12). Несколько позже он поясняет, что именно, с его точки зрения, будет являться одним из объектов такой критики – «вера в сверхъестественное. Ох, как бы мне хотелось успеть написать об этом то, что хочется!» (ПСС. Т. 88. С. 37). Уже после опубликования синодального акта Л. Н. Толстой писал В. Черткову, что «они, враги не наши, а истины, – доживают последние дни» (ПСС. Т. 88. С. 249)[1042].
Другими словами, писатель встает на путь ожесточенной борьбы с «режимом» и Церковью – в этих строках объяснение его ожесточения, кощунственных 39-й и 40-й глав первой части романа «Воскресение», «Ответа Синоду» и «Послания духовенству».
В исследованиях, посвященных предыстории отлучения Л. Н. Толстого, указываются некоторые «знаковые эпизоды», которые можно рассматривать в качестве своеобразных этапов подготовки этого события. Кратко перечислим их.
1888 г. – письмо архиеп. Херсонского Никанора (Бровковича) проф. Н. Я. Гроту о проекте в Синоде провозглашения анафемы Толстому. Возникновение проекта обращения Св. Синода об отлучении Толстого, текст которого неизвестен[1043].
1891 г. – упоминавшаяся выше речь харьковского протоиерея Т. Буткевича «О лжеучении графа Л. Н. Толстого» с призывом предать писателя анафеме[1044].
1896 г. (26 апреля) – письмо К. П. Победоносцева С. А. Рачинскому с упоминанием о возможности отлучения Л. Н. Толстого: «Есть предложение в Синоде объявить его отлученным от Церкви во избежание всяких сомнений и недоразумений в народе, который видит и слышит, что вся интеллигенция поклоняется Толстому <…> Вероятно, после коронации возбудится вопрос: что делать с Толстым?»[1045].
1897 г. – третий миссионерский съезд в Казани – отношение Церкви к Толстому. Призыв рассмотреть вопрос о возможности отлучения Толстого от Церкви[1046].
1897 г. – приезд в Ясную Поляну прот. Д. Троицкого с пастырскими увещаниями[1047].
Однако ни одна из этих инициатив не была доведена до логического завершения. Теперь необходимо более подробно рассмотреть те имеющиеся в нашем распоряжении документы, которые позволяют в общих чертах реконструировать историю отлучения писателя. Важной исследовательской задачей является сравнение текста этих документов, на основании чего можно сделать достаточно определенные выводы.
1. Проект постановления об отлучении Л. Н. Толстого архиеп. Амвросия (Ключарева), опубликованный в 1899 г. в журнале «Вера и Церковь»[1048]. В редакционном предисловии к данной публикации сообщается, что 24 октября 1899 г., т. е. вскоре после выхода романа «Воскресение», проездом из Крыма харьковского архиерея преосв. Амвросия посетил первенствующий член Св. Синода митр. Иоанникий (Руднев). По совету последнего было решено, что архиеп. Амвросий возбудит в Св. Синоде вопрос о Толстом. Какой характер имело обсуждение этого вопроса, автор не указывает. Никаких следов обсуждения этого вопроса в Синоде не имеется, так что речь может идти только об анализе журнальной публикации.
Следует заметить, что по стилю этот документ действительно очень напоминает харьковские проповеди архиеп. Амвросия, направленные против представителей интеллигенции. Чтобы убедиться в сказанном, достаточно сравнить текст проекта (см. приложение к настоящей работе) с брошюрой архиеп. Амвросия «О религиозном сектантстве в нашем образованном обществе»[1049]. В тексте документа специально указывается, что новая угроза для Церкви исходит от «людей образованных»; упоминаются также столь характерные для владыки Амвросия выражения, как «ложно понятая наука», «ложное просвещение», а также «ложные начала философские». Последние фразы проекта прямо направлены против интеллигентных почитателей писателя, кроме того, говорится, что «наука без слова Христова и сама не устоит на прямом пути и не спасет уповающих на нее».
Проект, представленный в редакцию журнала, составлен в очень жестком стиле: в его преамбуле сказано, что Господь заранее предупредил Своих учеников о появлении «различных еретиков, лжеучителей и совратителей», которым будут оказывать сопротивление пастыри и учители. Одной из главных задач последних является извержение из Церкви «ожесточенных и нераскаянных распространителей лжи и разврата», «лжеучителей и врагов Церкви Христовой». Далее называется Л. Н. Толстой, «восставший и озлобленный противу Церкви Божией», и кратко перечисляются его заблуждения. Эта часть документа заканчивается пассажем: «…нет христианской истины и учреждения, которых не коснулась его преступная рука».
Вывод автора документа: Св. Синод вынужден всенародно объявить гр. Л. Н. Толстого врагом Православной Церкви, а также подчеркнуть, что всякий, кто увлекается его сочинениями и разделяет его богохульные мысли, подвергает себя опасности отлучения от Церкви. Примечательно, что далее упоминается Неделя Торжества Православия, в которую громогласно осуждаются все лжеучителя.
Анализируя текст проекта, можно сделать два вывода: во-первых, наметилась структура документа, который по содержанию носит характер именно отлучения; во-вторых, в нем присутствуют резкие и недвусмысленные выражения, которые, как мы увидим дальше, в более поздние документы не войдут.
2. Секретное циркулярное письмо первенствующего члена Св. Синода митр. Иоанникия (Руднева) архиереям по поводу болезни и возможной смерти Л. Н. Толстого. Письмо датируется мартом 1900 г., когда в обществе распространились слухи о тяжелой болезни писателя. Документ начинается утверждением о необходимости своевременно разрешить вопрос о возможности служения панихид по Л. Н. Толстому в случае его смерти во время болезни, а также содержит инструкцию епархиальным архиереям о возможности заупокойных поминовений. В письме говорится, что, поскольку многие почитатели Толстого с его учением знакомы только по слухам, они могут просить священников совершить в случае смерти Толстого какие-либо церковные действия, а священники по неведению могут на это согласиться. Между тем Толстой ясно заявил себя врагом Церкви. Письмо заканчивается следующим выводом: «Таковых людей Православная Церковь торжественно, в присутствии верных своих чад, в Неделю Православия объявляет чуждыми церковного общения»[1050], поэтому совершение заупокойных литургий, поминовений, панихид в случае смерти Толстого без покаяния Св. Синод запрещает.
Очень важно подчеркнуть, что во время обсуждения данного циркуляра в Св. Синоде его первенствующий член внес предложение издать не конфиденциальное, а официальное распоряжение по этому поводу, но эта идея была членами высшего церковного органа отвергнута[1051].
Конфиденциальное письмо митр. Киевского Иоанникия (Руднева) стало очень скоро достоянием гласности. Оно было передано в епархиальные консистории и далее настоятелям приходских храмов. Копии этого письма из некоторых епархий попали в редакции петербургских газет и могли стать известны более или менее широкому кругу лиц. Хотя сами газеты не могли текст письма напечатать, они, возможно, передали его В. Черткову в Лондон. Реакция в Европе последовала по следующей цепочке: сначала документ был напечатан в Лозанне, а потом (в сентябре 1900 г.) в Англии и Франции[1052].
Таким образом, хотя письмо митр. Иоанникия было конфиденциальным и адресовалось исключительно епископам, по своей структуре оно носило характер энциклики и в этом отношении напоминает и проект архиеп. Амвросия, и последующие документы. Заметим еще раз, что и в этом документе фигурирует в качестве ключевой даты Неделя Торжества Православия. Кроме того, никаких упоминаний об отлучении и анафеме документ не содержит.
Очень характерно, что это распоряжение церковной власти вызвало явное неудовольствие власти светской. В своей записке директор Департамента полиции С. Зволянский подчеркивает, что никаких предварительных сношений с МВД по данному вопросу духовным ведомством сделано не было «и что, по мнению Департамента полиции, настоящее распоряжение, может быть согласное с церковными правилами, но едва ли уместно и своевременно с общей точки зрения, вызывая к себе лишь ироническое отношение в большинстве интеллигентных кругов. Последователи же Гр[афа] Толстого видят в этом лишь бесцельную попытку духовного ведомства ослабить учение Толстого, за невозможностью борьбы с ним на другой почве»[1053].
Это замечание очень характерно и также является особенностью тех документов самого разного уровня, имеющих отношение к Л. Н. Толстому, которые создавались в различных правительственных учреждениях: как правило, их формулировки гораздо мягче, они явно носят компромиссный характер, в отличие от документов церковной власти. Тем не менее, как показывают материалы, опубликованные уже после революции, запрет священнослужителям совершать по писателю заупокойные службы рассматривался государственными чиновниками разных рангов вовсе не как внутрицерковное дело[1054].
3. Письмо митр. Антония (Вадковского) К. П. Победоносцеву 11 февраля 1901 г. Этот документ, который подробно был рассмотрен выше, можно рассматривать в качестве первого шага к конкретной реализации идеи отлучения. Митрополит сообщает своему корреспонденту, что в Синоде все пришли к мысли о необходимости обнародовать в «Церковных ведомостях» суждение Церкви о Л. Н. Толстом. Лучше, считает первенствующий член Синода, это сделать 17 февраля, в канун Недели Православия[1055].
4. Воспоминания В. М. Скворцова. Этот важнейший документ был напечатан в «Колоколе» в ноябре 1915 г. Автор указывает, что, по общему убеждению, виновником отлучения от Церкви гр. Толстого является обер-прокурор Св. Синода К. П. Победоносцев, с которым писатель решительно расходился во взглядах. Далее Скворцов подчеркивает: «Но я с решительностью свидетельствую, что укоренившееся это мнение представляет собой глубокое заблуждение. Наоборот, К. П. Победоносцев с самого начала этого дела был против известного синодского акта и после его издания остался при том же мнении. Он лишь уступил или вернее допустил и не воспротивился, как он это умел делать в других случаях, осуществить эту идею, которая исходила от покойного митрополита Антония, на которого, говорили тогда, с решительностью повлиял другой иерарх – полемист против Толстого»[1056].
Совершенно очевидно, что под «полемистом» здесь имеется в виду владыка Антоний (Храповицкий), который к моменту подготовки синодального распоряжения уже был автором многих сочинений, направленных против писателя, и в то же время уже долго был знаком с новым первенствующим членом Св. Синода. Очевидно, вл. Антоний (Храповицкий) в этот момент решил воспользоваться удобной ситуацией, чтобы склонить митрополита Антония к решительному шагу – открытому заявлению Церковью своей официальной позиции по поводу Л. Н. Толстого.
В следующем номере «Колокола» приводятся дальнейшие подробности подготовки синодального акта. И в этой публикации автор повторяет свою уверенность, что К. П. Победоносцев не был ни инициатором, ни сторонником отлучения Толстого. В качестве первого шага здесь указывается на факт болезни Л. Н. Толстого (воспаление легких) в 1900 г. Поскольку среди московского духовенства распространялись гектографические издания антицерковных сочинений Толстого, один из священников, «человек широкого университетского и богословского образования, отец И. Ф-ль» (очевидно, известный московский священнослужитель, издатель и биограф К. Н. Леонтьева, прот. Иосиф Фудель), обратился с частным письмом к автору публикации, прося узнать у Победоносцева, как Синод решит вопрос о возможности панихиды и православного погребения Толстого в случае его смерти. В своем письме священник указывал: «Моя иерейская совесть смущается, как я буду петь «Со святыми упокой, Христе, душу раба Твоего Льва», когда я знаю, что этот самый Лев совсем не раб Христа, а Его жестокий хулитель, паки распинающий и заушающий нашего Господа и Спасителя». По поводу этого запроса о. Иосифа Фуделя Победоносцев, со слов Скворцова, заметил следующее: «Да, позвольте, что он мудрит: ведь ежели эдаким-то манером рассуждать, то по ком тогда и петь его “со святыми упокой”. Мало еще шуму-то около имени Толстого, а ежели теперь, как он хочет, запретить служить панихиды и отпевать Толстого, то ведь какая поднимется смута умов, сколько соблазна будет и греха с этой смутой?.. А по-моему, тут лучше держаться известной поговорки: не тронь…» В публикации сообщается, что «духовные москвичи» с подобными запросами обращались и к иерархам, в результате чего и возник знаменитый секретный циркуляр митр. Иоанникия, а в церковной печати стали даже появляться прямые обвинения Синода в бездействии. Далее Скворцов указывает, что ближайшими сотрудниками и советчиками митр. Антония в это время были: еп. Антоний (Храповицкий), еп. Сергий (Страгородский), еп. Иннокентий (Беляев), еп. Кирилл (Смирнов), архим. Антонин (Грановский) и архим. Михаил (Семенов).
Для Скворцова не подлежит сомнению, что в указанном кружке «зрела не только идея о возглавлении Русской Церкви патриархом, но и о засвидетельствовании об определенном отношении иерархии к лжеучению гр. Толстого». Далее Скворцов подчеркивает, что хотя, по его мнению, митрополит Антоний (Вадковский) – иерарх чуткой души, добрый и великодушный, но он не является ни в какой степени человеком инициативы и борьбы. Тем удивительнее тот факт, что «инициатива об издании синодского акта 20–22 февраля 1901 г. исходила от митрополита Антония совершенно неожиданно и в настойчивой форме».
Весь процесс подготовки проекта отлучения Скворцов представляет в следующем виде. Предположительно 18 февраля В. К. Саблер попросил Скворцова «немедленно составить доклад» о лжеучениях Толстого, а у Скворцова как раз в это время была на руках изданная за границей Чертковым книга «Христианское учение гр. Л. Н. Толстого». По поводу этой книги Скворцов пишет: «Никому в голову не приходило усомниться: а насколько точно это «Христианское учение» издания Черткова выражало подлинные религиозные верования самого Льва Николаевича. Да и ныне трудно сказать, что в нем Толстого, а что Черткова и К°, – один Бог знает и унесший в загробный мир эту тайну сам Л. Н. Толстой». Далее Скворцов утверждает, что в деле канцелярии Св. Синода по этому поводу должны быть три документа: 1) доклад с изложением учения Толстого; 2) собственноручный проект отлучения, написанный Победоносцевым; 3) исправленная редакция послания, правку вносил митр. Антоний и другие члены Синода, отдельно назван архиеп. Иаков Кишиневский, позже Казанский: «Сделанные иерархами Синода исправления были направлены на смягчение тона и содержания послания, с тем чтобы оно имело характер не отлучения от Церкви, а засвидетельствования об отречении Льва Толстого от православия и отпадения его от Церкви, а также – призыва к покаянию».
Скворцов утверждает, что для окончательного установления редакции понадобилось два заседания Синода. Кроме того, он подчеркивает, что один экземпляр «Церковного вестника» был препровожден «в высокие сферы, впервые тогда осведомившиеся об этом историческом шаге, самостоятельно предпринятом высшей церковной властью»[1057].
Следует заметить, что указанные статьи в «Колоколе» сразу же вызвали бурную полемику в периодической печати и ряд возражений, в том числе указания на неточности, которые содержатся в рассказе В. М. Скворцова. Главной из таких неточностей является утверждение В. М. Скворцова, что формальным поводом к отлучению Л. Н. Толстого послужил доклад Д. С. Мережковского на заседании знаменитых Религиозно-философских собраний. Конечно, этого быть не могло, так как сами заседания начались осенью 1901 г., т. е. уже много позже опубликования синодального акта. Как уже было сказано выше, В. М. Скворцов перепутал два разных выступления Д. С. Мережковского: осеннее, на Религиозно-философских собраниях, и февральское, на заседании Санкт-Петербургского философского общества.
Однако само свидетельство В. М. Скворцова очень знаменательно. Как уже также было отмечено выше, 6 февраля 1901 г., т. е. всего за несколько дней до письма митр. Антония (Вадковского) К. П. Победоносцеву, о котором шла речь, Д. С. Мережковский сделал доклад о Толстом на заседании Санкт-Петербургского философского общества, причем этот доклад сопровождался «протолстовскими» комментариями известного столичного священника Г. Петрова, бывшего тайным поклонником писателя. Существует ли связь между этим докладом и инициативами Св. Синода по поводу опубликования синодального акта, пока сказать трудно, однако можно предполагать, что «выходка» известного и популярного в столице священника и проповедника могла подлить масла в огонь. Если бы память В. М. Скворцову не изменила, он вспомнил бы, что 14 лет назад, т. е. в феврале 1901 г., сам делал в «Миссионерском обозрении» отчет об этом заседании. В этом отчете первый оппонент на докладе Д. С. Мережковского, выступивший, как и сам докладчик, с жесткой критикой писателя, назван по имени (приват-доцент Московского университета А. П. Нечаев). А вот второй, взявший на себя защиту Л. Н. Толстого, по имени не назван. Очевидно, что этим вторым оппонентом и был свящ. Г. Петров. Понятно, почему в 1901 г. В. М. Скворцов в «Миссионерском обозрении» не хотел открывать его имени: складывалась совершенно парадоксальная, если не сказать скандальная, ситуация, когда против Л. Н. Толстого выступил приват-доцент университета, а защищал его православный священнослужитель[1058].
Таким образом, к свидетельству В. М. Скворцова, что «выходка» свящ. Г. Петрова послужила формальным поводом к отлучению, следует отнестись с большим вниманием.
Какие выводы можно сделать на основании изучения воспоминаний В. М. Скворцова?
– Очевидно, что вопрос об отлучении Л. Н. Толстого возник в период, когда первенствующим членом Св. Синода стал новый петербургский митрополит Антоний (Вадковский).
– На митрополита Антония (Вадковского) было, по всей видимости, оказано давление со стороны лиц, вошедших в его окружение; в первую очередь здесь следует назвать владыку Антония (Храповицкого), уже долгое время писавшего против Л. Н. Толстого.
– Непосредственного отношения к идее отлучения К. П. Победоносцев не имел, но, как постоянный автор официальных документов, был привлечен к составлению соответствующего акта.
– С точки зрения В. М. Скворцова, подготовка отлучения проходила без ведома императора.
– Окончательный текст отлучения снова был смягчен по сравнению с исходным вариантом.
– И еще одно замечание. Обращают на себя внимание, как в связи с историей секретного циркуляра митр. Иоанникия, так и в связи с подготовкой синодального акта 1901 г., инициативы священнослужителей (свящ. И. Фуделя и Г. Петрова), о первой из которых (обращение с письмом к автору воспоминаний) В. М. Скворцов в своих воспоминаниях сообщил, а о второй (апология толстовства на обсуждении реферата Д. С. Мережковского) умолчал. Конечно, только воспоминаний В. М. Скворцова для утверждения, что именно действия священнослужителей послужили причиной активизации церковной власти и эскалации церковных прещений в адрес Л. Н. Толстого, совершенно недостаточно. Но следует более серьезно задуматься над вопросом, не был ли косвенной причиной этой эскалации страх священноначалия по поводу того, что недоумения и даже симпатии, связанные с именем писателя, получат более широкое распространение именно в церковной среде.
5. «Слово в Неделю православия», произнесенное в Исаакиевском кафедральном соборе 18 февраля 1901 г} Слово произнес архим. Сергий (Тихомиров), в то время ректор Петербургской семинарии, в будущем митрополит Токийский. Нужно обратить внимание на то, в какой именно день эта проповедь была произнесена: именно в Неделю православия, т. е. в первое воскресенье Великого поста. Таким образом, хотя Л. Н. Толстой [1059] в проповеди не был назван по имени, церковная власть хотя бы частично реализовала свое намерение: в знаковый для Церкви день с высокого церковного амвона был произнесен, правда, очень осторожный и умеренный, но все-таки приговор писателю.
Первая цель проповеди заключалась в том, чтобы объяснить, в чем смысл анафемы «на тех, которые своими заблуждениями уже давно по существу отлучили себя от Церкви». Вторая цель: опровергнуть мнение, что, анафематствуя еретиков, Церковь не поступает по Христовой любви. Другими словами, очевидно, что это «Слово» представляет собой подготовку общественного мнения к предстоящему акту отлучения. Сразу создается впечатление, что в «Слове» речь идет не вообще о смысле чина в Неделю православия, не вообще о еретиках, а конкретно о Толстом, который по имени не назван.
Далее в «Слове» свидетельствуется, что заблуждающиеся сами рвутся из объятий Церкви, а она готова всегда принять их обратно в свое лоно с «любовью безграничной». Исключение составляет случай, когда заблудившийся упорно пребывает в своем заблуждении и с помощью сатаны продолжает «похищать овец из стада Христова», причем последний случай особенно опасен для Церкви, если совершает его «лицо влиятельное». В этом случае, как и в истории коринфской церковной общины, описанной в 1 Кор 5, Собор «не останавливается перед суровостью наказания», чтобы спасти заблудшего с любовью хотя бы «страхом из огня», и предает такового сатане во измождение плоти, но с целью «да дух спасется». Также и в наше время Церковь, сурово изрекая истину о заблудших голосом любви, спасающей «страхом из огня», готова не менее громко провозгласить «утвердите к ним любовь» (2 Кор 2. 8), если заблудшие придут в разум истины и покаются. В «Слове» подчеркивается, что эта крайняя и суровая мера применяется только в случае, если уже не помогают прочие предварительные меры. Наконец, подробно перечисляются все догматические заблуждения этих лиц, которые потом были кратко упомянуты в тексте самого определения, в том числе, между прочим, анафема и на «дерзающих поднимать свою святотатственную руку на помазанника Божия»: отрицание бытия Божия, Промысла, отрицание Бога духовным существом, отрицание Божественного достоинства Христа и Святого Духа, необходимости искупления, приснодевства Пресвятой Богородицы, вечной жизни, церковных Таинств, святых икон. Заканчивается «Слово» утверждением, что все эти лица «сами себя отделили от Церкви». [1060]
Таким образом, «Слово» представляет собой своеобразный комментарий к акту отлучения, в нем отсутствуют какие-либо резкие термины (анафема или отлучение), а сам Л. Н. Толстой персонально не упомянут.
6. Дело Св. Синода 1901 г.[1061] Это важнейший архивный документ, до сих пор не изданный и позволяющий получить ответы на некоторые принципиальные вопросы. Дело содержит проект определения Св. Синода о Толстом (машинопись) с рукописной правкой. В чем содержание этой правки? Во-первых, из проекта вычеркнуто слово «глумление», которое в окончательную редакцию определения все-таки было включено[1062]. На наш взгляд, это свидетельствует о сложном процессе подготовки документа и возможных противоречиях между иерархами, которые в этой подготовке участвовали.
Во-вторых, абзац из проекта «Все сие проповедует граф Толстой непрерывно, словом и писанием, к соблазну и ужасу всего православного мира, – и тем, не прикровенно, но явно пред всеми, сознательно и намеренно отлучил уже себя сам от всякого общения с Православной Церковью, которая не может признать его своим членом»[1063] в окончательный текст определения вошел с очень большими изменениями. Заметим самое, с нашей точки зрения, важное: слово «отлучил» в окончательном тексте отсутствует, оно заменено на «отторгнул».
В окончательный текст не попали еще два важных абзаца, в которых речь шла о том, что Православная Церковь не может провожать кончину человека, подобного Толстому, своими молитвами, так как в противном случае она должна по церковному чину свидетельствовать, что усопший до последнего издыхания оставался верен вере и благоговейному исповеданию Отца и Сына и Святого Духа. Поэтому Святейший Синод «не может разрешить совершения церковного чина поминовения и отпевания Графа Льва Толстого в случае его кончины, если он до того не раскается и не восстановит своего общения с Церковью»[1064].
Очевидно, что и в этом отрывке прослеживается общая тенденция: составители окончательного варианта отлучения были очень серьезно озабочены тем, чтобы всякий след упоминания об анафеме был уничтожен в этой последней редакции.
7. Синодальный акт 1901 г. Содержание этого документа хорошо известно, но требуют пояснения два специальных вопроса.
Первый. Почему все-таки синодальное определение было выпущено несколько позже, а не к первой неделе поста? Уже давно была высказана точка зрения, что это связано с возможными разногласиями в Синоде по поводу формы определения. Косвенное подтверждение этого обстоятельства есть в дневнике Г. В. Вернадского, который имел возможность в США общаться с митр. Платоном (Рождественским). Последний сообщил Вернадскому, что считает отлучение Толстого большой ошибкой и эту свою точку зрения довел в свое время до митр. Антония (Вадковского), который, по словам митр. Платона, впоследствии очень жалел о происшедшем[1065].
Второй вопрос более серьезный: можно ли воспринимать синодальный акт 1901 г. именно как отлучение писателя от Церкви?
Выше мы уже убедились, что на протяжении по крайней мере двух лет «виртуальный текст» акта подвергался правке в сторону смягчения возможных формулировок. В связи с этим представляется возможным сделать следующие выводы:
– Сама церковная власть проявила максимальные усилия, чтобы избежать скандала и общественного возмущения; именно поэтому слова «анафема» и «отлучение» были заменены на более нейтральный, но менее определенный термин «отторжение».
– Синодальный акт 1901 г. носит характер торжественного церковного исповедания, в отличие от циркулярного письма митр. Иоанникия 1900 г. Кроме того, документ совершенно однозначен по своим церковно-каноническим последствиям: он недвусмысленно удостоверяет, что без покаяния для Л. Н. Толстого невозможны будут ни христианское погребение, ни заупокойная молитва (не говоря уже о евхаристическом общении). Очень характерно, что человек, непосредственно причастный к составлению синодального определения, – В. М. Скворцов – сразу после его издания заметил в «Миссионерском обозрении», что в случае раскаяния Л. Н. Толстой будет принят в Церковь по третьему чину, т. е. через отречение от своих заблуждений, покаяние в грехах и напутствование Св. Тайнами[1066].
В связи с этим следует кратко остановиться на вопросе о том, что такое церковная анафема. В церковной традиции под отлучением исторически подразумевалось самое строгое из церковных наказаний, имевшее смысл отделения виновного от Тела Христова и осуждения его на вечную погибель (aeternae mortis damnation).
Церковь различала отлучение полное, или великое (excommunicatio major seu anathema), и отлучение малое (excommunicatio minor, dfoptomOq).
Прежде всего несколько слов о понятии «отлучение» (греч. dvdOsma). В церковном праве под анафемой понимается совершенное отлучение христианина от общения с верными чадами Церкви и от церковных Таинств, применяемое в качестве высшей кары за тяжкие преступления, каковым является измена православию, т. е. уклонение в ересь или раскол. Анафема обязательно должна соборно провозглашаться. Фактически анафема есть констатация того факта, что данное лицо лишено благодатной помощи Церкви – как при жизни, так и после смерти (конечно, в случае отсутствия покаяния).
От анафемы следует отличать временное отлучение члена Церкви от церковного общения, служащее наказанием за менее тяжкие грехи (греч. dfoptomOq). Последний вид отлучения имел в церковной практике название врачевательного отлучения, его примером может служить практика публичного покаяния и возвращения виновного в число верных через последовательные ступени (плач, слушание, припадание, купностояние).
К числу особых видов отлучения относится так называемый интердикт, т. е. отлучение, которое распространяется не на отдельное лицо, а на целую местность или круг лиц.
Главное отличие первого вида отлучения от второго заключается в том, что анафема в буквальном смысле слова произносится над нерас-каявшимся грешником и доводится до сведения всей Церкви. Кроме того, снятие анафемы предполагает покаяние перед всей Церковью и согласное принятие этого покаяния церковной полнотой.
Сравнительно рано отлучение за тяжкие грехи стало выходить из церковного употребления и заменяться наложением епитимий. Отлучению в первую очередь подлежали догматические заблуждения и вообще все, что несло в себе угрозу церковному единству.
Следует иметь в виду, что в Церковь всегда с большой осторожностью относилась к вынесению приговора об анафеме (впервые это слово начинает использоваться в постановлениях соборов с IV в.). Главным критерием для этого служила оценка степени опасности того или иного учения для церковного сообщества, а также степень упорства данного лица в проповедуемом учении. Таким образом, Церковь опиралась на слова Самого Христа: «…если и Церкви не послушает, то да будет он тебе как язычник и мытарь» (Мф 18. 17).
Исторически и в Русской Православной Церкви анафема всегда являлась очень осторожным и взвешенным воспитательным актом и применялась только после многих тщетных попыток вразумить данного человека и вызвать у него покаяние. Эта мысль ясно выражена в «Духовном регламенте»: «Ибо не просто за грех подлежит анафеме, но за явное и гордое презрение суда Божия и власти Церковныя с великим соблазном немощных братий, и что тако воню безбожия издает от себя»[1067].
Таким образом, анафема, или отлучение («предание сатане», по выражению ап. Павла, ср. 1 Кор 5. 5), – последняя, крайняя, самая строгая мера, применяемая к вразумлению виновного, когда по отношению к нему использованы все прочие меры исправления: «.анафема не то ли значит, чтобы такой-то был предан диаволу, не имел участия во спасении, был отвержен от Христа?»[1068].
Среди церковно-канонических источников выделяется «Слово…», которое принято приписывать святителю Иоанну Златоусту, однако такая атрибуция является сомнительной. Автор источника, подчеркивая великую ответственность произнесения церковного проклятия, говорит следующее об апостолах и епископах – их преемниках: «И они, строго соблюдая заповедь, отлучали еретика от Церкви, как бы исторгая этим у себя правый глаз, чем доказывается их великое сострадание и соболезнование, как бы при отнятии поврежденного члена <…> Ибо анафема совершенно отлучает от Христа»[1069].
Данный источник принадлежит к тем документам, которые вообще склонны отрицать саму возможность отлучения – как по соображениям христианской любви, так и по более формальному аргументу, характерному для богословия блаж. Августина: благодать крещения неизгладима и неотъемлема и поэтому препятствует абсолютному лишению церковной помощи.
Следует иметь в виду, что церковная анафема провозглашалась далеко не для всякого учения и лица – его носителя, а в первую очередь по отношению к людям, которые упорствовали в своей еретической доктрине, соборно осужденной Церковью, и отвергали саму возможность покаяния для себя перед Церковью, когда осужденное учение носило прямо богоборческий характер, отрицало само понятие «благодать», т. е. имело черты такого антицерковного противоборства, которое не простится ни в сем веке, ни в будущем (Мф 12. 32): «Когда Церковью предается анафеме какое-либо учение – это значит, что учение содержит в себе хулу на Святого Духа и для спасения должно быть отвергнуто и устранено, как яд устраняется от пищи. Когда предается анафеме человек – это значит, что человек тот усвоил себе богохульное учение безвозвратно, лишает им спасения себя и тех ближних, которым сообщает свой образ мыслей»[1070].
Самую большую опасность для человеческих душ представляют те учения, которые рядятся в христианские одежды и претендуют на право апеллировать к авторитету Христа. В этой ситуации прямая обязанность Церкви заключается в том, чтобы прямо и недвусмысленно провозгласить ex cathedra о чуждом ей (Церкви) учении, которое есть обман и искушение для неискушенных.
Анафема, или отлучение, имела крайне тяжелые церковно-канонические последствия для отлученного, который не допускался до участия в христианском богослужении и Таинствах, в первую очередь в Таинстве Евхаристии, и даже не имел общения с членами церковной общины в быту, ибо св. апостол Павел повелевает членам церковной общины не есть и не пить с блудниками, лихоимцами, идолослужителями и т. д. (1 Кор 5. 11). Именно поэтому Церковью рассматривалось как преступление и общение с отлученным.
Кроме того, имя отлученного исключалось из диптихов, а он сам по смерти лишался церковного погребения. Можно предполагать, что составление и церковное совершение чина торжественного анафематствования еретиков стали развиваться после VII Вселенского Собора[1071]. После Крещения Руси в Русскую Церковь пришел и чин Торжества Православия, совершавшийся в первое воскресенье Великого поста. Этот чин постепенно подвергался видоизменениям, поэтому возникла необходимость его редактирования. Первая такая серьезная редакция имела место в 1764 г., а в 1801 и 1869 гг. чин был существенно сокращен – были оставлены только названия ересей, без упоминания о еретиках.
Церковное отлучение в узком смысле слова отличается от епитимьи, т. е. отлучения от причастия на определенный конкретный срок. В последнем случае, как и вообще во время исповеди, покаяние в личных грехах всегда есть примирение и соединение с Церковью, именно поэтому священнослужитель читает соответствующую молитву перед исповедью. Таким образом, отличие здесь, по толкованию одного из самых авторитетных канонистов Православной Церкви, епископа Никодима Милоша, заключается в том, что анафематствование совершается публично, гласно, а не на исповеди; кроме того, как уже подчеркивалось, лишает отлученного права общения с членами Церкви не только в Таинствах, но и в быту.
Однако нужно иметь в виду, что в практике Православной Церкви анафема была не столько наказанием, сколько предупреждением человека, в отличие от практики Церкви Католической, в которой часто слово «анафема» заменялось термином «проклятие»[1072]. Именно поэтому для анафематствованного, отлученного, двери Церкви были закрыты не навсегда – при условии его искреннего покаяния и выполнения необходимых церковных предписаний, в первую очередь и как правило – публичного покаяния. Следует заметить, что анафема может быть снята и после смерти анафематствованного лица, но только при наличии необходимых данных о его покаянии[1073].