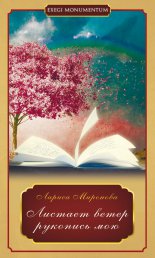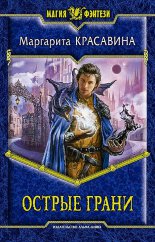Русская Православная Церковь и Л. Н. Толстой. Конфликт глазами современников Ореханов Протоиерей Георгий
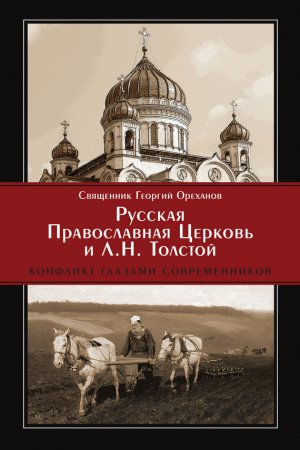
Нужно отдавать себе отчет в том, что работа в рамках указанной оппозиции содержит в себе большую опасность сделать выводы еще до начала исследования по следующей стандартной схеме: Ф. М. Достоевский – автор, в творчестве которого нашла отражение православная традиция, Л. Н. Толстой – бунтарь, выступивший с ожесточенной критикой Церкви и государства. Таким образом, создается модель, согласно которой Толстой и Достоевский априорно являются противоположностями не только с точки зрения ответов и методов, но и с точки зрения вопросов и мировоззренческих установок.
На первый взгляд представляется, что в Европе восприятие творчества двух названных авторов в значительной степени развивалось в рамках данной тенденции, о чем свидетельствуют выводы отдельных участников конференции «Толстой или Достоевский? Философско-эстетические искания в культурах Востока и Запада», проходившей 3–7 сентября 2001 г. в Институте русской литературы (Пушкинский Дом) в Санкт-Петербурге. Однако в реальности дело обстояло значительно сложнее. Показательно, что часто заключения различных докладчиков были диаметрально противоположными. В частности, в докладе А. О. Львовского указывалось, что идеи Л. Н. Толстого очень близки западному культурному человеку, особенно в тот период, когда в целом ряде западных государств проходил процесс отделения Церкви от государства[535]. Наоборот, М. Б. Плюханова указывает: «В современной Италии чувствуется склонность воспринимать Достоевского как внутреннее, свое, западноевропейское явление, в то время как Толстой мыслится уводящим от тесного мира Европы в сторону духовно трудного и трудно различимого, едва ли не буддистского Востока»[536]. Некоторый промежуточный итог в этом вопросе подводит Г. А. Тиме, указывая, что к началу 1920-х гг. немецкая «бинарная оппозиция» «Достоевский – Толстой» в обобщенном виде включала в себя следующий ряд компонентов: плебей – аристократ; мистик – рационалист; больной, таинственный – здоровый, простой; пророк духа – пророк плоти; «нервный драматург» – спокойный эпик; певец большого города – певец Матери Земли; творец фрагментарных произведений – создатель законченных произведений; экспрессионист – импрессионист[537].
Несмотря на эти противоречивые оценки, все исследователи сходны в том, что позднее творчество Л. Н. Толстого и Ф. М. Достоевского есть своеобразная попытка возвращения к религиозным корням, попытка борьбы с процессом дехристианизации русской культуры, поворот от культуры секулярной к культуре религиозной, от атеизма к вере, глубокое проникновение в душевную жизнь человека. В этом смысле очень характерно замечание В. В. Розанова: в этом стремлении Толстой и Достоевский не только близки, но только они и близки в этом в нашей литературе[538]. Именно это обстоятельство дало основание В. Н. Ильину назвать писателей «двуединым Иовом на русской почве»[539].
Но важно вот еще что: в какой именно момент русской истории этот поворот был осуществлен. Как отмечает В. В. Розанов, голос «двуединого Иова» зазвучал в противоречии всему, чего хотело в конце 1870-х гг. русское общество, о чем оно думало: в разгар увлечения внешними преобразованиями, в момент преобладания западнических настроений и напряженного ожидания соответствующих перемен, в момент отрицания «всего внутреннего, религиозного, мистического» они отвергли саму необходимость внешнего и обратились именно к внутреннему. Именно благодаря их духовным поискам материалистическая, позитивистская парадигма мышления в 60-70-е гг. XIX в. перестает рассматриваться в качестве безальтернативной: «общество, сперва удивленное и негодующее, но и очарованное их словом, вначале поодиночке и потом массами, точно поволоклось ими в противоположную сторону, чем куда шло; в жизни его совершился перелом, и мы стоим теперь на совершенно иных путях, нежели те, на которых мы стояли еще так недавно»[540].
Можно сказать и по-другому: творчество Ф. М. Достоевского и Л. Н. Толстого вписывается в процесс поисков истины, нравственных основ жизни, более точно, нравственного самоопределения личности в конкретных, современных обоим писателям социально-исторических условиях, определявших мировоззрение русской интеллигенции XIX в. Именно поэтому в своем классическом исследовании Г. Штайнер противопоставляет творчество Л. Н. Толстого и Ф. М. Достоевского всей секулярной литературе Западной Европы; в основе этого творчества лежит важнейшая, парадигмальная идея – идея спасения человека, в целом потерявшая, как уже было сказано выше, для Европы XIX в. религиозную значимость и в значительной степени имеющая в европейской литературе социальный оттенок[541].
Представляется, что при всей своей правоте Г. Штайнер не обратил внимания на одну важную черту, которая объединяет двух писателей и всю вообще русскую литературу и одновременно противостоит всей литературе западной. Эта черта замечательно уловлена в дневниках М. М. Пришвина периода Второй мировой войны, когда в целом проблема гуманизма стояла для писателя очень остро. М. М. Пришвин квалифицирует эту черту как «стыд личного счастья», который «есть основная черта русской культуры, и русская литература широко распространила эту идею, тут весь Достоевский и Толстой»[542].
Важную деталь подчеркивает и С. Н. Булгаков: именно Толстой и Достоевский со всей остротой поставили вопрос о личной ответственности перед Богом – инициатива, которая в решающей степени способствовала духовному пробуждению в русской «мнимокультурной» среде[543].
Однако было бы неверно только на этом основании сближать двух великих русских писателей. В их творчестве и истории жизни был один чрезвычайно роднивший их момент: это духовный перелом, который, быть может, более выражен у Л. Н. Толстого. У Ф. М. Достоевского он был связан с увлечением социалистическими идеями, которое, что принципиально важно, также явилось своеобразным проявлением «этического имманентизма», веры в «естественное» добро человеческой природы, в возможность «естественного», подлинного счастья на земле, которое устраивается «естественными» путями, т. е. фактическое отвержение христианского учения о «радикальном зле» человеческого естества.
Однако для читателей с чисто психологической точки зрения важен еще один момент: аргументы великого художника убедительно опровергаются только великим художником. Поэтому, как подчеркивает С. Н. Булгаков, вполне естественно искать спасения от псевдохристи-анского «кошмара» Л. Н. Толстого «под духовным кровом другого великого художника, который, во всяком случае, уж не меньше Толстого знал глубины зла и греха, не меньше искушен был неверием и сомнением, однако в борьбе, в которой Толстой пал побежденным, он выходил победителем, хотя и весь в крови от ран»[544]. Эта идея характерна и для работы «Духи русской революции» Н. А. Бердяева, который склонен утверждать, что моралистический нигилизм Л. Н. Толстого явился для России глобальным несчастьем, наваждением, соблазнительной ложью, противоядием против которой должны были стать «пророческие прозрения Достоевского»[545].
Появление «Дневника писателя» Ф. М. Достоевского и народных рассказов Л. Н. Толстого – знамение времени. В этом виден настойчивый поиск формы, это попытка построения диалога, за которой стоит, по меткому выражению С. Г. Бочарова, борьба за души «молодых русских читателей»[546]. Эта новая форма должна быть адекватна секулярному сознанию: Толстой и Достоевский уловили, почувствовали важные тенденции своей среды и обратились к ней на понятном языке, обратились к людям, которые, по мысли В. С. Соловьева, не читали Библии и забыли катехизис.
В этом смысле следует отметить еще один важнейший аспект: иделогическая борьба 1860-1870-х гг. в значительной степени была борьбой за молодежь, за авторитет в молодежной среде. Характерна ремарка И. С. Аксакова в письме А. И. Кошелеву по поводу программы журнала «Русская беседа»: «Она написана так, что, возбуждая недоумение, отвращает от нас сочувствие молодого поколения и приобретает сочувствие, которого я не желаю, сочувствие архиереев, монахов, Св. Синода. Между тем они не могут, не должны нам сочувствовать, но такое несчастное положение наше, что дает повод недоразумениям»[547].
Как уже отмечалось выше, Л. Н. Толстой далеко не сразу пришел к радикальным выводам в своем учении – антицерковные тенденции, достаточно определенные уже во второй половине 1880-х гг., стали заметно усиливаться в начале 1890-х гг. и нашли свое окончательное отражение в романе «Воскресение» и произведениях, написанных после издания синодального акта 1901 г. Период с начала до середины 80-х гг. XIX в. в жизни писателя можно обозначить как динамически нестойкий, для него характерны поиск выхода из религиозного кризиса, контакты с представителями духовенства, проверки тех или иных гипотез.
Можно констатировать, что, с точки зрения современников, поиск двух великих русских писателей шел в общем направлении, отвечал потребностям духовного климата эпохи, поэтому целесообразно сопоставить именно в рамках оппозиции «Толстой – Достоевский» его результаты.
Но прежде чем эта работа будет осуществлена, следует сделать еще одно важное замечание.
Религиозный пафос русского «двуединого Иова» становится ныне чрезвычайно востребованным, ибо тема «Христос и истина» снова обретает актуальность. В этом смысле очень показательна программная статья современного исследователя В. И. Свинцова, в которой противопоставляется «слепая вера» в евангельские, «супернатуралистические» чудеса и некая абстрактная религиозность, причем эта полярность приобретает явственные черты противостояния «лжи» и «истины», – если вообще можно говорить о какой-то религиозности, то не о церковной: «…идя на компромисс со слепой верой, разум «опускает глаза», отводит их от буквального смысла библейских текстов, склоняется к метафоре», причем живой опыт Церкви ставится в кавычки и уподобляется марксистской практике, а фундаментальные истины христианского богословия трактуются либо как аллегории, либо просто как легенды («басни» в терминологии Л. Н. Толстого). При этом констатируется психологически-компенсаторный характер «церковной» веры: «Вера в физическое воскресение и последующее бессмертие со временем могла стать компенсаторным чувством, уводящим от горьких мыслей», т. е. от мыслей о смерти. Таким образом, в этой парадигме находит подтверждение вывод Л. Н. Толстого: современный культурный человек в это верить не может[548].
Однако современные адепты «религии без Бога» неспособны идти по указанной логической цепочке до конца, ибо не имеют ответа на вопрос, что тогда составляет смысл жизни «современного культурного человека». Не имея смелости Л. Н. Толстого и Ф. М. Достоевского для признания, что жизнь без веры бессмысленна, более того, единственной безусловной истиной становится не жизнь, а смерть, сторонники упомянутой парадигмы пытаются найти компромисс с сознанием и совестью и предложить в качестве такого смысла «роскошь человеческого бытия», труд, «доброту души человеческой»[549]. Следствием такого подхода является произвольное наделение «божественной сущностью» всего на свете, в первую очередь природы и творчества.
Но самое важное, по-видимому, другое: «вера» и «добро» перестают быть связанными между собой категориями. То, что было совершенно очевидно Ивану Карамазову («нет добродетели, если нет бессмертия»), сегодня отрицается, а связь между религией и нравственностью провозглашается сомнительной: богом провозглашается, в полном соответствии с философской доктриной Л. Н. Толстого, не Живой Бог Евангелия, а добро само по себе, которое становится богом вообще, «без какой бы то ни было религиозной и тем более конфессиональной определенности»[550]. Этот бог по совершенно непонятным причинам провозглашается альтернативой атеизму. Заметим при этом, что с этой точки зрения нравственным провозглашается все, что, по-видимому, не выходит за рамки приличного, понятного и гуманного, а сатанинские глубины зла, его иррациональная разрушительность просто отрицаются.
Именно поэтому так важно понять, как видели данную проблему Л. Н. Толстой и Ф. М. Достоевский.
В истории русской литературы давно установлен тот факт, что оба писателя проявляли большой взаимный интерес друг к другу[551]. Мы можем только предполагать, как бы развивалась жизнь Л. Н. Толстого, если бы он имел возможность познакомиться с Достоевским. Но этого знакомства не произошло[552]. Можно констатировать, что всю жизнь Л. Н. Толстой был внимательнейшим читателем Достоевского, однако последовавшая 28 января 1881 г. смерть последнего сделала их общение невозможным. Более того, крайне интересно то обстоятельство, что первоначально Л. Н. Толстой в целом критически воспринял роман «Братья Карамазовы», о чем свидетельствуют и В. Ф. Булгаков[553], и письмо Л. Н. Толстого А. К. Чертковой, в котором писатель говорит о своем «отвращении к антихудожественности, легкомыслию, кривлянию и неподобающему отношению к важным предметам» (ПСС. Т. 89. С. 229). Однако в конечном счете этот роман стал последней книгой, которую Л. Н. Толстой читал перед своим уходом из Ясной Поляны (и даже после ухода просил со станции Козельск прислать ему второй том).
5-7 февраля 1881 г. Л. Н. Толстой отправляет Н. Н. Страхову известное письмо, в котором делится своими впечатлениями по поводу смерти Ф. М. Достоевского[554]. Можно согласиться с выводами Л. М. Розенблюм: «Письмо это исповедальное, написанное как раз в то время, когда Толстой чувствовал себя особенно одиноким на своем новом пути. Человека, которого он никогда не видел, с которым нередко расходился во взглядах и эстетических вкусах, он называет своим другом, “самым, самым близким, дорогим, нужным” (“это – мое”), опорой, которая вдруг “отскочила”. Удивительные слова “я растерялся”. При всем известном бесстрашии Толстого это признание особенно значительно. Присутствие Достоевского в современном мире было очень важным, необходимым, по ощущению Толстого. С уходом Достоевского что-то существенно изменялось»[555].
Не только изменялось – по всей видимости, Ф. М. Достоевский был одним из тех очень немногих людей, которые могли что-то объяснить Л. Н. Толстому именно в момент духовного перелома, одним из тех немногих людей, к которым Л. Н. Толстой был еще готов прислушиваться: «Всей своей жизнью, огромным даром мыслителя и психолога, Достоевский более чем кто-либо из современников Толстого, включая и самых близких к нему людей, был подготовлен к тому, чтобы глубоко воспринять происшедший в нем духовный кризис»[556]. Этот вывод подтверждают два свидетельства: во-первых, вдова писателя, А. Г. Достоевская, которая в своих воспоминаниях указывает на слова самого Толстого: «Достоевский был для меня дорогой человек и, может быть, единственный, которого я мог бы спросить о многом и который бы мне на многое мог ответить!»[557] Во-вторых, об этом же, не называя конкретных имен, пишет и гр. А. А. Толстая в своих воспоминаниях.
В данной работе с точки зрения вопросов, затронутых выше, нас будет интересовать разработка (именно в рамках оппозиции «Толстой – Достоевский») некоторых аспектов творчества обоих писателей, отражающих религиозную проблематику и связанных с вопросом религиозного кризиса, по намеченной схеме: Личность Христа, учение Христа, Царство Христа.
Здесь следует еще раз сделать одну важную оговорку: о христологии в строгом смысле слова, как о законченном или хотя бы более-менее цельном, догматически выверенном пласте творчества писателей, говорить было бы некорректно (впрочем, с учетом известных квази-богословских трактатов Л. Н. Толстого, к нему это замечание относится в меньшей степени). Речь может идти только о таком анализе их творчества, который позволял бы ответить на вопрос: какое место в их мировоззренческих установках занимает характерный для культуры в целом поиск «образа Христа»? Еще раз подчеркнем, что эта проблема должна рассматриваться не изолированно, а в контексте более широкой проблемы преодоления религиозного кризиса церковными путями.
С этой точки зрения прежде всего нужно обратить внимание на одну важнейшую общеметодологическую установку, которая определяет в целом позицию обоих авторов. Следует заметить, что различие в подходах Л. Н. Толстого и Ф. М. Достоевского не ограничивается и не исчерпывается только интерпретацией вероучительных, богословских вопросов, в основе этого различия, как подчеркивает Г. Штайнер, лежит «несовместимая мифология», т. е. глобальное мировоззренческое противостояние разных и совершенно несхожих интерпретаций мира и человека, которое тотально проявляется в целом в их творчестве[558].
Речь идет о ярко выраженной персоналистичности Ф. М. Достоевского и антиперсонализме Л. Н. Толстого, о котором было сказано ранее. В этом контексте имеет большую ценность и требует дальнейшего осмысления противопоставление «полифонизма» и «монологизма», которое в работах М. М. Бахтина, как хорошо известно, нашло последовательную и тщательную разработку[559]. Ф. М. Достоевскому глубоко чужда «безличная афористическая значимость», столь характерная для художественного творчества Л. Н. Толстого. Этической «непогрешимости» и статичности последнего противостоит принцип, согласно которому идея, мысль только тогда получает свою убедительность, когда присутствует в «личностном контексте», имеет свой «голос»[560].
Знаменитая полифоничность, одним из главных художественных средств для выражения которой является широко понимаемый диалог, рождающий дополнительные творческие возможности глубинного проникновения в духовные тайны человеческой личности, таит в себе своеобразную творческую двусмысленность и неопределенность: избегая «прямых дидактических вторжений «в первом лице»[561] и тем самым наделяя идею духовной и богословской глубиной, семиотической сложностью, творчество Ф. М. Достоевского тем самым с трудом поддается монологизации, поиск в нем христианской основы превращается в серьезную научную проблему. Если бы не его публицистические произведения, в первую очередь «Дневник писателя», и не ставшие известными тетради с записями и вариантами, эта проблема могла вполне стать неразрешимой.
Как известно, христоцентрическая установка находит яркое проявление в творчестве обоих писателей. Если для Достоевского принципиальное значение имеет жизнь, основанная на Личности Христа, Сам Христос, то для Толстого основой жизни являются законы Христа, данные людям, Его учение – эта мысль является доминирующей в его религиозно-философских произведениях.
Однако вот что характерно: если отвлечься от религиозных трактатов Толстого, в которых его взгляды уже облечены в законченную форму и на которых лежит столь зримая печать агрессивно-полемического антицерковного противостояния, делающая его аргументы часто крайне неубедительными, и обратиться к дневникам и переписке с близкими ему корреспондентами, то сразу обращает на себя внимание некоторая незавершенность, незаконченность, динамическая зыбкость его взглядов: создается впечатление, что «вопрос о Христе», как, впрочем, и вопрос о вечной жизни, не нашел разрешения в его сердце до конца.
Именно это имела в виду гр. А. А. Толстая, сообщая в своих воспоминаниях, что, когда Л. Н. Толстой читал свои любимые стихотворения и «когда в каком-нибудь стихотворении появлялось имя Христа, голос его дрожал и глаза наполнялись слезами… Это воспоминание и до сих пор меня утешает: он, сам того не сознавая, глубоко любит Спасителя и, конечно, чувствует в нем не обыкновенного человека; трудно понять противоречие его слов и его чувства»[562].
Правда, на этот счет имеются печальные свидетельства совсем иного рода. В своих воспоминаниях С. Н. Дурылин сообщает рассказ М. А. Новоселова, который в то время, о котором идет речь (1880-е гг.), был близок писателю. В одной из бесед Л. Н. Толстой «резко и твердо» заявил, что «не желал бы» встретиться с Христом: «Пренеприятный был господин»[563]. Это поразительное кощунство для слушающих «было так неожиданно и жутко», что сказанное буквально резануло по сердцу М. А. Новоселова.
Начало пристального внимания со стороны Ф. М. Достоевского к творчеству Л. Н. Толстого можно отнести к 1877 г., а именно к моменту выхода «Анны Карениной», когда в «Дневнике писателя» в феврале появляются первые записи, содержащие в себе известные размышления Достоевского о характере Левина (ДПСС. Т. 25. С. 52).
В рамках размышлений писателя о новом романе Л. Н. Толстого важное значение имеет в целом отрицательное отношение Ф. М. Достоевского к идее «опрощения», которая трактуется им как невежливое по отношению к народу «переряживание» (ДПСС. Т. 25. С. 61). Ф. М. Достоевский интуитивно понимал, что искусственная «простота» не есть возвращение к истокам, в том числе христианским истокам, не есть возвращение к Преданию Церкви. Эта противоположность между стремлением все сделать простым у Толстого и «вникать в усложнения» всякого рода у Достоевского обратила на себя внимание В. В. Розанова и позволила ему сделать вывод, что Достоевский был именно культурным писателем в строгом смысле слова, учитывая этимологию cultum – cultura, т. е. способным к почитанию и благоговению, способным встать к культуре, человеческой истории «в подчиненное, любующееся и любящее отношение»[564].
Наоборот, «опрощение» Л. Н. Толстого было внутренне крайне противоречиво. Как замечает Н. А. Бердяев, писатель не замечал несоответствия, которое существовало между культом разума и культом простоты: «Толстой никогда не мог заметить, что его “разум” и есть главный враг того смысла жизни и правды жизни, которые он хотел найти у народа. “Разум” Толстого мало отличается от “разума” Вольтера, и он есть насилие цивилизации над природой. Вера в стихийную благостность природы, которая и порождает толстовское учение о “непротивлении”, сталкивается с верой в разум, в сознание, которое оказывается всемогущим и преображающим жизнь»[565].
«Опрощенчество» Левина связано с поисками веры. Но какую веру находит герой Л. Н. Толстого? Отвечая на этот вопрос, Ф. М. Достоевский подчеркивает: «…вряд ли у таких, как Левин, и может быть окончательная вера», хотя Левин любит называть себя «народом», он продолжает оставаться московским баричем «средне-высшего круга». Именно поэтому люди типа Левина народом никогда не сделаются, более того, по многим пунктам и не поймут народа, потому что, для того чтобы стать народом и обрести его веру, мало сомнения и акта воли, на этом пути к народу препятствием будет то, что Ф. М. Достоевский назвал «праздношатайством», «физическим и духовным», которое всегда будет «народу» видно и понятно. Именно поэтому вера, обретенная Левиным, «долго не продержится» и рухнет при новом приступе сомнений (ДПСС. Т. 25. С. 205).
Таким образом, можно согласиться с А. Л. Бемом: «С большой проницательностью Достоевский наметил уже в 70-х гг. в религиозно-моральном облике Толстого черты, резко обозначившиеся только позже, уже после смерти Достоевского»[566]. В чисто духовной сфере идея «опрощенчества» приносила слишком примитивные плоды: рождался некий «народный» вариант христианства, который, впрочем, в качестве своеобразного искушения в разной степени тяготел не только над Л. Н. Толстым, но отчасти и над самим Ф. М. Достоевским и даже над К. П. Победоносцевым, что достаточно убедительно показывает в «Путях русского богословия» прот. Г. Флоровский: критерием истины, в том числе и христианской, часто становится не Предание, а «свое», «народное», «исконное», «мужицкое». Здесь большое значение имело незнакомство со святоотеческим наследием Православной Церкви, непонимание того факта, что в сокровищнице церковной есть некий содержательный, очень глубокий и богословски выверенный, святоотеческий, апостольский, сохраненный идеал. По сути своей христианство сложно, но сложность эта имеет не интеллектуальный, а духовный характер.
Теория «опрощения» не случайно занимала внимание обоих писателей. Дело в том, что вопрос о природе зла, его влиянии на личность отдельного человека и развитие всей человеческой истории действительно является принципиальным для их творчества.
Очевидно, что именно Л. Н. Толстой и Ф. М. Достоевский со всей убедительностью показали в своем творчестве силу зла, его власть над душой человека. Однако вопрос о границах этой власти решается писателями в целом по-разному.
Как было сказано выше, в творчестве Л. Н. Толстого, в первую очередь в религиозном, присутствует радикальное отрицание идеи первородного греха, т. е. утверждения о глобальной испорченности человеческой природы, последствия которой человек несет на себе уже от рождения, – эта установка решительно отрицается писателем уже в первых трактатах («Исповедь», «В чем моя вера?»). С точки зрения христианского учения эта испорченность делает человека принципиально неспособным без помощи Божией встать на путь добра и тем более праведности. Наоборот, согласно Л. Н. Толстому, «разумный закон жизни, раскрываемый сознанием, и есть закон самой благостной, божественной природы»[567]. Другими словами, человеку достаточно осознать истинный закон жизни, чтобы реализовать его в практике жизни: «Зло для него есть ложное сознание, добро есть истинное сознание. Иррационально-волевого источника зла он не видит»[568].
В этом вопросе логика Л. Н. Толстого проста до примитивизма: человек приходит в мир чистым, способным творить доброе (здесь, конечно, угадывается влияние Руссо), но его портит неправильное религиозное воспитание и отрицательное влияние учения Церкви и духовенства. Все это отвлекает человека от исполнения «высшего нравственного закона». Чтобы жить нравственной жизнью, нужно восстановить высший инстинкт добра, в котором проявляется истинная свобода человека. А для этого нужно пробудить разум, «разумность», т. е. знание того, что важно и что неважно.
Таким образом, Спаситель и Искупитель, с точки зрения Л. Н. Толстого, человечеству не нужен, человек сам способен «разумностью» победить греховную порчу и стать праведным. Л. Н. Толстой постоянно подчеркивает, что «слова Бога так просты, так ясны, так разумны. Бог говорит просто: не делайте друг другу зла – не будет зла» (ПСС. Т. 23. С. 335). Такой подход, в отличие от тотального антропологического пессимизма протестантизма, можно было бы уже назвать антропологическим гипероптимизмом [569].
Большая исследовательская проблема заключается здесь в том, что оба писателя были уверены в принципиальной возможности победить зло, победить на уровне отдельной личности и всего человеческого общества. Победа над силами зла всего человечества в конечном счете облекается в форму знаменитой идеи «всемирного единения» или «всемирной любви». Для Ф. М. Достоевского идея «всемирного общечеловеческого единения», «единения в духе всемирной широкой любви», была заветным и задушевным идеалом, причем этот идеал был публично провозглашен задолго до знаменитой Пушкинской речи в январском номере «Дневника писателя» за 1877 г. (ДПСС. Т. 25. С. 20). Этот идеал был близок и Л. Н. Толстому, хотя в другой постановке.
Однако здесь нужно обратить внимание на принципиальную разницу: с точки зрения конечных судеб человечества идеал Толстого – это «муравейник», царство инстинктивного добра, царство разумности; вообще для Толстого характерно сравнение жизни совершенного человеческого общества с жизнью пчел и муравьев.
В произведениях Л. Н. Толстого есть текст, где идея муравейника выражена особенно ясно и последовательно: «Достижение той кооперации, коммунизма, общественности <…> получится не от организации, – мы никогда не угадаем будущей организации, – но только от следования каждым из людей незатемненному побуждению сердца, совести, разума, веры, как хотите назовите, закона жизни. Пчелы и муравьи живут общественно не потому, что они знают то устройство, которое для них самое выгодное, и следуют ему – они понятия не имеют о целесообразности, гармоничности, разумности улья, кучки муравейной, какими они нам представляются; а потому, что они отдаются вложенному в них (мы говорим) инстинкту, подчиняются, не мудрствуя лукаво, а мудрствуя прямо, – своему закону жизни. Я представляю себе, что если бы пчелы могли сверх своего инстинкта (как мы называем), сверх сознания своего закона, еще придумывать наилучшее устройство своей общественной жизни, они придумали бы такую жизнь, что погибли бы. В этом одном сознании закона есть нечто и меньшее и большее рассуждения. И только ему дано приводить на тот узкий единственный путь истины, по которому следует идти человеку и человечеству» (ПСС. Т. 52. С. 10).
Именно этого желал избежать Ф. Достоевский. В воспоминаниях о В. Г. Белинском «муравейник» у него – отрицательное понятие, противостоящее «социальной гармонии», в которой только и может жить человек (см.: ДПСС. Т. 21. С. 10). Писатель указывает, что власть зла над природой человека гораздо реальнее и глубже, от этой власти не могут спасти «внешние» методы, общественные реформы и революции, предлагаемые социалистами, и это зло еще накладывается на полную неизвестность законов человеческого духа (ДПСС. Т. 25. С. 201). Природа человека изначально греховна, власти зла, хотя бы только «перспективной», причастны даже маленькие дети. Поэтому высшая свобода человека заключается не в «восстановлении» нормального, т. е. разумного, инстинкта, а в выборе между добром и злом, т. е. в нравственноволевом акте[570].
Таким образом, вопрос о том, как победить зло, как эта победа возможна и какими путями она достижима, становится принципиальным для творчества обоих писателей. В этом смысле главное значение здесь имеет вопрос: чем эти два пути отличаются друг от друга? Другими словами, как писатели понимают тот предел злу, который поставлен здесь, на земле, Богом?
Следует сразу отметить, что Л. Н. Толстой и Ф. М. Достоевский рассматривали зло как религиозную, богословскую, а не автономно-моральную категорию, соотнося ее с Божественным нравственным законом. Таким образом, зло на земле победить человек может, и тогда естественно возникает вопрос о Личности Христа и Его роли в этой победе.
Как уже отмечалось, в деле спасения Христос изначально не нужен Л. Н. Толстому, так как человеческая природа не нуждается в исправлении. Именно поэтому в творчестве Л. Н. Толстого происходит трансформация образа Христа: некоторые внутренние колебания в период перелома в первой половине 80-х гг. XIX в. сменяются утверждением о том, что Господь Иисус Христос был простым человеком, но великим пророком, исполнившим волю Божию. Выше было замечено, что такой взгляд роднит Л. Н. Толстого с течением протестантской богословской мысли, которое получило название иезуитизма. Но даже эта нехристианская по своей сути концепция в конце жизни Л. Н. Толстого претерпевает дальнейшее изменение: Личность Христа в понимании Л. Н. Толстого растворяется в личностях других великих моральных учителей человечества (Будда, Конфуций, Магомет и т. п.). Более того, так как Христос в понимании Л. Н. Толстого является простым учителем человечества, Он может заблуждаться, поэтому Л. Н. Толстой может Его учение уточнять и даже улучшать.
Эта тенденция нашла свое выражение не только в философском, но и в художественном творчестве Л. Н. Толстого: как отмечают два замечательных исследователя, архиеп. Иоанн (Шаховской) и архим. Константин (Зайцев), повесть писателя «Отец Сергий» при всем стремлении правдиво изобразить монашескую жизнь превращается в «монашеский кошмар: без Христа»[571]. Кроме того, это произведение показывает, как Л. Н. Толстой, при всем своем стремлении глубоко проникнуть в суть предмета, часто оказывался совершенно некомпетентным в понимании и описании церковной жизни: главный герой писателя подвергается совершенно бессмысленной и абсурдной процедуре – постригается в иеромонахи, а совершение почему-то именно проскомидии приводит его в умиленное состояние духа.
Отношение ко Христу у Ф. М. Достоевского можно охарактеризовать как глубоко личное. Но здесь нужно иметь в виду два обстоятельства. Как справедливо замечает С. И. Фудель, путь Ф. М. Достоевского есть путь писателя, художника слова, а не проповедника, его глубокая богословская интуиция часто неопределима «локально», но за ней стоит целостный взгляд на мир и человека, «всегда ясно ощущаемая общая точка зрения», луч света, «сбоку» освещающий темное царство греха[572]. Именно поэтому нужно с очень большой осторожностью не только пытаться «монологизировать» его мысль, о чем настоятельно предупреждал М. М. Бахтин, но и лишать ее «авторского голоса», делать идейно «пресной» и в итоге совершенно незначимой.
Кроме того, путь веры Ф. М. Достоевского был трудным, тернистым путем, и главная проблема здесь заключается в том, что для образованного русского человека середины XIX в. на этом пути не существовало надежных ориентиров, только с появлением старчества, в первую очередь оптинского, а вместе со старчеством – издания святоотеческой литературы такие ориентиры стали реальностью. Поэтому очень часто путь в Церкви интеллигента походил больше на перепутье, блуждания, сопровождавшиеся вероучительной неосведомленностью, приблизительностью представлений о христианстве.
И это было особенно опасно в нескольких принципиальных пунктах, составляющих фундамент церковного учения. В первую очередь речь должна идти о двух основополагающих догматах христианской веры – триадологическом и христологическом.
Триадологический догмат, устанавливающий определенное равновесие между понятиями «природа» и «личность» (ипостась), имеет здесь первостепенное значение.
Представляется совершенно не случайным то обстоятельство, что Л. Н. Толстой с таким ожесточением обрушился на учение христианской Церкви именно в этом пункте, полагая, что богословие просто утверждает, что 3 = 1. Хотя саму «критику» писателя следует признать крайне примитивной, часто это не столько критика, сколько кощунственная брань, однако важно отметить, что в творчестве Л. Н. Толстого это равновесие существенно нарушается, сдвигается в сторону «природы»: в поздних произведениях Л. Н. Толстого носителем Божественной природы, да и то в очень условном смысле, является исключительно Отец, к Которому только, по мнению писателя, и можно обращаться с молитвой. Однако, с точки зрения Л. Н. Толстого, всякий человек является потенциальным носителем «вечного» в себе: смысл человеческой жизни заключается только в том, чтобы усилием разума открыть в себе это вечное, понять и приобщиться ему. Таким образом, это приобщение «Божеству», «Любви» происходит помимо Личности Христа, но через Его заповеди.
Огромное значение для понимания церковного учения о Личности Спасителя имеет и христологический догмат, выраженный в оросе Халкидонского Собора устанавливающий равновесие между совершенной Божественной природой во Христе и совершенным человечеством Христа и, как следствие, дающий санкцию на существование так называемого кенотического богословия.
Вследствие нарушения этого «халкидонского баланса» и именно на этой почве в Европе (а затем и в России) расцветает столь характерное для XIX в. «растение» – учение о «человеке Христе», которое видит в Господе только слабого человека, беспомощного, но страдающего за весь человеческий род и своими страданиями вызывающего у нас чувство великой жалости, – не случайно «евангелие» Л. Н. Толстого заканчивается именно сценой страданий и смерти Христа, и неслучайно такой симпатией у Толстого пользовались полотна художника Н. Н. Ге (старшего).
Но халкидонский догмат имеет и другое важное значение: он позволяет понять глубочайший смысл символизма церковных Таинств, того, что К. Н. Леонтьев назвал материалистическим спиритуализмом, верой в мистически-одухотворенное вещество[573] и против чего Л. Н. Толстой восставал всю свою жизнь (в первую очередь против Евхаристии): если Христос – истинный человек, сродный нам во всем, кроме греха, если Боговоплощение есть начало спасения человеческого естества, то это спасение для человека возможно только через видимые, материальные субстанции, которые составляют материальную основу Таинств Церкви, – вода и елей, вино и хлеб. Неприятие церковных Таинств, неприятие их плоти есть в конечном счете неверие в саму возможность Боговоплощения: мистика, которая не нашла для себя материальных, т. е. человеческих форм, не может быть настоящей[574].
Совершенно по-иному смотрит на Личность Христа Ф. М. Достоевский. Всю жизнь для него было характерно постоянное стремление ко Христу, на котором строится мировоззрение писателя и его творчество. Писатель подчеркивает: «…главное образ Христа, из которого исходит всякое учение» (ДПСС. Т. 11. С. 192). «Образ Христа» – вот проблема, которая является одной из центральных для творчества Достоевского и которая почти не существовала для Л. Н. Толстого. Именно отношение к Личности Господа дает право прот. С. Булгакову утверждать, что «любовь ко Христу в Достоевском, как и в его героях, тверже и несомненнее даже, чем самая вера в Него»[575].
Сравнительный анализ «христологии» Л. Н. Толстого и Ф. М. Достоевского принято осуществлять в рамках значимой для обоих писателей оппозиции «Христос и истина».
Л. Н. Толстой исходит из того факта, что христианское учение не может противоречить разуму, здравому смыслу, – с его точки зрения, образованный человек XIX в. просто не может верить в то, чему учит Церковь; на этом принципе построена вся критика догматического учения Церкви. По его мнению, истина кардинально отрицает церковное понимание Христа и христианства. Таким образом, для Толстого проблема «Христос и истина» имела принципиальное значение, но эта оппозиция им отвергается, разрушается в пользу истины. Складывается впечатление, что Л. Н. Толстой, которому, по его собственному признанию, дороже всего в жизни всегда была именно истина, не выдержал испытание «горнилом сомнений» и создал свой собственный утопический рецепт спасения всего человечества через «разумение», которое приведет к знаменитому неделанию глупостей, провозглашенному в трактате «В чем моя вера?», и построению на земле Царства Бога Отца: «Учение Христа имеет глубокий метафизический смысл; учение Христа имеет общечеловеческий смысл; учение Христа имеет и самый простой, ясный, практический смысл для жизни каждого отдельного человека. Этот смысл можно выразить так: Христос учит людей не делать глупостей. В этом состоит самый простой, всем доступный смысл учения Христа» (ПСС. Т. 23. С. 423). Интересно, что эта идея, очевидно, не давала писателю покоя, так как всего за месяц до смерти он фактически повторяет ее в своем дневнике: «Одно, что можно желать от себя, как от человека, это только то, чтобы не делать глупостей. Да, только это» (ПСС. Т. 58. С. 113; запись от 6 октября 1910 г.).
Поразительно, но остается фактом: взгляды Ф. М. Достоевского на указанную проблему фактически были ответом на вопрошания Л. Н. Толстого, на вопрошания, которые Достоевскому еще не могли быть известны. Именно поэтому так продуктивно рассмотрение оппозиции «Толстой – Достоевский»: ее содержание в значительной степени отражает мучительные переживания и поиски «образа Христа» в русской культуре.
Вся жизнь Достоевского проходит в размышлениях над вопросом, который был так актуален и для Л. Н. Толстого: «возможно ли веровать?», «возможно ли серьезно и вправду веровать?», «можно ли веровать, быв цивилизованным, т. е. европейцем? – т. е. веровать безусловно в божественность Сына Божия Иисуса Христа? (ибо вся вера только в этом и состоит)», наконец, «можно ли веровать во все то, во что православие велит веровать?» (ДПСС. Т. 11. С. 178–179). Совершенно справедливо К. В. Мочульский указывает: «С беспощадной логикой намечается трагическая дилемма: или верить, или «все сжечь». Во всей мировой литературе вопрос о возможности веры для цивилизованного человека XIX в. не ставился с такой бесстрашной откровенностью, как в этом черновике к «Бесам». Спасение России, спасение мира, судьба всего человечества в одном этом вопросе: веруеши ли?»[576]
Заметим, что этот вопрос практически дословно присутствует в работах Л. Н. Толстого – в «Исповеди», «В чем моя вера?» и др. В одном из своих писем Ф. М. Достоевский говорит, что самый главный для него вопрос – как заставить интеллигенцию согласиться с христианством: «Попробуйте заговорить: или съедят, или сочтут за изменника» (ДПСС. Т. 30. I. С. 236).
Таким образом, оба писателя решали важнейший, принципиальный вопрос: о месте православия и христианства в современной жизни, в жизни человечества в конце XIX в., о его соотношении с культурой и современным научным знанием. Именно православие стало для обоих отправной точкой для решения вопроса о путях преодоления религиозного кризиса. На рубеже 70-х гг. XIX в. Л. Н. Толстой и Ф. М. Достоевский размышляли над одними и теми же вопросами, и, как будет показано ниже, их размышления строились по одной и той же схеме. Важно отчетливо понимать, что религиозная проблематика воспринималась обоими авторами в очень сложном и широком культурном контексте, – это поиски Бога и веры на «перекрестке человеческой свободы», т. е. попытка понять, как в Божественном замысле о человеке могут сочетаться природная свобода человека и эмпирическая его неволя, рабство, причем это рабство может распространяться и на себя, и на других[577]. В конечном счете здесь угадывается антиномия «личности» и «среды», проблема степени власти зла, в том числе и социального, над человеческой душой.
Именно поэтому можно утверждать, что их творчество есть решительный поворот русской мысли в сторону религиозной проблематики. Конечно, не всей русской мысли, но здесь важно подчеркнуть другое: тот вакуум, который возник в сознании образованного человека в результате разрушительной работы нигилизма, начинает постепенно заполняться.
Этот процесс протекал в истории русской мысли в несколько этапов.
Сначала нужно было убедительно показать, что нигилизму и позитивизму в жизни, науке и культуре имеется альтернатива и такой альтернативой является религиозное мировоззрение. На русской почве этот ответ становится убедительным в первую очередь не в философских или публицистических трактатах, хотя эти возможности, безусловно, не отвергаются, а на почве именно художественного творчества.
Далее, следовало обосновать тот тезис, что именно христианство и православие содержат всю полноту истины и способны дать ответы на все запросы человеческого духа, в том числе и тогда, когда речь идет о современности, сомнениях и отчаянии человека XIX в., прогрессе, научных достижениях.
Эти вопросы, ставшие актуальными для Толстого и Достоевского в конце XIX в., столь же актуальны и сегодня.
Для Л. Н. Толстого уже к началу 80-х гг. XIX в. эти вопросы были решены, решены радикально раз и навсегда: мир «отбросил Церковь» и «живет без нее», причем, по мнению писателя, этот процесс более интенсивно развивается в России и в этом ее преимущество перед Европой: «Все, что точно живет, а не уныло злобится, не живя, а только мешая жить другим, все живое в нашем европейском мире отпало от Церкви и всяких церквей и живет своей жизнью независимо от Церкви. И пусть не говорят, что это так в гнилой Западной Европе; наша Россия своими миллионами рационалистов-христиан, образованных и необразованных, отбросивших церковное учение, бесспорно доказывает, что она, в смысле отпадения от Церкви, слава Богу, гораздо гнилее Европы. Все живое независимо от церкви». Вся жизнь (государство, его учреждения, его политика, наука, искусство) враждебна Церкви и эмансипировалась от нее (см.: ПСС. Т. 23. С. 440–441). «В наше время только человек совершенно невежественный или совершенно равнодушный к вопросам жизни, освящаемым религией, может оставаться в церковной вере» (ПСС. Т. 28. С. 65). Комментаторы юбилейного Полного собрания сочинений Л. Н. Толстого указывают, что эта фраза писателя показалась резкой даже самому В. Черткову, который ее вычеркнул, однако Л. Н. Толстой не согласился с этим и только отредактировал ее.
Для Ф. М. Достоевского подобное решение было неприемлемо: он понимал, знал и чувствовал, что Христос и Его Церковь – главные святыни русского народа. То, что от этих святынь отрекалась или уже отреклась «мыслящая часть общества», для него составляло не факт, а проблему.
Анализируя возможные ответы Ф. М. Достоевского на эти вопросы, нужно учитывать, что его религиозные взгляды претерпели очень значительную трансформацию. Рассмотрение этого вопроса не является задачей данной работы[578]. Однако анализ отдельных его аспектов необходим для понимания проблемы генезиса учения Л. Н. Толстого и его восприятия в русском образованном обществе.
Большое значение имеют здесь подготовительные материалы к роману «Бесы», которые содержат ряд важных, принципиальных для Ф. М. Достоевского идей. Особенно важен здесь текст: ДПСС. Т. 11. С. 187–188. Кроме того, следует обратить внимание на то, что в романе «Идиот», в знаменитой предсмертной исповеди Ипполита Терентьева, содержится, причем «в самом чистом виде и в самой обостренной форме», развернутая программа культурного носителя дехристианизи-рованного сознания второй половины XIX в.: «О вере в Христа он и не упоминает: человеку нового поколения божественность Спасителя и Его воскресение кажутся давно пережитыми предрассудками»[579].
Выводы, которые были в итоге сделаны Ф. М. Достоевским и которые, как было указано, перекликаются с вопрошаниями Л. Н. Толстого, можно представить в виде следующей схемы[580].
А. Критика автономной морали. Значение догмата воплощения. Выше уже было сказано о том, какое огромное значение имеет в философии Л. Н. Толстого учение о моральной ценности проповеди Христа: фактически, как совершенно справедливо замечает А. В. Гулин, «нравственный закон», учение Христа, причем в наиболее эмоционально заостренном его варианте (эмоциональное переживание, чувственное отражение нравственного мира), заменяет всю полноту духовной реальности и самое главное в этой реальности: двойственную, духовную природу нравственной жизни («идеал Мадонны» и «идеал Содомский»), диалектику борьбы добра и зла[581]. Любовь, о которой так много написал Л. Н. Толстой, заменяется «жалостливым состраданием». Странно то, что о борьбе этих двух идеалов в сердце человека Л. Н. Толстой прекрасно знал не только как читатель Евангелия и Послания к римлянам св. апостола Павла, но и как гениальный художник.
Уже в «Исповеди» Л. Н. Толстой выступает последовательным защитником идеи автономной морали, т. е. такого морального учения, которое не зависит от любых априорных посылок догматического характера, т. е. не апеллирует к понятиям «Откровение» и «Предание».
В своих работах профессор КазДА А. Ф. Гусев убедительно показывает, что писатель на этом пути не был первопроходцем, а унаследовал взгляды французских деистов XVIII в., И. Канта и О. Конта. Фактически в своем творчестве с самого начала Л. Н. Толстой подчеркивает, что Иисус Христос не учил ничему, кроме морали[582]. Исходя из деления жизни человека на внешнюю и внутреннюю, Л. Н. Толстой утверждает, что во внешней жизни нет места свободе и нравственности, поэтому для «христианина» наиболее предпочтительным является неучастие во внешних делах. Наоборот, внутренняя жизнь не имеет хронотопа – она пребывает вне пространства и времени, она надличностна, это жизнь не индивида, личности, а человечества вообще, рода человеческого. Каждое индивидуальное человеческое бытие в этой схеме есть своеобразная эманация, видимое проявление общей жизни.
Выше было указано, что в поздний период своего творчества Л. Н. Толстой проповедовал, что эта мировая жизнь и есть «бог», а задача человека заключается в том, чтобы слиться с ним, раствориться в нем. Отсюда следует, что мораль сама по себе не может быть выведена из «суждений внеморального характера», логическим итогом чего является отрицание любых социальных форм и утверждение писателя, что жизнь вообще несовместима с моралью, во внешнем мире вообще нет ничего, что соответствовало бы принципу евангельской морали, изложенному в Нагорной проповеди, поэтому идеалом жизни, по Л. Н. Толстому, является Ничто, или нирвана[583].
Наоборот, творчество Ф. М. Достоевского есть утверждение той истины, что мораль без Христа неспособна быть спасительницей мира. Надежды на возрождение человека, «оставленного лишь на самого себя», беспочвенны. В записях Достоевского есть тезисы, прямо или косвенно направленные против будущих тезисов Толстого: «Многие думают, что достаточно веровать в мораль Христову, чтобы быть христианином. Не мораль Христова, не учение Христа спасет мир, а именно вера в то, что Слово плоть бысть» (ДПСС. Т. 11. С. 187–188). «Христос – человек не есть Спаситель и источник жизни» (ДПСС. Т. 11. С. 179), потому что «человек не в силах спасти себя, а спасен откровением и потом Христом, т. е. непосредственным вмешательством Бога в жизнь» (ДПСС. Т. 11. С. 182). Идеи Христа, взятые сами по себе, автономно, «оспоримы человеческим умом и кажутся невозможными к исполнению» (ДПСС. Т. 27. С. 56).
Вся неубедительность, даже примитивность попыток насаждения автономной морали стала очевидна для многих последователей самого Л. Н. Толстого. Если обратиться к использованным выше воспоминаниям А. Радынского, видно, насколько были неубедительны даже для людей, близких к писателю, претензии насаждать мораль без Христа: «…меня влекло не одно учение Евангельское, но Личность Христа, возвестившего от своего Имени миру Евангелие»[584].
Мир спасет вера в то, что «Слово плоть бысть», вера в воплотившегося Бога, которая является основой христианской морали. «Образ Христа» – «недостижимый идеал красоты и добра» для человечества, более того, «Слово плоть бысть» – центральный момент человеческой истории, которым «и земля оправдана». Христос пришел на землю, чтобы явить идеал добра и красоты одновременно, явить человечеству «просиявшую плоть» (ДПСС. Т. 11. С. 112–113). Как указывает С. И. Фудель, «мистическое отношение», то есть вера во Христа как в «Слово, ставшее плотью», и есть та пропасть, которая отделяет веру Достоевского от неверия Толстого»[585].
Следует заметить, что, возможно не осознавая этого, Ф. М. Достоевский свои размышления строит в русле глубочайшей интуиции св. ап. Павла: автономная мораль имеет тенденцию трансформироваться в мораль законническую, которая, являясь сначала коррективом греха, в итоге неизбежно становится его коррелятом и следствием, поэтому не может грех обуздать и вести человека ко спасению[586]. Этот законнический привкус очень силен в морализаторстве Л. Н. Толстого: независимо от того, что он называет Бога «Отцом» или «Хозяином» и призывает «быть добрым», для него принципиально не столько творить добро, сколько творить закон, исполнять его, быть работником.
Б. Личность Христа. Христос и истина. Как уже указывалось выше, вопрос о Христе – главный в жизни и творчестве Л. Н. Толстого и Ф. М. Достоевского, а проблема Личности Господа – одна из главных антиномий их сознания.
Для Толстого Христос – носитель высшего евангельского идеала, учитель человечества, проводник воли Бога Отца, воплощение принципа «разума», «разумения». Очень характерна запись в дневнике писателя в 1909 г. о неразумии людей и разумении Христа: «Стоит только появиться такому, пользующемуся своим разумом существу между ними, и все остальные приходят в гнев, негодование, ужас и где и как попало ругают, бьют такое существо и или вешают на виселице или на кресте, или сжигают, или расстреливают. И что всего страннее, это то, что когда они повесят, убьют это разумное, среди безумных, существо и оно уже не мешает им, они начинают понемногу забывать то, что говорило это разумное существо, начинают придумывать за него то, что будто бы оно говорило, но чего никогда не говорило, и когда всё то, что говорено этим разумным существом, основательно забыто и исковеркано, те самые существа, которые прежде ненавидели и замучили это одно из многих разумное существо, начинают возвеличивать замученного и убитого, даже иногда, думая сделать этим великую честь этому существу, признают его равным тому воображаемому злому и нелепому Богу, которого они почитают» (ПСС. Т. 57. С. 106–107).
Для Ф. М. Достоевского Христос – «уникальное свидетельство о человеке, предельное воплощение заложенных в его природе возможностей», «перспектива развития человечества», «свидетельство о цели существования человека на земле»[587].
Истина и Христос – два «параллельных» свидетельства о человеке, идущие навстречу друг другу: Христос без истины есть фантом, мечта, недостоверное свидетельство о человеке и истории, истина без Христа есть «дьяволов водевиль»[588]. Вера для Ф. М. Достоевского – «жгучее чувство» сопричастности Богу, здесь человек не может руководствоваться соображениями практической пользы (вспомним снова толстовское «не делать глупостей») (ДПСС. Т. 27. С. 57).
Нужно заметить, что русская философская и богословская наука не могла не обратить внимания на внутреннюю противоречивость взгляда Л. Н. Толстого на Христа. Н. А. Бердяев указывает, что самая разительная толстовская антиномия – его глубокая чуждость религии Христа, абсолютная бесчувственность к Его Личности[589].
Другой автор, архимандрит Антоний (Храповицкий), автор многочисленных работ о Л. Н. Толстом, справедливо указывал в 1888 г., что образ Христа у Толстого крайне неубедителен именно с психологической точки зрения: призывая своих последователей к выполнению заповеди непротивления, «лучший из людей», Иисус, будучи именно человеком, а не Богочеловеком, фактически отрекается от этой заповеди при первых испытаниях[590].
Напротив, для Ф. М. Достоевского Христос – «мера» человека, степень доступности «Божественному естеству»: «Христос есть Бог, насколько Земля могла Бога явить» (ДПСС. Т. 24. С. 244), а христианство – доказательство возможности для Бога вместиться в человека – это «величайшая слава человека, до которой он мог достигнуть» (ДПСС. Т. 25. С. 228).
Однако в этом вопросе своеобразно проявляется «гуманизм» Ф. М. Достоевского: складывается впечатление, что и для него смысл православия в большей степени не в догматике и мистике, а в идеале человеколюбия. Здесь заметны колебания, недоговоренность, даже оговорки. В «Записной тетради» 1876–1877 гг. присутствует такой характерный пассаж: «Я вам ни одного мистического верования еще не дал <…> Я православие определяю не мистическими верованиями, а человеколюбием» (ДПСС. Т. 24. С. 254).
Высказывания подобного рода дали возможность утверждать Г. Штайнеру, что в творчестве Л. Н. Толстого и Ф. М. Достоевского своеобразно проявилась древняя церковная ересь – несторианство: для них образ соединения в Личности Христа Божественной и человеческой природы до конца жизни был крестом мысли. На это следует заметить, что взгляды Л. Н. Толстого на этот счет вообще следует назвать нехристианскими: тенденция признавать Христа просто человеком у него выражена достаточно отчетливо. Что касается Ф. М. Достоевского, Г. Штайнер полагает, что он горячо стремился познать тайну Божественной природы Христа, но «эта Божественная природа волновала его душу и апеллировала к его пониманию через человечество Христа»[591]. Кажется, формальным подтверждением этой мысли может служить использованное выше замечание прот. С. Булгакова о различении в Достоевском веры в Христа и любви к нему, но представляется, что для столь радикальных выводов у нас не хватает материала: ведь романы Ф. М. Достоевского – это не учебник догматики, а само это различение кажется довольно искусственным и условным.
Мысль о противопоставлении Христа истине была выражена, как хорошо известно, в часто цитируемом письме Ф. М. Достоевского из Омска Н. Д. Фонвизиной в 1854 г.
Именно в этом письме писатель утверждает, что если бы кто-нибудь доказал ему, что «Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы оставаться со Христом, нежели с истиной» (ДПСС. Т. 28. I. С. 176). Отдельную проблему представляет здесь вопрос, о какой, собственно, истине говорит здесь Достоевский. По этому поводу современное литературоведение обогатилось многочисленными содержательными исследованиями, но вот что интересно заметить сразу: в этой фразе письма происходит очевидная инверсия – сначала «Христос вне истины», а затем «истина вне Христа». Похоже, Ф. М. Достоевский подчеркивает, что Христос не может быть вне истины, ибо Он Сам есть Истина, а вот истина может быть вне Христа, и тогда писатель остается с Христом, а не с псевдоистиной.
Кроме того, ценным здесь представляется замечание Г. Померанца, что под «истиной» здесь следует понимать не только интеллектуальные достижения человечества XIX в., здесь также речь идет и об «истине нелюбви», об опыте ненависти, с которым писатель столкнулся на каторге[592].
Эта гипотеза подтверждается записью в «Дневнике писателя» по поводу некоторых полотен Н. Н. Ге, в частности, столь нашумевшей картины «Тайная вечеря», которую так высоко оценивал Л. Н. Толстой. Ф. М. Достоевский подчеркивает, что тот «добрый молодой человек», который на ней изображен, не есть «тот Христос, Которого мы знаем» (ДПСС. Т. 21. С. 76–77).
Если письмо Н. Д. Фонвизиной может быть названо первым «символом веры» Ф. М. Достоевского, то не может не обратить на себя внимание то обстоятельство, что практически в то же самое время Л. Н. Толстой в дневнике в записи от 14 ноября 1852 г. составляет свой «символ веры» – он замечает, что верует в «Единого, непостижимого доброго Бога», и не понимает «тайны Троицы и рождения Сына Божия» (ПСС. Т. 46. С. 149). Другими словами, для него Личность Христа остается недоступной, как остается недоступной и возможность знать Его, а «понимание» становится главным критерием причастности Богу.
Именно здесь мысль Ф. М. Достоевского достигает апогея приближения к идеям Л. Н. Толстого и одновременно противостояния с рационально выверенным «христианством» Л. Н. Толстого. Мы снова убеждаемся, что поиски писателей проходят в одном и том же направлении, их волнует проблема соотнесения христианского вероучения, догматики и мистики с культурным багажом образованного человека, с достижениями науки. И вот Ф. М. Достоевский готов остаться с Христом вопреки призрачной истине, которая была так дорога Толстому и стала для него фактически главным критерием религиозной жизни.
В конечном счете, осознавая, что в произведениях Ф. М. Достоевского проблема атеизма поставлена с особой глубиной и даже своеобразной убедительностью, полнотой и силой, нужно согласиться с выводом прот. Г. Флоровского: это была предельная честность исследователя, стремление нарочно и сознательно довести анализ до решающих глубин, чтобы иметь право в финале показать всю обманчивость атеистического мировоззрения. Неверие может быть преодолено не логическими аргументами, а только опытом личной встречи с живым Богом – Истиной[593].
В. О человеческой природе (антропология). Проблема бессмертия. Воскресение. Для мировоззрения Л. Н. Толстого характерен «антропологический дуализм», противостояние животного и духовного начала в человеке, добра и зла, правды и лжи, противостояние, нередко граничащее с онтологическим дуализмом манихейства[594]. Вот выдержка из одного письма Л. Н. Толстого, в котором этот манихейский взгляд на человеческую природу становится совершенно очевидным: «…не справедливо то ваше предположение, что благо предназначено и духовному, и телесному началу. Несправедливо это по одному тому, что телесное начало не только не может получить блага, но по самому свойству своему обречено на то, что для тела не может не быть злом: болезни, страдания, старость, смерть. Так что ваше предположение о том, что оба начала одинаково должны быть удовлетворяемы в своем стремлении к счастью, совершенно произвольно и несправедливо. Благо свойственно только духовному началу и состоит не в чем ином, как во все большем и большем освобождении от тела, обреченного на зло, которое одно препятствует достижению блага духовного начала»[595]. Возможно, именно в этом вопросе лежит главная причина заблуждений Л. Н. Толстого: по остроумному заключению В. В. Розанова, он, будучи глубоким художником, посмотрел на человека как ребенок[596]. Действительно, в письме внуку, И. М. Толстому, от 21 февраля 1909 г. Л. Н. Толстой указывает: «Когда твой папа был маленький, он на бумажке написал себе, что надо быть добрум [так в тексте. – Свящ. Г. Ореханов]. Напиши это себе в сердце и всегда будь добрым, и тебе всегда будет хорошо» (ПСС. Т. 79. С. 79).
В Л. Н. Толстом жила по-своему искренняя вера в то, что человек может (и должен) написать в своем сердце эти слова и, если он будет до конца честен, никакая сила не может помешать ему выполнить этот простой и понятный завет – исправить себя и окружающий мир, который не обезображен грехом, а просто неправильно и неправедно устроен и может быть переделан человеческой волей, если только она действительно стремится к правде и добру. В этой тенденции А. Гарнак видит типологическую связь между утопическим философствованием Л. Н. Толстого и построениями древних гностиков, которые учили, что Бог любви и правды, благовестие Которого принес Христос, и Бог, сотворивший мир, – разные Личности[597].
Отсюда рождается рациональный схематизм, стремление исправить человека простыми и доступными средствами. В соответствии с этим подходом проблема бессмертия у Толстого также решается рационально: отвергая христианское понимание бессмертия, личное бессмертие (см., например: ПСС. Т. 23. С. 398), Л. Н. Толстой сначала утверждает тождество понятий «жизнь» и «сознание», а затем и «общественное бессмертие» – причастность ко всему человеческому роду, рационально понимаемое нравственное восхождение к высшему божественному разуму, основанное на трихотомической схеме: «Жизнь есть только то, что я сознаю в себе. Сознаю же я всегда свою жизнь не так, что я был или буду (так я рассуждаю о своей жизни), а сознаю свою жизнь так, что я есмь – никогда нигде не начинаюсь, никогда нигде и не кончаюсь. С сознанием моей жизни несоединимо понятие времени и пространства. Жизнь моя проявляется во времени, пространстве, но это только проявление ее. Сама же жизнь, сознаваемая мною, сознается мною вне времени и пространства. Так что при этом взгляде выходит наоборот: не сознание жизни есть призрак, а все пространственное и временное – призрачно. И потому временное и пространственное прекращение телесного существования при этом взгляде не имеет ничего действительного и не может не только прекратить, но и нарушить моей истинной жизни. И смерти при этом взгляде не существует» (ПСС. Т. 26. С. 400) [598].
Насколько эти взгляды были близки христианским, видно из письма писателя своим детям (Татьяне и Льву) от 2 марта 1894 г.: «Вчера я думал об этом и думал: ну, я для вас умру, или вы для меня умрете, как говорится: вы меня потеряете, или я вас. Ну, что же тут страшного, и разве не ясно, что это неверно сказано? Ни вы меня, ни я вас не могу потерять, потому что мы вместе, и наше соединение не то что гораздо сильнее смерти, а смерть бессильна пред ним. Потерять? Да я про себя знаю: я потеряю и теряю беспрестанно людей и самых близких, а они живут и будут жить еще долго, а с мертвыми я соединяюсь. И мало того, когда люди потеряют, как это говорится, человека, т. е. он умрет, они могут найти его и соединиться с ним. И я даже надеюсь, что многие из тех, которых я потерял, когда мы были живы, соединятся со мной, когда я умру. И этим еще хороша смерть» (ПСС. Т. 67. С. 59).
По точному замечанию прот. В. В. Зеньковского, философия Л. Н. Толстого есть «спасение от личности»: «…разумное “я” не может быть отождествлено с личностью человека, оно всегда ему противостоит в качестве универсума, общечеловеческого содержания разумного сознания, безграничной, не знающей конца и предела жизни, вечной, бессмертной, бесконечной, безличной: “. бессмертно в нас разумное сознание, которому не может быть приписан признак личности, бессмертна в нас любовь ко всему живому, тот универсальный разум, который может раскрыться в нас”»[599]. «Жизнь» и «душа» не могут быть бессмертны, так как это понятия земные, относимые только к земному хронотопу. Бессмертно только духовное начало, которое и есть Бог и присутствие которого в себе может ощущать человек (ПСС. Т. 77. С. 13).
К концу жизни взгляды Л. Н. Толстого в этом вопросе не столько окончательно определились, сколько застыли в форме трагического недоумения, поэтому представляются неубедительными попытки утверждать и доказывать, что можно говорить о каком-то перевороте в его мировоззрении в этой области непосредственно перед уходом из Ясной Поляны. В своем дневнике В. Г. Чертков отмечает слова писателя, сказанные в мае 1910 г.: «Христос – Спаситель, и прочее мне лично совсем чуждо». На вопрос Черткова, как бы писатель ответил умирающему, который бы спросил его, «кончается ли все с этой жизнью», Л. Н. Толстой ответил, что сказал бы: «.мы возвращаемся к тому Началу, от которого пришли, а так как Начало это есть любовь, то ничего, кроме хорошего для нас, не может с нами произойти после смерти»[600].
Именно поэтому в конечном счете для Л. Н. Толстого неприемлемы понятия «личная молитва» и «личная вера». В 1910 г. А. Б. Гольденвейзер записывает высказывание писателя по этому поводу: «Я совсем веры не признаю. Сознание – вот что нужно… Вера – это то, чего я без памяти боюсь»[601].
Правда, следует еще раз заметить, что, говоря о таком человеке, как Л. Н. Толстой, нужно соблюдать большую осторожность, желая приписать ему определенные взгляды: приблизительно в это же самое время другой постоянный собеседник писателя, В. Ф. Булгаков, отмечает полярную мысль писателя, который, говоря о «церковниках», исполняющих обряды, подчеркивает: «Главное то, что они искренно верят в Бога, в живого Бога. А в этом все!»[602] Как справедливо подчеркивают многие авторы, в этой полярности заключается «горнило сомнений» самого Л. Н. Толстого, непримиримая борьба «Ерошки с Нехлюдовым», глубокой художественной интуиции с морализирующим рационализмом, который буквально убивал все живое в душе писателя и вокруг него и который проявлялся (правда, не столь явно) даже в его раннем художественном творчестве. Кн. Д. А. Хилков говорит в одном из своих писем, что в Толстом жили и постоянно вели непримиримую борьбу «два совершенно разных человека: художник и учитель веры»[603].
Для Ф. М. Достоевского изначально понятно, что человеческая природа причастна «мирам иным» (ДПСС. Т. 27. С. 85). Человеческое «я» не укладывается в земной порядок вещей, а ищет чего-то другого, кроме земли, «чему тоже принадлежит оно» (ДПСС. Т. 30. I. С. 11). На земле есть только одна «высшая идея» – идея о бессмертии человеческой души, все остальные человеческие «высшие идеи» вытекают из этой идеи. И если эта идея так значительна для человека, для его бытия, то бессмертие и есть нормальное состояние человека и всего человечества, бессмертие души человеческой существует несомненно (см.: ДПСС. Т. 24. С. 48–50).
Предельной конкретности размышления Достоевского о бессмертии достигают после смерти его первой жены, М. Д. Исаевой. Они нашли отражение в записной книжке 1863–1864 гг. (знаменитый отрывок, начинающийся словами: «Маша лежит на столе. Увижусь ли с Машей?»). В этом отрывке Достоевский говорит о человеке как о развивающемся и переходном существе (см.: ДПСС. Т. 20. С. 172). Идеал развития человека на земле Ф. М. Достоевский называет гуманистическим – это идея самопожертвования. Полнота развития человеческой личности на земле – это уничтожение самости, своего «я», отдача его «целиком всем и каждому безраздельно и беззаветно». Я и все, взаимно уничтоженные друг для друга, – вот идеал жизни на земле, который способен дать представление о вечной жизни. «Это-то и есть рай Христов». В своем размышлении Ф. М. Достоевский находит чрезвычайно убедительное, глубокое и точное определение греха: это неисполнение идеального закона жизни, нежелание любовью принести свое «я» в жертву другим. Однако в рамках такого рассуждения также можно перейти некоторую грань, возможно, именно здесь коренятся некоторые хилиастические мотивы позднего Достоевского.
Здесь возникает необходимость сказать о идее Воскресения у обоих писателей. Очевидно, этот вопрос имеет принципиальное значение – учение о Воскресении Христовом и всеобщем телесном воскресении является центральным пунктом христианского вероучения.
Л. Н. Толстой и Ф. М. Достоевский не могли обойти этот вопрос, и на самом деле он в определенном смысле занимает центральное место в их творчестве, а тема Воскресения является главной темой их последних больших романов.
В творчестве Л. Н. Толстого эта тема имеет действительно принципиальное значение, однако следует констатировать, что никогда в своей жизни писатель не воспринимал Воскресение в соответствии с древнехристианской традицией, именно как трехдневное Воскресение Христа и «сошествие Христово во ад», т. е. «победное явление торжествующего Христа в мире усопших, которым были разрешены «вереи вечные» и «ад упразднися»[604]. Факт Воскресения Христова и возможность личного воскресения писателем последовательно и настойчиво отрицаются и отвергаются, в том числе и в «евангелии» Л. Н. Толстого, как «грубое суеверие».
Это именно принципиальное отвержение, принимающее форму протеста, бунта, борьбы, а не просто неверие – в письме Н. Н. Ге писатель говорит о Христе: «Ни за что не поверю, что Он воскрес в теле, но никогда не потеряю веры, что Он воскреснет в Своем учении. Смерть есть рождение, и мы дожили до смерти учения, стало быть, вот-вот рождение при дверях» (ПСС. Т. 63. С. 160). Именно поэтому в целом в творчестве Л. Н. Толстого полностью отсутствуют пасхальные мотивы (заметим, что как только в романе «Воскресение» появляется описание пасхальной заутрени, он весь приобретает какой-то новый оттенок). Толстой может мыслить воскресение как угодно: как интеллектуальнонравственный «прорыв», как торжество сострадательной любви, но та работа, которая однажды была проделана им над последними главами Евангелия, принесла свои «творческие» плоды: из его позднего философского наследства полностью уходит пасхальная радость, пасхальное дерзание.
В этом смысле, если бы князь Мышкин был героем Л. Н. Толстого, а не Ф. М. Достоевского, он вполне мог бы «воскреснуть», подобно Нехлюдову, особенно в Швейцарии. У Ф. М. Достоевского он может только погибнуть. В сущности, Христос Л. Н. Толстого – это и есть князь Мышкин, носитель идеи любви и сострадания, морального закона, последовательный и в какой-то степени решительный «непротивленец», который возможен и убедителен именно в Швейцарии, но абсолютно фантастичен в России, где обречен на смерть и обрекает на смерть (физическую или нравственную) всех вокруг себя. Мышкин (вслед за своим учителем, Л. Н. Толстым) может сострадать и убеждать, но не может «простить грехи грешнице и исцелить безнадежно больного». И если бы он дерзнул на этот шаг, то получил бы строгую отповедь от своего автора и учителя: «Он богохульствует!»[605] Утопический путь князя Мышкина (как и графа Л. Н. Толстого) – не к преображению падшего мира, а к первозданной невинности: «Князь уверяет безобразных и злых людей, что они прекрасны и добры, убеждает несчастных, что они счастливы, смотрит на мир, лежащий во зле, и видит один лишь “образ чистой красоты” <…> Он хочет спасти мир верой в жизнь и делами любви. Ипполит и Рогожин возражают ему: ни жизнь, ни любовь не спасают – они сами нуждаются в спасении»[606].
В этом смысле очень точной кажется мысль Б. Зайцева: притом что и «Война и мир», и «Анна Каренина» написаны «в мажоре», «творение» Л. Н. Толстого в общем «сумрачно», причем эта сумрачность усиливается в «Крейцеровой сонате» и «Смерти Ивана Ильича», которые «уже несут некую страшную черту. Неблагодатны эти вещи, неблагословенны. (То же и с «Воскресением»: не воскресает неживой Нехлюдов)»[607].
Действительно, бунт против Воскресения, борьба с этой идеей приводит к тому, что внутренняя мрачность, именно безблагодатность творчества к концу жизни Л. Н. Толстого нарастают. В этом смысле все настойчивые уверения писателя в том, что он радостно живет и радостно ждет смерти, кажутся крайне неубедительными, что подтверждают обстоятельства трагического бегства из Ясной Поляны. «Воскресения» героев Толстого с этой точки зрения также очень неубедительны, у Нехлюдова оно вообще носит какой-то умственно-ходульный характер, что подтверждается мнением А. П. Чехова по поводу финала романа.
В творчестве Ф. М. Достоевского тема Воскресения является одной из центральных. Здесь, напротив, нужно подчеркнуть ту точность и художественную правду, которыми отмечены сцены чтения эпизода о воскресении Лазаря («Преступление и наказание»), видение Алеши Карамазова (небесный брак в Кане) и финальная глава с мальчиками у камня («Братья Карамазовы»)[608]. Финал «Преступления и наказания» отмечен именно этим противостоянием «рациональной диалектики» и жизненной правды: «Вместо диалектики наступила жизнь, и в сознании должно было выработаться что-то совершенно другое» (ДПСС. Т. 5. С. 533).
Здесь важно заметить еще одну особенность творчества писателя. Хорошо известно, и об этом уже говорилось выше, какое значение для Ф. М. Достоевского имеет символ подверженного тлению человеческого тела. Он присутствует практически во всех его крупных произведениях: в «Идиоте», одним из главных аллегорических образов которого является мертвый Христос Гольбейна, в сцене чтения эпизода о воскрешении Лазаря в «Преступлении и наказании», наконец, в эпизоде с тлетворным духом от тела почившего старца Зосимы в «Братьях Карамазовых». Многие исследователи склонны трактовать эти образы в творчестве писателя как проявление его мистического ужаса перед тайной смерти, как доказательство его глубоких сомнений в самой истине Воскресения.
Однако вот что характерно: для каждого из указанных образов в соответствующем романе Ф. М. Достоевского всегда есть «парный» образ. В «Преступлении и наказании» чтение евангельского эпизода происходит на четвертый день после убийства, совершенного Раскольниковым, тем самым писатель как бы подчеркивает, что его главный герой – тот самый мертвец, которого ожидает воскресение. В романе «Братья Карамазовы» образом мистического исцеления Алеши, усомнившегося в святости своего старца, является другой евангельский образ – брак в Кане Галилейской.
Казалось бы, что подобный «парный» символ отсутствует в «Идиоте». Но здесь можно заметить следующее. Во-первых, как было указано выше, сама цель Достоевского в этом произведении могла диктовать такое безальтернативное построение романа: князь Мышкин является персонификацией «человека Христа», поэтому он должен погибнуть. Во-вторых, и главный символ романа, картина Ганса Гольбейна, как указывает современный авторитетный исследователь, допускает совершенно нетрадиционное толкование: возможно, автор полотна хотел изобразить на нем не подверженного тлению человека, а Господа, в Пречистом Теле Которого уже заметны признаки Воскресения: если смотреть на картину Гольбейна в оригинале и на уровне двух метров, а именно так, по воспоминаниям жены, ее пристально рассматривал Достоевский, когда был в Базеле, заметно, что Господь как бы начинает вставать. С этой точки зрения тот мистический испуг, то пристальное внимание, с которым взор Ф. М. Достоевского был прикован к картине Гольбейна, допускает совершенно нестандартное объяснение[609].
Некоторое отношение к рассматриваемому сюжету имеет и наблюдение Л. М. Розенблюм: «Как-то еще до сих пор мало замечается, что Достоевский, на первый взгляд мрачный писатель, необыкновенно умел описывать счастье в те редкие, но прекрасные мгновения, когда “находит Бог человека”[610]. Именно поэтому сам Достоевский так высоко оценил действительно гениальную сцену – примирение Каренина и Вронского у постели больной Анны.
В итоге можно констатировать, что творчество Достоевского имеет, по сути, пасхальный характер – проводя своих героев через Крест и Голгофу, он всегда показывает, оставляет для них возможность обновления жизни вместе со Христом.
Г. Идея обожения. Этот мотив полностью отсутствует у Л. Н. Толстого, в антиперсоналистической философии которого союз человека с безличным Богом характеризуется чисто рационалистически – не «обожение», а «разумение», разумное сознание или разумная любовь. Для Достоевского нравственность и вера – тождественные понятия, «нравственность вытекает из веры, потребность обожания есть неотъемлемое свойство человеческой природы» (ДПСС. Т. 11. С. 188). Как разъясняет В. М. Лурье, термин «обожание» в этом контексте является синонимом термина «обожение» (греч. ) = «обожение». Это важнейшая идея, которая показывает, что и в этих своих размышлениях Ф. М. Достоевский очень близко подошел к святоотеческому идеалу христианской жизни.
Однако характерно, что при всей своей богословской глубине в рамках даже этого квазибогословского «обожания» человеческая природа мыслится Ф. М. Достоевским в своем наличном состоянии – проблема ее зараженности грехом не ставится: святоотеческое «Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом» подменяется другой максимой: «Бог стал человеком, чтобы человек стал хорошим человеком»[611]. В этом смысле на самом деле происходит не обожение, т. е. освящение человеческой природы силой Божией и церковной, а скорее «сбрасывание» силы греха (выражение прот. В. В. Зеньковского). Показательно, что, хотя, как показывает В. М. Лурье, с начала 1870-х гг. Достоевский проявляет интерес к аскетической литературе (прпп. Петр Дамаскин, Симеон Новый Богослов, Марк Подвижник, Евагрий Понтийский), тема «умного делания», «невидимой брани» у него полностью отсутствует[612].
Д. Оппозиция «Millenium – истление человечества». Проблема Millenium’а (лат. millenarius – тысячный) является одной из ключевых в истории христианских споров и связана в конечном счете с идеей Царства Божьего, его осуществимости и актуальности в контексте христианского благовестия.
С точки зрения Ф. М. Достоевского, спасительным для человека является только путь веры. Иной путь является для человечества гибельным, причем этот путь намечен Достоевским очень точно: ересь, безбожие, безнравственность, атеизм, «троглодитство», полное исчезновение, «истление» (ДПСС. Т. 11. С. 188).
Но какова альтернатива этому пути? Размышления над этим вопросом приводят Ф. М. Достоевского к идее Millenium’а, т. е. тысячелетнего царства Христова на земле, о котором говорится в 20-й главе Откровения св. Иоанна Богослова. «Русское христианство», православие, несет всему миру спасение и «полное обновление нравственное» Именем Христа: «Мы несем 1-й рай 1000 лет, и от нас выйдут Энох и Илия, чтоб сразиться с антихристом, т. е. с духом Запада» (ДПСС. Т. 11. С. 168). Перед человеком стоит задача «царство Христово созидать» на земле (ДПСС. Т. 11. С. 177). В подготовительных записях к «Дневнику писателя» 1875–1876 гг. Ф. М. Достоевский исповедует веру во «всеобщее царство мысли и света», «полное царство Христа. Как оно сделается, трудно предугадать, но оно будет» (ДПСС. Т. 24. С. 127).
Правда, эта идея в творчестве Достоевского претерпевает значительную трансформацию вплоть до утверждения о возможности построения светской христианской империи, с чем связано и утверждение о том, что эта империя «будет у нас в России, может, скорее, чем где-нибудь» (ДПСС. Т. 24. С. 127; эти рассуждения С. И. Фудель точно назвал «теократическим утопизмом»). Именно с этим последним утверждением связана мысль о русском народе как народе-богоносце (см.: ДПСС. Т. 27. С. 64). Тем не менее на милленаризме Достоевский никогда не настаивал как на догмате[613].
В учении о Millenium’e пути Л. Н. Толстого и Ф. М. Достоевского предельно сближаются. Более подробно речь о проблеме Царства Божьего пойдет далее, в связи с критикой идей Л. Н. Толстого и Ф. М. Достоевского К. Н. Леонтьевым, однако сейчас следует остановиться на том, в чем заключается сходство подходов писателей к этому вопросу.
Проблема утопизма в творчестве обоих авторов подробно рассмотрена в упомянутой уже неоднократно монографии М. Дерне. Немецкий исследователь указывает на следующие принципиальные положения.
Ф. М. Достоевский и Л. Н. Толстой в своем творчестве выражают чувство ответственности за свой народ, общество, членами которого они являются, и за все человечество.
Оба уверены в том, что актуальный статус современного общества, его «духовная саморефлексия» далеки от истинного человеческого существования, здесь можно говорить чуть ли не о полном извращении его. Это рождает в творчестве каждого из них принципиальный протест против существующей общественной и духовной действительности, протест, который фактически приобретает характер бунта, имеющего религиозную окраску.
Оба писателя на собственном тяжелом жизненном опыте почувствовали пропасть между истинным человеческим бытием и пораженными до самых глубин духовными и социальными принципами современного им общества. Этот разрыв не может быть преодолен на путях эстетизма или романтизма. В каждом из писателей живет воля к преодолению жизненных противоречий.
Эта воля к преодолению и преобразованиям, вопреки всем жизненным разочарованиям, имеет фундаментом глубокое и неразрушимое доверие потенциально возможному восстановлению истинного человеческого бытия, доверие, которое выросло в тяжелых сомнениях и имеет сугубо религиозные корни: человек, несмотря на все испытания и ошибки, принадлежит Богу. Правда, здесь пути Л. Н. Толстого и Ф. М. Достоевского начинают расходиться, и довольно существенно: если Толстой полагает, что послуание Богу является общечеловеческим достоянием, общей принадлежностью и христианства, и нехристианских религий, то Достоевский настаивает, что оно достижимо только через Христа.
Наконец, последнее. Это религиозное, в конечном счете христианское, доверие всемогуществу Бога реализуется не на путях абстрактной и трансцендентной, «потусторонней» эсхатологии надежды, оно актуализируется в религиозно-этическом призыве к человечеству и в апелляции к картине истинного человеческого будущего, у Достоевского более выраженно, у Толстого более приглушенно, к истинному, фундаментальному призванию человека – жизни в правде и любви[614].
Этот анализ М. Дерне, представляется, может быть признан вполне актуальным и достаточно осторожным, если, конечно, оставить за скобками вопрос, насколько программа Л. Н. Толстого реализуема вне Церкви и вне Христа.
И в этом смысле совершенно не случайно то обстоятельство, что христианский идеал Ф. М. Достоевского облечен в эстетическую категорию красоты. Как убедительно показала Л. М. Розенблюм, у Достоевского красота – сложное понятие, тяготеющее к «христологии»: характерно, что писатель в своих творческих поисках употребил именно это слово (а не «правда», «вера» или «истина»), хотя слово «красота» неевангельского происхождения. Мир спасает именно красота, а не моральный закон, в котором отсутствует мистико-эстетическая убедительность.
Но не всякая красота является спасительной. Достоевский делает очень важную поправку: мир спасет «красота Христова» (см.: ДПСС. Т. 11. С. 188). Высшая красота – общий идеал, который имеет нравственную составляющую, и этот идеал дан Христом (ДПСС. Т. 24. С. 159, 167). «Чудесная и чудотворная» Красота «сияющей личности» Христа, Его «пресветлый лик» и «нравственная недостижимость» (ДПСС. Т. 21. С. 10) – против этого идеала не могут устоять даже плоские социологи-заторы-атеисты, сторонники нового взгляда на человека и новой экономической науки, такие, как В. Г. Белинский[615].
Важно, что именно красота поставлена на первое место в перечне «характеристик Христа» в триаде «красота – совершенство («нет лучше») – вера» (ДПСС. Т. 24. С. 202): «В плане же метафизическом красота у Достоевского – последнее, предельное качество, обнимающее собой бытие, завершающее его в себе и дающее ему конечно-бесконечную форму. Как свойство Христа, красота есть воплощенная в личности полнота сущего. В ней сходятся все линии земной жизни, и через нее же открывается жизнь вечная; одна сторона ее доступна чувственному, тварному восприятию, а другая сверхчувственна, открывается лишь мистическому созерцанию»[616].
Представляется, что здесь мы снова являемся свидетелями глубочайшей богословской интуиции Ф. М. Достоевского, его ценных творческих открытий на богословской почве. В его творениях (как художественных, так и публицистических) красота становится отблеском Фаворского света: можно вспомнить тот восторг, с которым евангелист Марк описывает явление Господа на горе Преображения Своим ученикам: «Одежды Его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить» (Мк 9. 3). Творческая красота Фаворского Лика Христова – вот что в конечном счете должно спасти мир.
Идея красоты является частью сложного комплекса понятий Ф. М. Достоевского, который состоит из трех основополагающих интенций эсхатологического характера:
а) спасающая красота Лика Христова;
б) всемирная любовь и гармония; более обобщенно, понимание сути хилиазма и учение о Царстве Божием на земле;
в) загробная участь грешников и вечность адских мук (проблема апокатастасиса).
Оставляя до следующего параграфа работы анализ утверждения Ф. М. Достоевского о том, что задача христианства заключается в созидании «Царства Христова» на земле (см.: ДПСС. Т. 11. С. 177), следует заметить, что сам пафос проповеди писателя, проповеди красоты и любви, не только высок и привлекателен, но и глубок по содержанию, ибо христианскому богословию очень близка идея моральной эстетики (выражение К. Н. Леонтьева) и эстетики творчества.
Неоднократно подчеркивалось то обстоятельство, что в христианском Символе веры славянское слово «творец» есть перевод греческого – делатель, изготовитель, творец, создатель, стихотворец, поэт. Процесс создания мира есть процесс творческий, художественный в самом глубоком смысле этого слова, и важнейшей характеристикой богоподобия является наличие творческого начала в человеке, поэтому как творение Вселенной есть эстетический процесс, так и жизнь человека в мире должна быть морально-эстетическим и культурным творчеством – очень характерно, что это же слово употребляется в Новом Завете, когда речь идет об исполнителе закона, а тварь Божия, Его творение, названа поэмой, . Само уподобление Христу есть благодатный творческий процесс, процесс глубинной работы над своей душой, который в определенный момент обязательно перерастает в процесс творческого восприятия и преображения окружающего мира («Стяжи дух мирен, и вокруг тебя спасутся тысячи»): в этом смысл «жизни во Христе», следствием которой становится «искусство во Христе», «наука во Христе», вообще любой «труд во Христе».
Знаменательно, что однажды в Священном Писании благодать прямо названа «многоразличной» – в 1 Петр 4. 10 все христиане названы «добрыми домостроителями многоразличной благодати Божией», которая и дает возможность служить друг другу «каждый тем даром, какой получил», т. е. выполнять заповеди Христовы, закон Христов. Здесь определение «многоразличная» есть перевод на русский язык греческого слова «», т. е. «пестрый, разукрашенный, разноцветный, расписанный, разрисованный, разнообразный». Это же слово употребляется в Еф 3. 10, где говорится о «многоразличной премудрости Божией» ( ). Таким образом, это греческое прилагательное может иметь квазиэстетический оттенок.
Однако в творчестве Ф. М. Достоевского проблема поставлена еще глубже: есть два вида красоты – красота Мадонны и красота Содомская, т. е. подделка под эстетический идеал, характерная для современного мира, над которым тяготеет грех, рядящийся в одежду псевдохристианского прогресса, – это «истина», «добро» и «красота» без Христа и Его Церкви, превращающие человечество в свиное стадо и влекущие к пропасти «свободы», «равенства» и «братства». Содомская красота в пределе есть отвратительная красота – безобразие Антихриста, не истинные свобода, равенство и братство, а жуткая гримаса. Здесь спасающей красоте Христа, Его «многоразличной» благодати противостоит «черная благодать» Антихриста, «мистическая жуть и тоска»[617], содомский идеал, плод бесовской одержимости, люциферический демонизм. Не случайно, как отмечает современный исследователь, важными характеристиками «красоты Достоевского» являются смирение и сострадание[618].
Представляется, что в своих размышлениях о красоте Ф. М. Достоевский близко подошел к ее истинно христианскому пониманию: красота – это преодоление негодного и неуместного художественного натурализма, «видение сверхприродного, благодатного состояния мира», нашедшее такое яркое выражение в православной иконе. Этим христианское искусство, искусство «религиозного вдохновения», в котором красота есть выражение святости, отличается от искусства «человеческой гениальности», которое всегда несет в себе черты двусмысленности и демонизма[619].
Притом что в своем трактате «Что такое искусство?» Л. Н. Толстой фактически отрекается от подобного взгляда на красоту, а в целом его позднее творчество есть ниспровержение не только эстетического идеала, но и в целом культурно-исторического, в жизни Л. Н. Толстого был период, когда он подошел к нему необычайно близко. В 1872 г., в связи с выходом в свет новой книги Н. Н. Страхова, Толстой подчеркивает в своем письме к нему, что категория «красота» является певичной в жизни духа, так как нравственные категории, добро и зло, есть только материал для красоты, которую человек любит «без причины, без пользы, без нужды». С этой точки зрения все религии в основе своей имеют именно непостигаемую для ума, недоступную для логики красоту, ибо именно красоте доступны великие тайны жизни, которые неспособна постичь человеческая логика. Именно красота является руководителем человека «в хаосе добра и зла»[620]. Отречение от Христа в конечном счете есть отречение от Его задачи – в этом мире стать строителем «многоразличной Божественной благодати».
В этой связи следует сделать еще одно, заключительное замечание. Ведь при всем своем часто критическом отношении к духовенству Ф. М. Достоевский сохранил верность глубоко церковному христианскому идеалу. Точнее, он прекрасно понимал, что этот идеал может быть сохранен в первозданной полноте только в Церкви. Этот вывод подтверждается замечательными словами, сказанными о сектантах, которые призывают разбить сосуд с драгоценной жидкостью, потому что почитание его есть, с их точки зрения, идолопоклонство: свята жидкость, а не сосуд, «содержимое, а не содержащее» (ДПСС. Т. 25. С. 11). Церковь – «добытое веками драгоценное достояние» (Там же). Эти слова прямо направлены против Л. Н. Толстого. И в этом также непроходимая пропасть между Достоевским и Толстым[621].
Подводя итог, нужно отметить, что в творчестве двух великих русских писателей присутствует поразительный контраст восприятия: С. Н. Булгаков отмечает, что оба, посещая Оптину пустынь, у старца Амвросия видели одно и то же, толпу людей, но один нарисовал картину мрачную, грустную, холодную, без любви и сострадания, в чем-то безнадежную («Отец Сергий»), другой – светлую, радостную, в чем-то даже веселую («Верующие бабы» в «Братьях Карамазовых»). Лик Христа – именно Лик, а даже не Личность, не учение – вот что кардинально разделяет Толстого и Достоевского. В произведениях Достоевского присутствует великий символ – солнце, «которым освещается и согревается творчество и душа Достоевского и которое с унылой безнадежностью отсутствует у Толстого, ибо им отвергнуто оно за ненужностью и упразднено с враждебностью, несмотря на сгущавшуюся тьму религиозного отчаяния». Это солнце есть живое чувство Христа, «ибо искусству Достоевского была вверена совершенно единственная и исключительная задача – являть этот Лик». Пути Толстого и Достоевского – «две совершенно разные религии, два разных чувства мира, два ощущения зла и добра в мире и человеке. Одна есть религия живого Христа – Спасителя, в Котором «обитает вся полнота Божества телесно», другая есть учение, отделенное от своего живого источника, превращенное в доктрину и навьюченное, как долг, на слабые плечи человека. Здесь существует глубокая противоположность, и притом до конца осознанная»[622].
Однако, отмечая этот «полюс отталкивания», мы в то же время обязаны говорить и о «полюсе притяжения». А именно: говоря об указанной противоположности, следует иметь в виду, что у двух писателей, как было сказано выше, были точки сближения и соприкосновения, из которых принципиально важной является моральная проповедь и мечта о царстве разума (любви), которое рассматривается ими в контексте христианской утопии. В этом смысле крайне характерно признание, сделанное однажды А. А. Ахматовой: «Мы, модернисты… ошибались, противопоставляя их друг другу. В действительности они похожи и делали одно дело, только один внутри церковной ограды, другой вовне <…> Оба они – великие учителя морали, и оба пеклись об одном»[623]. Таким образом, А. А. Ахматова подчеркивает, что первоначально стремление противопоставить творчество писателей в начале XX в. оказалось сильнее, но позже понимание присутствия общей моральной (точнее, морально-утопической) основы позволило этот подход сбалансировать.
К анализу этой стороны их творчества мы должны теперь перейти. Другими словами, далее речь пойдет о столь значимом для обоих писателей и для всей русской культуры в целом понятии «Царство Божие».
Эта тема настолько обширна, что возникает потребность ограничить ее рассмотрение определенными рамками. Эти рамки возникают естественным образом в контексте принципиально важного эпизода – спора о «розовом христианстве».
В 1882 г. К. Н. Леонтьев опубликовал работу «Наши новые христиане, Ф. М. Достоевский и гр. Лев Толстой», которая является важным шагом на пути осмысления процесса секуляризации русской культуры, «серьезным эпизодом в истории русской мысли», более того, «великим спором» и даже «догматическим прением»[624].
Одна из центральных тем брошюры К. Н. Леонтьева – идея «вселенской гармонии», потенциальной возможности построения на земле Царства Божьего, «центральная для русского религиозного сознания тема», ибо вера в возможность наступления золотого века человечества в конце XIX в. овладела сознанием образованного общества и широко распространилась в народе в многочисленных сектах[625].
Книга К. Н. Леонтьева в первую очередь была откликом на Пушкинскую речь Ф. М. Достоевского (1880), а также на рассказ Л. Н. Толстого «Чем люди живы?». Работа содержала развернутую критику нового мировоззрения, которое, как полагал Леонтьев, является попыткой подмены истинных христианских идеалов, а также отдельных идей Ф. М. Достоевского, в том числе его ключевого утверждения о возможности «братского окончательного согласия всех племен по Христову евангельскому закону» (ДПСС. Т. 26. С. 148), «великого восторженного гимна нового и последнего воскресения» (ДПСС. Т. 13. С. 379) – утверждения, под которым, как представляется, вполне мог подписаться и Л. Н. Толстой.
Та часть книги, которая была связана с Пушкинской речью, острейшим образом, по мнению С. Г. Бочарова, обозначила размежевание в русской культуре, которое будет связано в русской религиозной философии начала XX в. с трактовкой и интерпретацией категории «любовь»[626].
Все эти формулировки следует признать совершенно адекватными: сейчас, по прошествии 120 лет, можно говорить о том, что реакция К. Н. Леонтьева на творчество двух великих русских писателей была своеобразной, очень глубокой и важной прелюдией к рождению русского богословия культуры. Можно сказать по-другому: эта дискуссия, предваряя Религиозно-философские собрания начала XX в., поставила во всей остроте вопрос о том, как сделать христианство влиятельным в жизни, вопрос об отношении Церкви к миру, о путях христианского творчества и культуры.
Более точно вопрос может быть поставлен следующим образом: как православие, стоящее на почве Писания и святоотеческой традиции, может в новых исторических условиях воспринять творческие потенции культуры?
Отметим, что, хотя эта дискуссия имела серьезное продолжение уже после смерти К. Н. Леонтьева, мы, исходя из задач данной работы, ограничиваемся в своем анализе рассмотрением позиции только трех названных авторов (Толстой, Леонтьев, Достоевский) и используем другие источники только для осмысления проблемы внутри данной триады.
Очень важно, что дискуссию начал именно К. Н. Леонтьев, который обладал двумя замечательными качествами, глубоко подмеченными В. В. Розановым (по поводу другой работы К. Н. Леонтьева), – смелостью и своеобразной гордостью: «Он имел силу сказать вещи, каких никто в лицо обществу и читателям не говаривал. Говорили, и пуще, – невежды. В Л[еонтьев]е же чувствовался аристократизм ума и образования <…> Леонтьев вообще действовал как пощечина. “На это нельзя не обратить внимания”, – произносил всякий читатель, прижимая ладонь к горящей щеке»[627].
В своей работе К. Н. Леонтьев точно обозначает черты нового мировоззрения, которое он называет «розовым христианством»: «Об одном умалчивать; другое игнорировать; третье отвергать совершенно; иного стыдиться и признавать святым и божественным только то, что наиболее приближается к чуждым православию понятиям утилитарного прогресса, – вот черты того христианства, которому служат теперь многие русские люди и которого, к сожалению, провозвестниками явились на склоне лет своих наши литературные авторитеты»[628]. К. Н. Леонтьев подчеркивает, что в основе «розового христианства» лежат две принципиальные идеи: идея демократического и либерального прогресса (mania democratica progressiva) – установка на переустройство общества и улучшение социальных институтов (гуманизм, суд, закон, экономика, права личности и т. д.), а также идея морализма – переустройства человеческого сердца, личностно-психологического прогресса, «земного эвдемонизма», являющегося, по сути, основой деятельностной любви, любви своевольной, основанной на случайных и неглубоких порывах сердца.
С точки зрения К. Н. Леонтьева, в этом случае речь должна идти об антрополатрии, т. е. вере в земного человека и его возможности, «в идеальное, самостоятельное, автономическое достоинство лица и в высокое практическое назначение всего человечества здесь на земле»[629]. По-другому можно эту тенденцию определить как стремление освободить христианство от власти догматов, осуществить задачу «разделения христианства (сведенного к этике) и богословия»[630]. Однако этот путь ведет в тупик: «Любовь без страха и смирения есть лишь одно из проявлений (положим, даже наиболее симпатичное) того индивидуализма – того обожания прав и достоинств личности, которое воцарилось в Европе с конца XVIII века… уничтожив в людях веру в нечто высшее, от них не зависящее, заставив людей забыть страх и стыдиться смирения…»[631]
Таким образом, с точки зрения К. Н. Леонтьева, христианство Л. Н. Толстого и Ф. М. Достоевского носит совершенно нецерковный, «неотеческий», выдуманный характер и не соответствует строгим («византийским») идеалам, а проповедь его способна только принести вред.
Сам Леонтьев проблему именно так и определял и понимал: есть христианство настоящее и «христианство Федора Михайловича», между ними существует принципиальная разница, потому что настоящее христианство «иногда весьма сурово и страшно»[632]. Настоящее, «мрачновеселое», известное, ясное и сформированное христианство, по мнению Леонтьева, отличается от христианства Достоевского сложностью для ума, глубиной и простотой для сердца. Настоящее христианство даже права не имеет (если готово честно следовать свидетельствам Писания и Предания) ждать всепримирения, всепрощения, вселюбви и моральной гармонии, а может только допускать временные улучшения и ухудшения[633].
Но есть еще один очень важный момент: понимание в настоящем христианстве Личности Христа. С точки зрения К. Н. Леонтьева, «розовое христианство» знает только «безжизненно-всепрощающего Христа, которого сочинил сам Достоевский»[634], морального идеалиста, проповедующего «любовь» и «гармонию», – как тут не вспомнить знаменитое письмо К. П. Победоносцева Л. Н. Толстому по поводу возможности прощения убийц императора Александра II, в котором обер-прокурор Св. Синода формулирует свою мысль о различии в понимании Христа между собой и Л. Н. Толстым: «В таком важном деле все должно делаться по вере. А, прочитав письмо Ваше, я увидел, что Ваша вера одна, а моя и церковная другая и что наш Христос – не Ваш Христос. – Своего я знаю мужем силы и истины, исцеляющим расслабленных, а в Вашем показались мне черты расслабленного, который сам требует исцеления» (ПСС. Т. 63. С. 59).
В этой связи следует обратить внимание на одну очень важную деталь, которая также роднит К. Н. Леонтьева с К. П. Победоносцевым: этнографический контекст, национальная заостренность – ведь Леонтьев подчеркивает специально значение именно «русских пороков»: проповедь «розовых добродетелей» способна в первую очередь принести вред именно в пределах нашего отечества, России, ибо отечественные пороки таковы, что слишком часто требуют не любви, а внешнего насилия и внутреннего страха – страха согрешить. Более того, в письмах Розанову Леонтьев фактически был склонен чуть ли не предложить свою собственную концепцию «народа-богоносца»: «Народ же, выносящий и страх Божий, и насилие, есть народ будущего ввиду общего безначалия…»[635] Для такого народа нездоровое и подавляющее влияние Федора Михайловича очень вредно, как и все «прибавки к вере» и «исправления» христианства в XIX в., «а наши русские и тем более», потому что они несамобытны[636].
Оставляя в стороне вопрос о причинах такого отношения К. Н. Леонтьева к Ф. М. Достоевскому (обсуждение этого вопроса совершенно не соответствует теме настоящей работы, хотя, конечно, тут много пристрастного и личного и поэтому необъективного), следует обратить внимание на важную деталь: сам жанр произведения (не богословский трактат, а роман или публицистический текст) предполагает размытость формулировок, априорную нечеткость[637].
В этом смысле в своих выводах квазибогословского характера Л. Н. Толстой, конечно, был гораздо конкретнее. Как заметил В. В. Розанов, Ф. М. Достоевский иногда впадает в другую крайность, он «ослабевал» и «отступал назад» «в последнем анализе <…> при последнем ударе аналитического ножа»[638].
На первый взгляд кажется, что критика К. Н. Леонтьева относится в первую очередь к Ф. М. Достоевскому и непосредственно с Л. Н. Толстым не связана – ведь в 1882 г. его «новое направление» просто еще не было широко известно. На самом деле это вовсе не так: обвинения К. Н. Леонтьева во многих пунктах приложимы к Л. Н. Толстому, и в первую очередь к Толстому. Более того, как замечает О. Л. Фетисенко, «именно Толстой был основным объектом леонтьевского полемического выступления»[639]. Незадолго до смерти К. Н. Леонтьев был вынужден понять, что все-таки главную опасность для православия представляли не «пророчества» Ф. М. Достоевского, а вполне реальные призывы и действия «яснополянского старца».
Дело в том, что проблема дихотомии «любовь – страх», сформулированная К. Н. Леонтьевым, нашла глубокое отражение в творчестве Л. Н. Толстого. Характерно, что в одном из ранних писем Л. Н. Толстого к В. Черткову писатель подчеркивает: «Я с детства никогда не верил в загробные мучения и знаю большую половину людей, которые не могут верить в это. Но знаю и людей, которые верят в это – преимущественно женщины. Этот 2-й разряд людей (мне кажется, что их характерная черта есть сердечная холодность) мало способен к тому, чтобы познать радость любви, и потому он приводится к любви – страхом» (ПСС. Т. 85. С. 77–78).
Тема любви имеет большое значение в сочинениях Л. Н. Толстого. Во многом к проблеме выработки любви в себе, любви, являющейся действительно выражением внутреннего содержания христианского учения, Л. Н. Толстой относился с серьезностью и трезвостью, призывая, например, журналиста Л. Е. Оболенского в 1884 г. остерегаться «тумана философии и любви вообще, возвышенной христианской любви» (ПСС. Т. 85. С. 167).
Выше уже подчеркивалось, что именно любовь, с точки зрения Л. Н. Толстого, является тем путем, который в рамках философской концепции писателя ведет к «разумному пониманию» и в итоге к построению на земле Царства Бога Отца.
Уже в рассказе «Чем люди живы», который привлек внимание К. Н. Леонтьева, эта тенденция находит свою реализацию: любовь становится в нем символом человеческой жизни, ее главным содержанием, даже ослушание Бога во имя человеческой любви не есть грех, эта любовь – высшее проявление христианской веры. Здесь очень характерно противопоставление послушания Богу и проявления любви к человеку. Таким образом, для Л. Н. Толстого свободное (а для К. Н. Леонтьева – своевольное) проявление любви есть высшая заповедь христианства, именно так нужно понимать, с точки зрения Л. Н. Толстого, слова евангелиста, что «Бог есть любовь». И именно эта мысль расценивается К. Н. Леонтьевым как начало новой ереси.
Учение о Царстве Божием занимает центральное место в философии Л. Н. Толстого[640]. Однако здесь нужно иметь в виду одно важное обстоятельство: это учение носит латентный характер, оно, в отличие от, скажем, морального императива Л. Н. Толстого, состоящего из пяти заповедей, не обладает чертами законченной доктрины.
Это последнее обстоятельство дало повод еп. Антонию (Храповицкому) утверждать, что даже в работе, названной «Царство Божие внутри вас», собственно о Царстве Божием почти ничего не говорится[641].
Фактически под именем «Царства Божьего» в поздних религиозных произведениях Л. Н. Толстого имеется в виду некий «интегральный мотив», состоящий, как было сказано ранее, из понятий «разум», «любовь» и «правда». Л. Н. Толстой настаивает, что Царство Божие не приходит внешним образом в пространстве и во времени, а открывается в нас, ибо оно уже внутри нас и только требует актуализации. Эта мысль присутствует уже в трактате «В чем моя вера?»: «Теперь же учение Христа, как оно представилось мне, имело еще и другое значение; установление Царства Бога на земле зависело и от нас. Исполнение учения Христа, выраженного в пяти заповедях, установляло это Царство Божие. Царство Бога на земле есть мир всех людей между собою <…> Стоит людям поверить учению Христа и исполнять его, и мир будет на земле, и мир не такой, какой устраивается людьми, временный, случайный, но мир общий, ненарушимый, вечный» (ПСС. Т. 23. С. 370). Человечество неуклонно движется к Царству Бога на земле по пути прогресса: «Придет время, и приходит уже, когда христианские основы жизни – равенства, братства людей, общности имуществ, непротивления злу насилием – сделаются столь же естественными и простыми, какими теперь нам кажутся основы жизни семейной, общественной, государственной. Ни человек, ни человечество не могут в своем движении возвращаться назад. Жизнепонимание общественное, семейное и государственное пережито людьми, и надо идти вперед и усвоить следующее высшее жизнепонимание, что и совершается теперь» (ПСС. Т. 28. С. 89). В письме Н. Н. Ге Л. Н. Толстой высказывается на этот счет также совершенно определенно: «Мне все кажется, что время конца века сего близится и наступает новый, все хочется поторопить это наступление, сделать, по крайней мере, все от меня зависящее для этого наступления. И всем нам, всем людям на земле только это и есть настоящее дело. И утешительно и ободрительно это делать: делаешь что можешь, и никто не знает, ты ли или кто делает то, что движется» (ПСС. Т. 66. С. 452).
Учение Л. Н. Толстого поражает своей прагматической направленностью. Земля – «полная чаша», хозяйский двор, все в нем приготовлено так, «чтобы люди могли спокойно жить в нем». Хотя Царство Божие сокровенно скрыто в человеке, появляется «учитель», его проповедь и призыв «не губите хозяйское добро, вам лучше будет» приводит к глобальным результатам: Царство «открывается» человеку, его жизнь на земле становится осмысленной, разумной и, главное, утилитарно-продуктивной. Все земные богатства становятся реально его собственностью, и эта собственность будет приумножаться человеком, если, подчеркнем еще раз, он не будет «делать глупостей» (ПСС. Т. 23. С. 383).
Таким образом, проблема была замечена К. Н. Леонтьевым точно: радикальное противопоставление «страха» и «любви» и безусловный выбор в пользу второй – вот в чем опасность пути, намеченного «новыми христианами». Конечный пункт этой программы – построение Царства Божьего на земле чисто земными средствами. Ибо никак иначе трактовать этот призыв Л. Н. Толстого невозможно: нужно только последнее решительное усилие, усилие разума, воли и любви, нужно однажды понять и осуществить призыв Христа – и тогда это строительство земного царства без Церкви и мистики, догматов и Таинств начнется.
Современная К. Н. Леонтьеву общественная мысль колебалась в «дурном диапазоне»: либо исправление человеческого сердца, «последнее усилие добра» большого количества людей, за которым должно автоматически последовать исправление человеческого сообщества, либо, наоборот, исправление самого сообщества, которому мешают несовершенство социального строя и классовых отношений и плохое воспитание. Это второе исправление приведет каждого «индивидуума» к необходимости исправлять свое сердце (возможно, не без элементов внешнего насилия и принуждения). Ярким представителем этого последнего направления являлся один из критиков Ф. М. Достоевского А. Д. Градовский, который упрекает писателя за отсутствие в его творчестве проповеди общественных идеалов[642].
В конечном счете оба подхода преследуют одну и ту же цель: построение Царства Божиего на земле исключительно человеческими усилиями. Эта тенденция нашло свое яркое выражение на религиозно-философских собраниях 1901–1903 гг., где устами В. Тернавцева было провозглашено, что евангельская эсхатология доселе понималась неправильно – на самом деле земля есть место приготовления не только к небу, но и к новой, праведной земле[643].
Однако ни та, ни другая схема в действительности не имеют под собой абсолютно никаких евангельских оснований. Напротив, в этих двух подходах заложена опасность тотального искажения евангельской истины, искушения представить Христа либо только добрым и страдающим моралистом, либо социальным реформатором.
Таким образом, К. Н. Леонтьев убедительно показал, что всеобщая гармония и благоденствие на земле не являются целью христианской жизни и христианской проповеди и не достигаются прогрессом всего человечества, а проповедь отвлеченной любви и отвлеченной морали – распространенное явление, которое на самом деле также противоречит целям и задачам, смыслу христианства, является христианством только по названию и недоразумению.
Любовь без страха и смирения есть фетиш, самообман и иллюзия, следствие «романтической избалованности нашей» и «приятных порывов сердца»[644]. Более того, с точки зрения К. Н. Леонтьева, проповедь «бесстрашной любви», гордое стремление «пресных боголюбцев» сразу оказаться в «сыновьях» Божиих, связанное с ним непризнание ада и вечных мук есть подготовка царства Антихриста[645].
Это и есть принципиальная установка, на которую бессознательно работал Толстой всю свою жизнь: утверждая принцип добра, любви, разума, он готовил приход того «духа зла», который «выступает не прямо, как разрушитель и человеконенавистник, а, наоборот, как гуманист, задающийся целью создать царство всеобщего счастья, конечно, непременно на земле без Преображения ее <…> Призрачный блеск добра – такова основная ложь диавольской природы»[646].
Таким образом, мы должны констатировать, что критика К. Н. Леонтьева имеет гораздо более широкое значение, контекст и коннотации в масштабах «большого времени». В итоге она связана с проблемой «Церковь и мир» и основным содержанием имеет проблему церковной миссии, ее целей, задач и способов.
В этом смысле можно говорить о том, что К. Леонтьев глубоко и интуитивно тонко указал на грядущую опасность, на то, что в XX в. Г. Штайнер назовет «стремлением больших масс слушать тривиальные утешения пророков в стиле «матине» и уличных торговцев спасением»[647].
Эта тема подробно развивается в одной из статей известного немецкого теолога XX в. Д. Бонхеффера, который анализирует стремление христиан XX в. получать «дешевую благодать». Д. Бонхеффер указывает, что «дешевая благодать – это отрицание живого Слова Божия, отрицание вочеловечения Слова Божия»[648]. Далее он подчеркивает, что для нас, христиан, «не может быть дешевым то, что дорого Богу» и справедливо утверждает, что это живое чувство благодати постепенно утрачивается с возрастанием обмирщения Церкви в истории[649]. Здесь можно заметить, что в секулярном мире действительно происходит трансформация понятия «благодать»: оно либо полностью игнорируется (как в творчестве Л. Н. Толстого), либо подвергается значительному видоизменению, своеобразному «расцерковлению» (как отчасти видно даже из поучений старца Зосимы в романе Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы»). Тем не менее очень характерно, что «разумение» закона Христова у Л. Н. Толстого противостоит здесь сердечной и пламенной любви ко Христу в творчестве Ф. М. Достоевского.
Итак, именно против этого соблазна своевольной, «тихо и скрытно гордой или шумно тщеславной»[650] любви без страха и смирения и направлена в первую очередь книга К. Н. Леонтьева. Фактически его позицию поддержал (заочно) святитель Феофан Затворник, который в 1881 г. отметил: «Приятно встречать у некоторых писателей светлые изображения христианства в будущем, но нечем оправдать их»[651].
Этой тщеславной любви К. Н. Леонтьев противопоставляет «трансцендентальный эгоизм», т. е. заботу о спасении души и личном загробном воздаянии. В одном из писем буквально за несколько дней до смерти он подчеркивает, что именно это и составляет главное содержание христианской жизни и христианского возрастания: «Если бы покойный старец Амвросий 25-летним юношей не думал бы исключительно о спасении своей души, если бы не вдохновлялся тогда тем, что я зову трансцендентальным (загробным) эгоизмом, а думал бы о том, чтобы улучшать земную жизнь других, то из него вышел бы или гордый и раздраженный, или пустой человек; но, думая десятки лет лишь о своем спасении, он стал великим спасителем других»[652].
С этой точки зрения является совершенно неоправданной натяжкой представлять спор о «розовом христианстве» как полемику между Ф. М. Достоевским, к которому идейно примыкали некоторые русские философы, стремившиеся оправдать человеческую историю и представить ее в качестве «поля соработничества Бога и человека», и «православными критиками, лихо размахивающими эсхатологической дубиной», сокрушающими этой дубиной «всякую веру в созидательный смысл истории, в возможность благого дела и творчества в ней»[653]. Авторам, прибегающим к подобным публицистически окрашенным аргументам, следует задать себе вопрос: отрицает ли веру в «созидательный смысл истории» Сам Спаситель, провозглашая в 24-й главе Евангелия от Матфея конечный крах этой истории? Имеют ли под собой евангельскую почву призывы к благому делу и творчеству, если в своей основе они фактически игнорируют обетования Христа? Представляется, что здесь речь идет о потере сотериологического ориентира: призыв к культурному строительству на земле, рассматриваемый изолированно, вне евангельского контекста, вне опыта святоотеческого осмысления, попытки интерпретации идеи возмездия, созидание культуры без вектора, направленного к спасению, – все это в конечном счете приобретает антихристианские черты, что и подчеркивает К. Н. Леонтьев. Можно сколь угодно творчески фантазировать на тему оптимистического финала человеческой истории, апокатастасиса и отрицания ада, но какое отношение эти фантазии имеют к Евангелию и его пониманию Святыми Отцами? Ведь Страшным судом «грозят миру» совсем не «плохие христиане», а само Евангелие, Сам Христос, о чем ежегодно очень «творчески» напоминает «плохим христианам» православное богослужение (имеются в виду в первую очередь службы Страстной недели)[654].
Однако в брошюре К. Н. Леонтьева действительно содержится некое противоречие, непонимание которого исторически и вызвало недоразумение, связанное с критикой Ф. М. Достоевского и его последующей защитой. Можно вполне согласиться с современной исследовательницей: оценка К. Н. Леонтьевым творчества Достоевского как будто одномерна, она поражает «однообразием и бедностью», стремление судить не по духу, а по букве: «Леонтьев постоянно учит Достоевского, как нужно думать, чтобы быть правильным православным мыслителем, и как нужно писать, чтобы быть правильным православным писателем…» – Леонтьев действительно как будто утрачивает свой тонкий эстетический дар, когда речь идет о творчестве Достоевского[655].
Дело в том, что К. Н. Леонтьев не учитывал диалогического характера мысли Достоевского, того обстоятельства, что в произведениях последнего не содержится сколько-нибудь законченного учения о Царстве Божием на земле. Конечно, даже в последнем романе писателя мысль о «грядущей гармонии» рассыпана в большом количестве по разным местам (см., например, поучения старца Зосимы: ДПСС. Т. 14. С. 286), но и в самом романе эта идея присутствует в характерном «полифоническом» обрамлении, к тому же в «Дневнике писателя» Ф. М. Достоевский в одном месте прямо утверждает, что прекрасно понимает несбыточность мечты о рае, но будет все-таки его проповедовать (см.: ДПСС. Т. 25. С. 118–119, «Сон смешного человека»). Кроме того, в других местах сочинений Достоевского встречается совершенно определенная мысль о невозможности любви по заповеди Христовой на земле, из чего можно заключить о совершенно трезвом понимании писателем этой проблемы[656].
Наоборот, учению о Царстве Божием на земле вскоре действительно суждено было появиться на свет – но не у Ф. М. Достоевского, а в творениях Л. Н. Толстого, которые в 1882 г., когда брошюра Леонтьева была опубликована, не были еще даже изданы (хотя, конечно, к этому моменту многие идеи Л. Н. Толстого уже сформировались). Таким образом, нужно сделать довольно неожиданный вывод: брошюра К. Леонтьева направлена против еще не написанных книг, против некоторой тенденции, которую он очень проницательно заметил.
Не случайно, заметим еще раз, К. Н. Леонтьев поистине пророчески добавляет, что тот, кто пишет о любви «будто бы христианской», не принимая вероучительных основ христианства, есть самый обманчивый и самый опасный враг христианства, для которого Бог есть в лучшем случае «отвлеченная общая сущность», а результатом, итогом его проповеди очень часто могут быть «действия злобы и разрушения у тех из их последователей, которые завистливее, решительнее, грубее их или больше их чем-нибудь в жизни обижены»[657]. По-видимому, К. Н. Леонтьеву еще и в голову не приходит, насколько эти слова приложимы к Л. Н. Толстому уже в этом, 1882 г. В конце жизни К. Н. Леонтьеву было суждено убедиться в том, насколько проницателен был его анализ: как свидетельствует его переписка, он был прекрасно знаком с главными философскими сочинениями Л. Н. Толстого[658].
Таким образом, главная заслуга К. Н. Леонтьева заключается не в критике Ф. М. Достоевского, а в том, что он угадал актуальное направление мысли Л. Н. Толстого. Глубокая интуиция К. Н. Леонтьева проявилась в том, что он зафиксировал рождение нового явления в истории культуры. Его «большая правда» – в последовательном и настойчивом отстаивании церковного, святоотеческого понимания христианства, понимания, которое всегда противостояло и будет противостоять любым попыткам «обновления» церковной жизни по чуждым Церкви образцам. Эту правоту подчеркнул и С. И. Фудель, несмотря на то, что в целом его отношение к критике К. Н. Леонтьевым Ф. М. Достоевского было крайне негативным. К. Н. Леонтьев еще раз напомнил своим читателям две простые истины: веру «в неумираемость Церкви и неверие в победу христианства в истории. Неудаче христианской цивилизации посвящены в Евангелии три полные главы»[659].
Однако позиция К. Н. Леонтьева была уязвима в одном важном пункте: она не учитывала того колоссального дефицита миссионерски-воспитательного воздействия на общество, того вакуума авторитетной в обществе, можно сказать, практической церковности, который существовал в России. Кроме того, она не учитывала магии имени Л. Н. Толстого, того «неравновесия имен», которое имело место в диаде «Л. Н. Толстой – К. Н. Леонтьев»: первый – гениальный писатель, второй – человек умный, но неудачник. Показательно, что даже люди, которые теоретически должны были сочувствовать К. Н. Леонтьеву в критике «нового христианства» Л. Н. Толстого, фактически отреклись от него. И. С. Аксаков назвал его скорее церковником, чем христианином, а О. А. Новикова, сестра ген. А. А. Киреева, даже заявила, что Леонтьев «добрел до чертиков», причем это «отречение» тем более печально и носит характер предательства, что Новикова состояла в переписке с самим Леонтьевым, а последний даже работал над статьей о ней. Всецело положительную оценку брошюра К. Н. Леонтьева получила только у Т. И. Филиппова, который указал, что она заслуживает распространения тиражом в десятки тысяч экземпляров.
Действительно, отрицательные отзывы о брошюре Леонтьева не заставили себя ждать. В 1882–1883 гг. были опубликованы «Три речи в память Ф. М. Достоевского» В. С. Соловьева, которые, впрочем, по замечанию племянника философа, С. М. Соловьева, являлись не столько характеристикой взглядов Ф. М. Достоевского, сколько проповедью собственных идей. Тем не менее философ точно определил проблему, мучившую не только Достоевского, которого надо было оградить от нападок Леонтьева, но и Толстого: вера в грядущее Царство Божие и понимание необходимости труда и подвига для его осуществления, другими словами, выработка «высшего» положительного общественного идеала и общественной правды и осмысление пути для его достижения. И главная проблема здесь заключается именно в понимании того, что есть Царство Божие на земле, так как существует очевидное противоречие между нравственными требованиями личности и сложившимся строем общества, ощущение общественной неправды[660].
Несколько позже, уже когда ему стали известны первые отзывы по поводу его брошюры «Наши новые христиане», в первую очередь горячая защита Ф. М. Достоевского В. С. Соловьевым, К. Н. Леонтьев в своих «Тетрадях» указывал, что апология В. С. Соловьева по двум причинам была своего рода недоразумением: во-первых, сам Соловьев отчетливо понимал, что религиозная почва, на которой стоял Достоевский, была достаточно зыбкой – он «только горячо верил в существование религии и рассматривал ее в телескоп»; во-вторых, Соловьев через год после выхода книги Леонтьева совершенно отрекся от Л. Н. Толстого, «но сказать печатно, что я был дальновиднее его по отношению к духу Толстого и понял заранее, куда он пойдет, этого при искренней ко мне личной дружбе не догадался сделать»[661].
Отказался печатать текст Леонтьева о Л. Н. Толстом и Н. П. Гиляров-Платонов, который обратил внимание на его противоречивый характер. В своей статье по поводу критики К. Н. Леонтьевым рассказа Л. Н. Толстого «Чем люди живы» он указывает, что в литературе второй половины XIX в., способной воздействовать на воспитание народа, существовал вакуум, границы которого заключены между творениями нигилистов всех мастей и сторонников «преувеличенного служения букве и форме»: «Истинной духовной жизни не дает ни то, ни другое»[662].