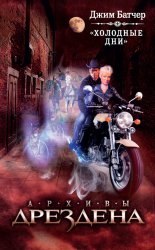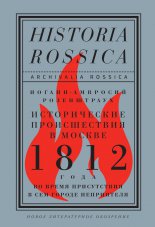Дыхание камня: Мир фильмов Андрея Звягинцева Коллектив авторов
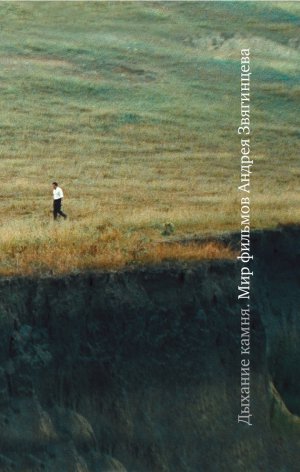
Я думала, что она человек интровертный, ищущий, с рефлексией, чуть-чуть сноб, чуть-чуть даже мизантроп. Она довольно свободна, насколько возможно. Собственно, где сама одеваюсь и где одеваются мои закомые, там и купила ей одежду. Такая простая затея. Лену Лядову одеть было проще всего.
Да? Почему?
Она, мне кажется, как личность близка образу своей героини. Что же тут сложного?
Вы вместе ходили за одеждой? Часто ли художник и актер вместе подбирают костюм?
C Леной, конечно, мы просто вместе быстренько подобрали все. Но вообще я в магазин не часто хожу вместе с актерами – это по ряду причин сложно и не всегда нужно. Стараюсь еще эскиз показать актеру, рассказать, как вижу его персонаж. Ведь он же главный в этом деле – я имею в виду, главный в образе персонажа все-таки актер, а не костюм. Если у актера какое-то противоречие с моим видением персонажа, то мы это решаем. Обсуждаем это с режиссером, я какой-то компромисс, разумеется, допускаю, потому что я не могу насиловать актера. Актеру должно быть комфортно, но целостность образа не должна нарушаться.
Насколько для тебя важна текстура вещи, ее материал?
Текстура имеет огромное значение. Она формирует изобразительный ряд очень сильно, влияет на чувственное восприятие экранного образа.
А в “Елене” у тебя был какой-то особый принцип в подборе фактуры ткани?
Ну опять же это соль/сахар по вкусу. Здесь же сочетание какой-то ее материнской сущности уютной, сочетание теплоты, “домашности” и честности с каким-то определенным статусом уже, и даже с деликатной формой “гламура”. Под “гламуром” я тут подразумеваю гладкие шелковые ткани, дающие ощущение легкого шика и праздности. Ощущение уюта традиционно дают шерсть и мягкий трикотаж.
Ты пропускаешь через себя жизнь персонажей, над костюмами которых в данный момент работаешь?
Я сильно пропускаю через себя. Начиная с рисования эскизов, это же смешно, как художники рисуют эскизы – они же рожицы всякие строят, вживаются в роль! В жизни какие-то события идут в унисон с содержанием фильмов. Конечно, пропускаю характер персонажа через себя, и даже одежду на себя примеряю.
Есть возможность представить себя то одним человеком, то другим?
Конечно, мы же всегда мерило всех вещей, начало всех начал. (Смеется.)
Мне все-таки очень важно знать: насколько большое значение лично для тебя имеет демонстрация конкретных примет современной России в “Елене”?
Я не знаю, что это такое.
Современная Россия? Но это же есть в фильме?
Да, возможно, но для меня это не до конца понятная реальность. Ну, что-то удается подметить, конечно.
Может быть, ты просто живешь не на окраине Москвы?
Нет, когда мы начали снимать эту картину, я вообще в Бибиреве жила. В точно таком же доме, как в фильме. Чем Бибирево отличается от Бирюлева? Я видела там разное: и доброе, и красивое, и уродливое. Архитектурные ансамбли там не очень хороши. А вот люди и очень приятные встречались.
Эти жизненные обстоятельства как-то повлияли на тебя при обдумывании образов?
Понимаешь, я выросла в Новосибирске. У меня внутренне противоречивая позиция. В детстве я, естественно, обжигалась, у меня были какие-то конфликты с социумом. В четвертом или пятом классе, помню, я пошла на фильм “Сталкер” в ДК им. Горького – такое красивое здание с колоннами, я ходила туда в музыкальную школу, на бальные танцы, и в том числе там был киноклуб и показывали хорошее кино: Карлоса Сауру, Тарковского, еще что-то, что могли тогда, в восьмидесятые годы, показывать, хотя эти фильмы не шли по всем кинотеатрам. Мне было одиннадцать-двенадцать лет, и я помню, что на фильме Тарковского “Сталкер” вскоре в зале остались только я и моя подруга, все остальные – и взрослые, и дети – с этого фильма просто ушли, громко улюлюкая. Стало наконец-то хорошо, когда они схлынули, и просто приятно было сидеть и смотреть, наслаждаясь изображением. Не всем необходимо искусство. Но все-таки снобизм омерзителен.
Не могу сказать, что для меня важный социальный символ – это жизнь в Бирюлеве. Думаю, там живут самые разные люди. Лично я просто не имею никакого морального права на социальный снобизм. Где я живу? К какой части социума отношусь? В гостинице в Казани, в Киргизии, в Туле, а может быть, и в Париже – там дом, где есть я, там моя сумка с вещами и мои размышления депрессивные.
Нет, я не думаю, что чем дальше от центра Москвы в глубинку, тем больше невежества и уродства. Скорее наоборот. В маленьких городах зачастую и живет самая настоящая интеллигенция.
Сам Андрей часто в интервью говорил об эсхатологическом масштабе того, что происходит с главной героиней и миром, где она живет. Получается, из этой ситуации нет выхода?
Да, страшно становится, есть ощущение последних дней, конца света. Человек беспомощен перед своими страстями, и даже доброе в нем приводит его к полной погибели. Но все-таки все идет своим чередом. Надежда есть хотя бы по определению, просвет предполагается априори, я надеюсь.
Ты имеешь в виду персонаж Катерины?
Да, возможно… Она ведь ясно видит, что происходит, имеет абсолютно адекватное представление о ситуации, хотя и беззащитна.
Если сравнить кино, которое снимает ваша творческая группа, с каким-либо направлением в истории мысли или направлением в истории искусства, то что это могло бы быть?
Я всегда думаю, что это, скорее всего, герменевтика – искусство толкования. Так мне, во всяком случае, представляется…
Чему ты научилась, работая именно в этой творческой группе и над этими фильмами? Что для себя приобрела?
От Андрея и Миши хочется научиться их беспредельному перфекционизму. Всегда хочется дотянуться до их планки. В качестве они всегда добирают максимума.
Андрей, мне кажется, никогда не останавливается на полпути в работе, работает по-настоящему и с полной самоотдачей. Он этим отличается от многих режиссеров, которые тоже талантливы, но они на каких-то этапах производства рассеиваются. А Андрей просто доходит до какой-то сути, то есть достигает максимального результата по отношению к тому, что он может сделать.
А для тебя где наступает предел перфекционизма?
Последняя точка: когда актер уже в кадре и я понимаю, что что-то не так, – я постараюсь исправить. Но зачастую уже нельзя помешать актеру в его работе, и костюм не самое главное в кино, но важное.
Как ты определяешь момент, где важно не перестараться и пора остановиться?
В этом плане, кстати, всегда легко с Андреем, потому что он выстраивает. Он ставит какие-то чистые задачи, внутри которых легко оперировать. И в том, когда пора не перестараться, я полагаюсь на него.
А Андрей Понкратов, с которым ты наиболее плотно работаешь в съемочном процессе, – каким-то опытом с ним ты обменялась?
Андрей Понкратов – такой романтик и оптимист. От него исходит удивительная вера, что все всегда получится. Великолепный художник и необыкновенный оптимист. У него какая-то внутренняя духовная мощь. Огромное значение для меня имеет совместная работа с художником по гриму Галей Пономаревой – всегда прислушиваюсь к ее мнению. И, конечно, очень утонченный Андрей Дергачев и восхитительный интеллектуал Олег Негин – я их всех люблю, они, конечно же, титаны. (Смеется.) Всегда самое лучшее время – это время, проведенное с ними в совместной работе.
Беседовала Катерина Белоглазова14 сентября 2011 года
Открытие имен
Фактор стабильности съемочной группы. Что это, по-вашему?
Наверное, талант и ответственное отношение к своему делу. Если взять историю нашей съемочной группы (три новеллы для телевидения, потом “Возвращение” и “Изгнание”), то можно сказать, что команда формировалась постепенно. Сразу найти всех, с кем пройдешь путь до конца, очень трудно. Возьмем, например, выбор оператора. Лесневский предложил мне снять три новеллы для сериала “Черная комната” и, поскольку, кроме общего названия цикла, они никак не были связаны друг с другом, я и решил, что на трех историях у меня будет три оператора: первый – мой давний приятель, с ним в свое время мы сняли немало рекламных роликов, второго я нашел чуть позже, а третьим должен был стать Михаил Кричман, которого мне порекомендовал мой старый армейский товарищ. Так распорядилась судьба, что первой мы снимали именно ту новеллу, на которую оператором я определил Мишу. После этих съемок мои прожекты о разных партнерах – операторах отпали сами собой, я решил, что и две другие новеллы буду снимать с ним. Миша очень одаренный человек. С ним приятно работать еще и потому, что его интересует не только изображение или вопрос “как”, но и вопрос “что”. Приобретением после работы над “Возвращением” я называю композитора и звукорежиссера Андрея Дергачева, художника костюмов Анну Бартули и художника по гриму Галю Пономареву. А после “Изгнания” новые обретения – это художник Андрей Понкратов, монтажер Анна Масс и сценарист Олег Негин, с которым у нас теперь появились общие замыслы. Вот так постепенно и складывается команда.
В процессе работы многое зависит и от Михаила. Как вы распределяете ваши обязанности, как советуетесь?…
Я никогда, наверное, не смогу определить, где заканчиваюсь я и начинается он. Об этом можно было бы сказать, что мы с ним люди одной группы крови. Энергия с легкостью перетекает из одного сосуда в другой, не нужно кому-то из нас долго убеждать другого в чем-то. Чем меньше прилагаешь подобных усилий, тем больше хочется идти рядом.
Кто-то предлагает, вы вместе это обсуждаете, или идеи приходят одновременно, и вы говорите: “Это оно”?..
Трудно, если вообще возможно, передать на словах движение творческого процесса. Это живая ткань и в меньшей степени технология, которой можно было бы поделиться. Это просто согласованное параллельное движение всех участников к одной цели – реализации замысла.
Если бывают разногласия, есть ли у вас жесткое решение, что мы будем делать только так?
Не припомню разногласий подобного рода: “мы будем снимать это так и только так”, – такого никогда не было. Я даю своим друзьям полную свободу, как мне кажется. И, думаю, это единственно правильное условие совместного творчества, человек должен отдать всё, что в нем есть, а такое возможно только при условии свободного творчества. Вопрос разногласий решается как бы на берегу. То есть, как я уже сказал, приобретения происходят по мере движения, постепенно. Люди находят друг друга на берегу, а потом “плывут” вместе в одном направлении. Какие разногласия, если вы смотрите в одну и ту же сторону?
Но эстетика ваших картин очень стройна…
У Кесьлевского есть такая мысль: “Неважно, кто именно предложил то или иное решение, оно может прийти в голову даже уборщице на съемочной площадке, но за все принятые решения отвечает режиссер”. Действительно, быть этому или не быть, решает, в конечном счете, именно он. Есть, конечно, предварительный уговор, и совместное понимание тоже есть, и вот для того, чтобы они появились, чтобы говорить на одном языке, нужны визуальные примеры, потому что нельзя все превратить в слова. Мы называем это “референсами”, примерами, вдохновляющими нас. Смотрим альбомы по фотографии, живописи и решаем: “Вот это близко по атмосфере, композиции, освещению или колориту к нашей истории”. Кто-нибудь говорит: “А если это? Посмотри на Эндрю Уайта”. – “Ну да, это то, что нам нужно”. Так в “Изгнании” мы от Эдварда Хоппера двигались к Эндрю Уайту, и это был просто живой диалог, разговор, иногда по ночам, по телефону, или за бутылкой вина. Впрочем, я говорю какие-то простые и, по-моему, общие для многих вещи и, разумеется, это грубый пересказ того, как все это происходит, но и вправду, поверьте, это можно только прожить, передать это изустно совершенно невозможно. По крайней мере, я бы не взялся за такую задачу. Конечно, замысел, который вырастает как на дрожжах, нуждается в оформлении, и вот форма должна быть ювелирной и абсолютно отточенной; но когда творят ее несколько человек, в цельности формы и заключена одна из трудностей работы в кино. Чтобы не вышло, как в басне про лебедя, рака и щуку, необходимо целое держать всегда под контролем, нельзя позволять замыслу расползаться и ускользать из-под твоего внимания. Соблазнов всегда много, идеи влетают в общее пространство замысла с необычайной легкостью, и нужно, соблюдая меру, впускать только взвешенное, только тщательно обдуманное. И, если даже привнесенное извне кажется тебе прекрасным само по себе, оставлять это, только если убежден в необходимости этого именно здесь. Действовать, исходя из принципа “необходимое и достаточное”, ничего избыточного, ничего случайного. Принцип некой аскезы. Возможно, чрезмерной и, конечно же, не во всех случаях применимой: в случае с “Изгнанием” это было именно так, и кто знает, будет ли это уместно в работе над следующим фильмом? Возможно, там будут совершенно иные задачи…
Я никогда не смогу ответить на вопрос: кто, когда, где, и что именно предложил, придумал, – и, думаю, никто этого не сможет вспомнить. Некоторые визуальные решения вообще, попросту говоря, являются инженерными решениями – так была снята панорама над ручьем в “Изгнании” и, кстати, идея этого решения принадлежит Михаилу. Видите, если покопаться, кое-что, оказывается, можно вспомнить. Мне пришла такая мысль, что в финале, после смерти Веры, тот пересохший ручей, что мы видим в начале фильма, вдруг оживает. Меня так захватил этот образ, что не было ни малейших сомнений в его необходимости. И мне казалось очень важным в самой идее “ожившего ручья”, что весь этот эпизод должен был являть собой только один план: от кроны дерева на холме камере нужно было спуститься вниз по ручью, попасть под дом, под его свайные конструкции, разглядеть там позабытую домашнюю утварь, а затем в небольшой лужице перед домом, в отражении, увидеть стену дома со ставнями. Согласитесь, без компьютерной графики по нынешним временам такая задача представляется нереальной, но, как оказалось, все возможно. Миша предложил то непростое инженерное решение, которое избавило нас от компьютерных технологий, и мы сумели снять этот план без последующего вмешательства в изображение… Всё это такое варево, кухня, каждый привносит свое, и из этого сочетания рождается нечто новое, нечто такое, что по какой-то неведомой причине подчинено общему замыслу.
Мистическая концепция в творчестве. Ваше отношение к ней?
Я признаю, что это факт, с которым нет смысла спорить, хотя бы потому, что это субъективный аспект творчества. Марина Цветаева, например, вся из этого соткана, она говорит: “Не я пишу стихи, а кто-то мною пишет, ведет моей рукой”. И не она одна свидетельствует об этом. Надо быть о себе слишком высокого мнения, дабы полагать, что все, выходящее из-под твоего пера, целиком твоя заслуга.
А свой личный опыт?
Что вы называете личным опытом? Происшествие, случай, рассказ из жизни?.. Александр Мишарин, соавтор сценария “Зеркало”, как-то в интервью сказал: “Из всех эпизодов фильма ровно половина – из жизни Андрея, другая половина – из моей. Никому никогда не открою секрет, какие именно эпизоды – из чьей жизни”. Я всегда был уверен, что этот фильм являет собой автобиографические фрагменты из жизни Тарковского, и сначала сильно откровению Мишарина удивился. Но позже понял, что здесь личный опыт неприметно превращается в общую память. Вспомните письма очень разных людей со всей страны, которые писали Тарковскому после просмотра “Зеркала”: “Откуда вы всё знаете про мою жизнь?” Личный опыт необходим, чтобы искренне рассказывать истории, которые являются общими.
Ваше отношение к Ветхому Завету, к Новому Завету?
Что тут скажешь? Абсолютная бездна.
Как вы относитесь к принудительному изучению Библии в школах?
Я думаю, такие дисциплины по определению должны быть дисциплинами по выбору. Но, согласитесь, чтобы подобный выбор был возможен, необходимо иметь критическое мышление, возможность диалога с преподавателем. Дети еще слишком малы, чтобы самостоятельно принимать подобные решения. Это очень тонкая тема, но, по-моему, ни государство, ни церковь не имеют права решать этот вопрос за детей. В школе следует преподавать объективные знания. С религиозными же идеями может разобраться только зрелый человек. Человека незрелого подобные идеи могут превратить в зомбированное существо.
Как вы относитесь к концепции художника-миссионера?
Что-то одно: или художник, или миссионер. Если, конечно, вы разумеете под этим понятием мессианское начало. Если же говорить о миссии художника, то, как мне кажется, дело обстоит следующим образом. Если художник не миссионер, тогда он ремесленник, зарабатывающий себе на хлеб художественным промыслом. Я не порицаю сейчас ремесло художника как таковое: мастерство воспроизведения шаблона – великая вещь. Может быть, чуть менее великая, чем создание самого шаблона… Другое дело, создание “не шаблонов” – вещей, которые массово воспроизводить абсолютно бессмысленно, они невоспроизводимы в принципе, не применимы в быту, но к ним, так сказать, всегда можно припасть, приложив некоторые усилия, доступ к ним всегда открыт, но не через тираж, а через культ.
В ваших интервью вы говорили, что не любите съемки с массовкой…
“Не люблю” – неточное слово. Скорее, опасаюсь. Пока еще мне не приходилось работать с массовкой. Возможно, это предубеждение, но я боюсь, что это просто статисты, которые, грубо говоря, “бессмысленно кричат или машут руками или переходят из пункта А в пункт Б”. Бльшая часть из них “не работает”, а лишь зарабатывает. Это люди, которые пришли на площадку ни в чем особенно не заинтересованные, отстояли в положенном месте…Ему перерыв объявили, он открыл термосок, налил себе чайку, книжечку взял и почитывает, его позовут – он обратно все убрал в рюкзачок и пошел на зов, то есть, привели его сюда деньги, а вообще-то – сам он не здесь. Вдохновить их, убедить, донести до них то состояние, в котором все они должны пребывать, – в кадре они или не в кадре – это очень непросто. Как это, что это такое – сила воздействия на 15, 30, 100 человек? Гипноз? Не знаю. Но вскоре предстоит узнать. Придется найти в себе эту силу.
Работа с актером. Вы позволяете актерам импровизировать, отпускаете что-то на актерский прием?
Актерский прием? Это на совести актера. Он неизбежно будет пользоваться какими-то приемами. В бытность мою актером, когда я снимался в одном сериале, мы ехали на автобусе от гостиницы до места съемок, и я сел рядом с режиссером. Сел и говорю: “Помните ту сцену, где мой герой стоит напротив героини, и делает так-то, в то время, когда она говорит ему то-то? Может, ему отреагировать так?..” – и начинаю ему рассказывать свою партитуру. Это можно назвать приемом или как-то еще, но я понимаю, чтобы быть готовым к сцене, мне нужно прибегнуть к какой-то заготовке. Режиссер поворачивает ко мне свое печальное лицо (до этого он смотрел в окно) и обреченно так произносит: “Андрей, в этом фильме у меня 30 главных героев”. И я тогда понял: когда у тебя только главных аж 30 персонажей, ты вообще можешь полагаться исключительно на актеров с их приемами и приемчиками, когда же у тебя их значительно меньше, ты можешь сосредоточиться и на деталях. Я стараюсь убедиться в правильности, в точности каждого жеста, каждого нюанса, вплоть до вздоха, еще на репетиции, чтобы, уже снимая, подсказать, что следует поправить. И, мне кажется, я вижу, где человек фальшивит. Я не знаю, что это за шкала, она где-то здесь (показывает на область сердца), понимаю – зашкаливает, “недодает” или “перебирает”, вижу – фальшивит, и тогда, насколько это вообще возможно, пытаюсь это исправить. Но управлять актером я не могу. Поправлять, но не управлять.
А сами актеру показываете?
Случается, я соскакиваю на это. Просто иногда легче показать, чем рассказать. Показ – это волна смысла, но не вербального – чистая энергия. Поэтому показ, я считаю, вещь правильная: актеры, понимая смысл показанного, усваивают, что нужно сделать, а не как, но делают это, конечно же, по-своему. Так с Ванькой было, с Володей Гариным тоже… вообще на “Возвращении” все было легко. С Костей мы сразу поняли друг друга. Я “понял” его еще в 1992-м году, когда впервые увидел в театре Клима в спектакле по гоголевскому “Ревизору”. Спустя 10 лет я вспомнил об этом актере, потому что, как мне казалось, когда я смотрел на него тогда, в 92-м, я понимал, как он устроен, как он это делает, какими средствами, потому что все это мне самому было очень близко. В 2002-м году я уже не помнил ни имени его, ни фамилии. Я подумал: что же с ним сталось, какой он сейчас? Когда я видел его у Клима, он был с длинной косой, черноволосый, а когда я встретил его в 2002-ом, спустя 10 лет, это был уже коротко стриженый мужчина с седыми волосами. Входит он, и я вдруг вижу, – передо мной тот самый человек, который мне и нужен теперь.
Лавроненко – идеал мужественности в вашем понимании?
У меня нет идеала мужественности. По крайней мере, воплощенного так, как вы это видите в “Возвращении” или “Изгнании”. Более того, могу сказать, что в жизни Костя не такой уверенный или брутальный человек, в нем много сомнений, он человек мягкий, очень деликатный, но роль определяет: он должен быть таким, он не может быть мягким, он должен быть камнем. В случае с “Возвращением” он должен быть суровым отцом, Ветхим Отцом, он должен быть таким ввиду того, что это определено сценарием. (Сценарий фильма “Возвращение” был опубликован в 2004 году в альманахе “Киносценарии” и назывался “Ты”). Одна актриса, которая пробовалась на роль Веры в “Изгнании”, спросила однажды (а она уже вошла в тему, мы репетировали): “Ну, как же так, почему она это делает? Он же такой хороший, он же все делает по дому – дрова колет, воду носит, ребенка моет, все же хорошо…” (улыбается) Не знаю, почему я это сейчас вспомнил.
Что же касается идеала, то это относится равно как к мужчинам, так и к женщинам – человек, ищущий смысла в своем существовании, не алчущий от жизни главным образом теплого местечка у кормушки, а отдающий свои силы делу, которое считает важным не только для себя, но и для других.
Герои ваших фильмов существуют не как определенные индивидуальные образы, а как носители и выразители идей. Мы видим некие идеалы?
Ну, с идеалами тут сложно дело обстоит, а вот с носителями идей… То, о чем вы говорите, присутствует в “Изгнании” – и гораздо в большей степени, чем, скажем, в “Возвращении”, – и здесь был сознательный шаг на эту территорию. Понимаете, чем больше присутствует в человеке человеческое, то есть индивидуальное, частное… Актеры очень любят это дело – “пусть, например, мой герой будет нервный, и будет ломать карандаш”, – то есть они ищут какие-то детали, которые помогают им быть несколько иными, чем они были прежде или что-то такое найти для создания “характера”, что сделало бы их заметными на общем фоне, но эти детали, вместе с тем, как бы сводят персонажа к индивидуальности, а значит к какому-то бытовому решению. “Во-о-от такой, во-вот частный че-человек, во-вот так он разговаривает…” Зритель смотрит и думает: как хорошо актер с этим справился! Так правдоподобно заикается! Талант! Но все это относится к области эстетического, что ли, или лучше будет сказать, внешнего, часто не имеющего отношения к общему делу, к главному… Так вот, чем больше в исполнителе подобного тому, что я здесь описываю, – индивидуального, частного, – тем ближе произведение искусства к драме характеров, к бытовым коллизиям, но не к трагедии и не к ее обобщающей силе. Вообще говоря, этот стереотип – “создание характера” – перекочевал в кино из театра. Многим даже в голову не приходит, что можно идти каким-то другим путем. И зритель привык к такому использованию актера в кино, он уже даже недоволен, когда актер, по его мнению, “ничего не сыграл” и, “не создав новый образ”, ничем не удивил его.
Говорят иногда: “Фильм – дрянь, но там прекрасный актер! Он так достоверно сыграл!” Скажите, как можно сыграть достоверно в том, в чем изначально нет достоверности? Все части целого неизбежно связаны, неизбежно бросают отсвет или тень на все другие части. Это как если бы про симфонический концерт написали: “Флейта прекрасна, а все остальное ужасно”. Все или гармонично, ии лишено гармонии, это же единое целое, а флейта здесь просто деталь, это нужно понимать… А когда, не чувствуя замысла, совершенно сторонясь идей, говорят: “Фильм – бездарный, но там такие замечательные актерские работы!”… – для меня подобные высказывания служат лишь свидетельством узости, слепоты и непонимания того, что нельзя эти вещи разъять.
Но иной раз случается такое, что актерская игра настолько кажется тебе недостоверной, что на твоих глазах здание, выстроенное режиссером, рушится.
Скажите, по-вашему, “достоверны” ли актеры в фильмах Брессона? Или – легко ли поверить в “правдивое” существование актеров в последних фильмах Тарковского?
На эти два вопроса лично я отвечаю – нет, потому что мир фильмов этих режиссеров – это какой-то отдельный мир, совершенно особый, непохожий на тот, что нас окружает в повседневности. Но этот придуманный мир абсолютно достоверен, поскольку сообщает нам очень важные вещи о нас самих. А так называемая “реалистичность” – это пустое требование обывателя, который уже даже словечко нашел для обозначения данного предмета – “жизненный фильм”. В актерском ремесле “мимесис” – или жизнеподобие, реалистичность – это лишь первая ступень к искусству перевоплощения, как рисунок для живописца, но ее нужно преодолеть и двинуться навстречу иному качеству игры. В искусстве следует быть верным принципу подражания миру тонкому, чутко следовать невидимым ритмам. По-моему, нет нужды во внешнем перевоплощении в различные характеры, это удел слабых душ, чутких до поклонения и восторгов толпы, необходимо перевоплощение в иное свойство человеческой природы. Об этих материях очень трудно говорить, но посмотрите на Жанну Моро или, скажем, на Изабель Юппер. В каждой из них в отдельности будто бы все женщины собрались в тайный союз. Словно бы их тело стало сосудом, вмещающим в себя тайну о человеке вообще. И это не тот самый пресловутый “характер”, который “удалось сыграть”, это струение редких свойств личности, тот удивительный способ игры, который обходится малым, но от которого трудно отвести взгляд. Ведь их лица – это почти маски. Тут внешнее становится лишь формой, в которую влито невидимое. Тут именно в молчании человеческого облика таится магия, а вовсе не в бряцании человеческого характера, всегда преходящего. Человек – Чело и Век. Вечное лицо. Вечный лик, а не рожа с ухмылкой или даже со слезами.
Поэтому – не только поэтому, но еще и поэтому – чем меньше в актере индивидуального, тем легче приближается он именно к воплощению идеи. Для меня центральной фигурой в идейном построении “Изгнания” была фигура Алекса, разбитая словно бы на три возможности: один путь – это его брат Марк, другой – его друг Роберт, а третий – тот, что в середине, – сам Алекс, как персонаж из сказки, стоящий у камня на распутье. По некоторым отзывам (например, Игоря Манцова) ясно, что это все-таки возможно разглядеть. До прочтения его рецензии, признаюсь, я был в унынии, мне казалось, я иду не туда, потому что, как мне представлялось, я настолько все открыл, сделал таким ясным, даже выпуклым, а на поверку выходило, что только мне самому что-то понятно, остальные же в полном недоумении или разочаровании. Теперь я знаю, что если есть хоть один человек, который попытался разгадать замысел нашего фильма и преуспеть в этом, – значит это возможно, значит маршрут избран верно.
Я помню, как на бумаге рисовал эту модель, когда мы сидели за сценарием вдвоем с Олегом Негиным: в середине есть человек, – это история одного человека, – и вокруг него духи, все это духи – духи верхнего мира, духи нижнего мира и человек, расщепленный натрое (кажется, Бахтинская идея: братья Карамазовы – это одно лицо, это не братья по крови). У меня было большое искушение по-другому назвать главного героя “Изгнания”, хотя и данное ему имя прекрасно здесь работает: Алекс, Александр – “защитник людей”. Защитник, который изменил собственному имени и стал Разрушителем, человек, который потерял сам себя. Но есть еще одно имя, которое подошло бы герою, и я долго мучился с этим выбором. Имя это – Глеб. Древнегерманское имя, означающее “поставленный пред Богом”. Для меня Алекс – фигура, поступком Веры поставленная на авансцену для рассмотрения; и вот дальше все эти миры и духи – и помогающие ему, и мешающие ему, и вверх, и вниз тянущие его, – они все становятся участниками этого ристалища, этой битвы человека с самим собой (за себя самого), этого выбора на глазах у всех. И Вера глядит в его распахнутую душу, а он с неизбежностью раскрывается, потому что одна из идей примерно такова – человек может прожить длинную жизнь, говорить какие угодно красивые или “искренние” слова, но только когда он совершает поступок, только тогда он называет себя по имени, потому что сознание реализует себя именно в действии, оно попросту в этот самый момент и обнаруживает подлинную свою сущность. Как утверждал Мераб Мамардашвили: “Человек – это усилие быть человеком”. И в этом смысле Вера делает так, что только в такой парадоксальной ситуации Алекс сумеет увидеть сам, кто он есть. Он (Алекс), сперва не вполне осознавая того, действует, исходя из того ресурса, что ему отпущен его нравственным опытом. И только такое – трагическое и страшное – испытание помогает ему оказаться у самого себя на рассмотрении. И как этого можно было не разглядеть, не понимаю.
Насколько важно для вас восприятие ваших фильмов критикой?
Я вам скажу так… Вот смотрите. На сегодняшний день сколько у нас в стране журналов о кино? Я имею в виду фундаментальных. Это “Сеанс”, “Искусство кино”, “Киноведческие записки” и, наверное, “Киносценарии”. Других я не знаю. Я отсылаю главному редактору одного из них статью. Говорю ему, что мне важно, чтоб она была опубликована…
А что вы ему отослали?
Статью Васильева “Препарат профессора Гибберна”. Если не вдаваться в детали, редактор ответил: “Нет”. Он сказал, мол, это все интересно, конечно, но, увы, – “не наш формат”. Разумеется, это просто уловка. Отговорка. Ну, как эту статью можно было не опубликовать? Где ж еще ее публиковать? В журнале “Караван историй”? Издания, указанные выше, – единственная трибуна, на которую я могу рассчитывать. Тем более что я, как автор фильма, просто нуждаюсь в этом. Не в личном каком-то оправдании, но в некоем голосе, который мог бы подсказать какие-то темы, которые автор озвучивать не должен. Подсказать, чтобы зрители поняли что-то еще сверх того, что им ясно и без того. По сути, в этой трибуне мне отказали. Притом что мне казалось, мы дружны.
Послушайте, вам грех жаловаться, очень многим зрителям понравилось ваше “Изгнание”. Я тоже из их числа. Что же касается печатных изданий, помню, когда вышел фильм “Возвращение”, в “Искусстве кино” были напечатаны три статьи, на мой взгляд, вполне положительные.
Да, я их видел. Но дело-то не в положительности. А в степени понимания. В степени подробности анализа. Я чувствую лишь одну дыру, в которую все проваливается. Что ты ни делаешь, все проваливается в какую-то вату безразличия и бездумности, в какой-то вакуум непонимания или негативной рефлексии.
Олег Негин, один из авторов сценария фильма “Изгнание”, был на самом обычном просмотре, когда картина уже вышла в прокат, и после сказал: “Я вышел из зала счастливый. Я видел лица людей, которые досидели до конца титров”. То есть, – я должен это пояснить, – незначительная часть зала, по обыкновению, встала и двинулась к выходу вместе с началом финальных титров, а другая – осталась на своих местах, и еще сидела перед экраном до окончания всех титров. А надо сказать, это довольно долго – ровно 7(!) минут. Так что я, разумеется, знаю, что есть зрители, полюбившие фильм. И знаю, что их немало. Но я говорю не о них или о вас лично, не об отдельных людях, которые посылают друзьям SMS-ки вроде той, что мне переслал один знакомый парижанин: “После этого фильма хочется жить и любить”. Я, конечно же, имел в виду кинокритику.
Существует ли проблема адекватной критики?
Есть одна алхимическая притча, смысл которой таков. Солнце подобно рассказчику. Солнце – это речь. Земля – это слушатель. Луна – подобна толкователю, она отражет свет солнца. Произвол Луны подобен затмению. Когда Луна становится на место Солнца, она начинает транслировать ночь. Притча эта вполне уместна в этой части нашего с вами разговора. Критик вторичен, ибо без предмета искусства нет критики. Критик не должен подменять собою “речь”. Это иное служение. Помните пушкинское определение о суждении о произведении по его законам? То есть, как минимум, для начала, разобраться в законах, по которым строится это здание, а уже потом судить, хорошо ли оно выстроено. Это не: “вот, я так вижу, и потому так говорю”. Это: “сначала я должен погрузиться в этот кинотекст. Если я не проникнут им, я не имею права говорить”.
А как же индивидуальное восприятие?
Индивидуальное восприятие – это зритель.
Он не может передавать свой опыт другим?
Он – может и, притом, в каких угодно выражениях. Критик – не имеет права, потому что у него огромная аудитория, а не беседа с соседом по лестничной клетке. Критик имеет право на публичное суждение, только если он проделал хотя бы часть той работы, которую сделал создатель произведения. Мне кажется, это справедливо. Возможно, это слишком строгое требование, особенно в наше время, где нет места строгим требованиям, а жаль…
Чаще критикующий занят собой, а предмет, о котором он ведет речь, лишь отправная точка его рассуждений. Один дельный человек заметил: “Не только мы смотрим фильмы, но и фильмы смотрят нас”. На мой взгляд, это глубокое высказывание… Вот, собственно, примерно такова моя позиция по отношению к значительной части нынешней критики. К сожалению, отсутствует какая-то общая культура ведения диалога и с автором, и с читателем. Те, кто призваны быть посредниками между зрителем и автором, заняты каким-то своим делом, далеким от задач просвещения, “толкования”: у издателя царь – тираж, у рецензента – спецэффект. Они едины в своих устремлениях. В результате царит поверхностное суждение, облаченное в цинизм и иронию. Главная забота – форма собственного текста, а не его предмет. Утрачена привычка исследовать, понимать, открывать новое, сочувствовать, служить тексту другого, а не своему собственному. Зачем? Главное, чтобы слова были изящно сложены в едкие формулировки. Критик призван быть “толкователем”, он не может становиться между “речью” и “слушателем”, такова его достойнейшая роль. Сократ говорит: “Поэт должен создавать новые мифы, а не пересказывать старые”. И уж если сложилось так, что ты не создатель, а толкователь этих мифов, ну так и будь им, толкователем, а не трещоткой на рынке. Видите, я очень резко высказываюсь в отношении этой темы, но, как заметил Джон Осборн: “Спрашивать у художника о критиках, все равно что спрашивать у фонарного столба о собаках”.
Современное кино, критика, литература – как я их вижу – пропагандируют быстро создаваемое чудо, некий фаст-фуд. Fast emotion.
Вам трудно это представить, поскольку вы молодые люди, но все же попробуйте вообразить себе, как это происходило раньше, в 80-е годы, скажем. Человек пришел в кинозал, потому что никак иначе нельзя было увидеть фильм. Никак иначе. Посмотрел картину несколько раз, пришел домой, подумал-поразмыслил, и на печатной машинке – чух-чух-чух! – не настрочил, а напечатал под копирку несколько экземпляров рецензии. Сложил в портфель и поехал на троллейбусе или на метро в издательство. Там редактор поправил, корректор замечания сделал; автор прошелся пешочком домой, на обратной дороге подумал еще, переписал, переделал, добавил; на все это было у него время, было время подумать, взвесить свои слова, взвесить свою ответственность. Сейчас же как это происходит? Быстро “промотал” дома на DVD, настрочил что-то на скорую руку, отправил по e-mail или “повесил на стене” в блоге и все – опубликовано. Сегодня скорость в передаче информации в такой цене, что едва ли не это имеет первостепенное значение.
Были фильмы, которые критика в массе своей посчитала высоко духовными, но они сделаны по тем же принципам – все быстро, на потребу публике… Ваше отношение к ним?
Во время просмотра иных картин в который раз убеждаешься в простой мысли, что показ куполов, солнцем осиянных, молитв и храмов – вовсе не является основанием для того, чтобы фильм говорил о том самом предмете. И очень многие потребляют этот паллиатив, не сознавая, что невидимое заключено не в буквальной, внешней репрезентации предметов культа. Вообще, это проблема многих, считающих себя истинно верующими. К сожалению, в значительном своем числе они попросту язычники, жаждущие быстрого чуда. Поставил свечку, попросил, – назавтра утром получил. Как у аптекаря купить таблетку – авось поможет.
Есть, например, картина Сэма Мендеса “Красота по-американски”. Рецензии на нее были беспомощны. Никто не отметил, что важной своей частью картина обращена к религиозному чувству зрителя и, чтобы быть верно понятым, хочу сказать, что я говорю в контексте сверхчувственного, а не в каком-то конфессиональном смысле. Все, что происходит в этом фильме, – это модель пробуждения человека. Он приходит к откровению через самые неожиданные вещи. Через “похоть очей”. Церковник бы меня сейчас одернул. Но герой возжелал эту девочку – и через это обрел пробуждение: сперва он попросту занялся плотью, помните, спортзал, штанга, но вскоре осознал и собственное положение. А помните эту сцену, когда он отказывается от нее, от этой девочки, предложившей ему саму себя? И позже он смотрит на фотографию своей семьи, на лицо счастливой прежде жены, теперь запрограммированной на успех, на пресловутую американскую мечту. Он видит это и улыбается. Но что это за улыбка? Возможно, это улыбка, подобная той последней улыбке Пушкина, о которой Жуковский писал: в последний миг он (Пушкин) принял этот мир, – примерно так об этом вспоминает Жуковский. И герой Кевина Спейси в своем финале понимает все, он “принимает этот мир”. Именно в это мгновение в него и стреляют, то есть кровь обагряет это понимание… И позже паренек, который склоняется над его телом и видит, с каким знанием тот ушел, тоже улыбается – это же вестник, человек иного мира. Там много разных подобных нюансов. А помните сцену “соблазнения”? Когда отец паренька приходит, целует героя Спейси? У меня была прямо-таки битва, а не просто дискуссия с одним моим другом, я доказывал, что это не гомосексуальная сцена, но что здесь, по сути дела, речь идет о жертве. Отец отдает себя, как бы говоря: бери меня, но не тронь сына. Важно не прямое, бытовое истолкование. А они замечают только латентный гомосексуализм и прочие поверхностные вещи.
Проблема еще в понимании и ожидании публики. У меня друг писал обзорную статью об американских фильмах и разобрал в этом ключе некоторые сцены из “Красоты по-американски”. И главный редактор сказал: “Мужик, у людей крыша поедет! Это же нормальный голливудский фильм, просто там финал странный”.
Я скажу так. Проходит жизнь. Завтра мы все умрем. И вы оглянетесь на пороге и зададите себе простой вопрос: “Что я, собственно, сделал? Какой-то дядька мне говорил: «Это не для нас». И я его слушал? Исполнял его волю? Выходит, я был обыкновенным рабом на чужих галерах?” Беги от этого издателя! Делай то, что считаешь необходимым и важным. Создай свое издание. И так должно делаться любое дело. Думающий человек служит просвещению, а не главному редактору. Вы говорите про зрителя, говорите, нужно что-то ему объяснять. Но дело в том, что наша жизнь протекает в житейских бытовых неурядицах или редких радостях. Вероятно, потому мы и не замечаем, как постоянно соприкасаемся с невидимым. Оно всегда рядом, здесь, и даже прямо в нас самих. Если я увидел фильм “Дитя” братьев Дарденн про мальчишку-вора, который продает собственного ребенка, но потом раскаивается, и думаю – ну, социальный фильм про то, как непросто живется малоимущим и на какие неблаговидные поступки толкает людей нужда, – выходит, я главного не понимаю. Я не понимаю, что этот фильм про меня. И тогда что же я, как критик, например, смогу объяснить самому обыкновенному зрителю, если и сам отношусь к искусству как потребитель, как заурядный мещанин, который заучил эту пустую мантру: “не мы такие, жизнь такая”?..
Можно перевести в другую плоскость наш разговор? Есть фильмы, которые представляют идеи в открытом виде, как ваше “Изгнание”. Вот это мир идей по платоновскому Сократу. А есть мир вещей – это “Красота по-американски”. Может быть, лучше проявлять идеи через вещественное – тогда они войдут в людей незаметно, и люди примут их более…
Вы хотите сказать, что в “Изгнании” – мир идей, а у Мендеса – мир вещей? Что ж, это интересно. А давайте не то чтобы переведем наш разговор в другую плоскость, а прямо-таки застынем на некой грани. Так вот, никакие идеи в людей в кинозале не входят. И дело тут вовсе не в “идейном” и “вещественном” в фильмах. Дело в том, что эти “идеи” и “вещи” уже находятся в зрителе. Только в одном они бодрствуют и радостно откликаются на голос собрата, а в другом спят: в ком-то – чутким сном, а значит, могут вот-вот пробудиться, в ком-то – крепким, ладно, и до этого, глядишь, достучимся, а в ком-то, увы, беспробудным. Нет никакого мира “идей” в одном фильме и мира “вещей” – в другом. Фильм – это ваше воспоминание о собственном мире, о его уголках и закоулках. Каждый созерцает на экране свое богатство или нищету. Как говорится, нечего на зеркало пенять. Принято считать, что искусство – зеркало жизни. Только почему-то забывают добавлять, какой именно жизни (или не знают попросту, не помнят?..) – внутренней жизни, конечно. Внутренней.
Но все же есть язык, понятный каждому без исключения, к примеру, язык “Страстей Христовых”. Для многих этот фильм стал откровением. Были случаи, когда преступник, покаявшись, приходил с повинной, посмотрев “Страсти Христовы”. Фильм очень хорошо воздействовал на зрителей.
Мы же, надеюсь, сейчас не решаем с вами, как лучше воздействовать на зрителей. Вопрос ведь в другом состоит: нельзя просто взять и показать что-то, нельзя это продемонстрировать, словно какой-то плоский предмет, нужно это явить. А это совсем иная работа. Образ не должен быть “предъявлен на экране”, но должен быть устроен так, чтобы “раскрываться в сознании зрителя”. Знаете, “предъявить”, “напоказывать” можно такого… А нужно пытаться создавать такие образы, которые невидимо работают в нас, и это всегда трудный путь.
Есть третий путь – “Фонтан” Даррена Аронофски. Фильм был очень хорошо воспринят публикой, но даже самые проницательные молодые люди обычно говорили просто “клевый фильм”. Они не поняли ничего из того, что там было.
Прямо скажу, не нравится мне этот фильм. Именно в силу прозрачности его замысла. Меня-то он как раз именно тем и раздражал, что все в нем предельно понятно, конструкция его торчит во все стороны своей ничем не прикрытой символичностью. В нем будто совсем нет тайны, притом что все очень таинственно. Все там названо своими именами и впрямую. Я не люблю эту картину.
Вам не кажется, что в “Фонтане” именно на уровне конструкции очень жесткой и практически совершенной, сочетающей (на взгляд обычного зрителя) три временных пласта, и представлен мир идей?
Я сейчас вспомнил какие-то кадры из этой картины, и мне кажется, что это вполне соотносится с некоторыми элементами фильма “Страсти Христовы”. Вот смотрите, что получается. Если автор пытается говорить о невидимом, то это должна быть сложная, тонкая, поистине ювелирная и ответственная работа, потому что иначе может случиться так, что результат с легкостью превратится в пошлость. Возможно, это слишком сильное определение и довольно грубое, но, на мой взгляд, это примерно то, что и происходит в фильмах, о которых мы сейчас говорим. Есть вещи, которые нельзя отдавать на откуп грубой материи. Смотрите. Иуда у Мела Гибсона. После предательства он сидит возле зловонного стока городских отходов, почти в подземелье. Вверху ведут связанного Христа, его бьют, он падает и повисает на цепях, и тут его видит Иуда, их взгляды встречаются. Помните этот эпизод? А за спиной Иуды сточная канава, почти труба. И тут камера наезжает на его лицо, и становится ясно, что он чувствует некий ужас, исходящий из недр этой трубы. И вдруг из этой черной дыры вырывается… монстр компьютерный: “Ууах!” По-моему, это именно пшло, хотя бы потому, что зритель и без того понимает, чт с Иудой в настоящий момент может происходить. Зритель знает, кто такой Иуда, что у него сейчас в душе ад, и чем он закончит потом – тоже знает. И вовсе не потому, что любой зритель – “культурный человек”, а потому, что это “общее место”. Всем известный факт. В наше время даже где-нибудь в далекой дикой Африке на реке Лимпопо, уверен, знают эту историю чуть ли не наизусть, чего уж говорить о так называемом “цивилизованном мире”. Из недоверия воображению зрителя и его самостоятельной интеллектуальной работе произрастают такие решения, возможно. А когда мне показывают ворона, клюющего глаз, или каплю, падающую с небес… Я понимаю, что капля эта – слеза Бога, никак не меньше… Это называется – потрафить толпе. Ух! Ах! Ой-ой-ой! Люди полагают, что ад – это черти такие, а Господь Бог – старик с седой бородой, льющий слезы размером с ведро. Может, кто из преступников действительно и пришел с повинной после просмотра этого фильма, но только не я. Надеюсь, вы понимаете, о чем я?
Это лубок.
Лубок? Да, именно так, это грубая материя. Чудеса в картинках. Как миссионерские брошюрки “Иисус любит тебя”, этакое охотничье снаряжение для ловцов человеческих душ. В вагоне метро одного моего приятеля спросили: “Хотите поговорить о Боге?” Он ответил: “С вами? Нет”.
Невидимое невозможно предъявить или сделать видимым, но его можно явить посредством видимого. Как сказал Робер Брессон: “Рябь на поверхности воды указывает на наличие ветра”. Невидимое следует являть. Это сродни литургии – всякий раз, изо дня в день, из века в век, как бы ни казалось это трудным, рождать это событие заново, а не обозначать его механическим способом. Брессон мог творить подобные чудеса через самые простые вещи. Например, через документ. Он берет стенограмму допроса Жанны д’Арк, экранизирует ее слово в слово, а я смотрю и понимаю то, что ни из каких книг не пойму. Здесь явлено тайное, тонкое, здесь от невидимого некуда деться. Он как никто умел это делать. Любой его фильм возьмите… “Приговоренный к смерти бежал”. Совершенно гениальный фильм. Там, действительно, дух дышит, где хочет. Ты буквально насыщаешься идеей о том, что человек – не пустой сосуд, не детерминированное, аморфное существо, с которым можно сделать все что угодно, и что не “бытие определяет его сознание”, но что человек обладает огромной духовной силой творить вокруг себя новое, что в сущности он всесилен, что он создан совершенным, что он может все. Фильм этот о пробуждении человека к свободе. О том, что человек в силах вырваться из любого плена, если в нем живет дух жизни. Вырваться из оков тоталитарного сна. И вернуть себе собственную реальность. Но все это явлено таким простым и лаконичным языком. Там нет ни куполов, ни древа познания, нет символов трансцендентного, нет этих атрибутов. Брессон никогда не подменял ими тонкую, трудную и, вместе с тем, простую и радостную работу.
Вы несколько раз произнесли слово “невидимое”, даже дали примерную модель творчества, как мне кажется: “Явить невидимое и изменить картину мира человека”.
Это только слова, не более. Они все искажают. Следуя подобному тезису, невозможно что бы то ни было осуществить. Подобные слова не являются ключом к тому, что нужно делать. Нет, мысль моя проста: истинную радость даcт тебе только такая работа, которая задействует тебя всецело, когда все твое существо отзывается на тот призыв, каким дышит замысел, и ты сопрягаешь с его токами все свои силы, всю свою энергию жажды создать что-то важное, нужное и живое, как сама жизнь. К невидимому нужно прикоснуться собственным существом. Необходимо хотя бы попытаться это сделать. Я смотрю в лицо Косте Лавроненко на съемках финальной сцены “Изгнания” и понимаю, что если он сидит сейчас на этом бугорке под деревом и смотрит на далекий холм, то он здесь должен понять что-то очень важное о самом себе, с ним самим должно что-то произойти. Я в надежде тайной нахожусь, что с ним что-то произошло. Пока мы рабоали над “Изгнанием”, я с горьким разочарованием узнал в Алексе самого себя. Позже, независимо от меня, и Костя говорил подобные вещи.
Современное кинопроизводство существует в историческую эпоху, пришедшую с концом постмодернизма. Человек сейчас понимает, что он сложен и противоречив. А что если бы Алекс был более сложным?
А не запутался ли ваш постмодернистский человек в собственной сложности?.. Мне представляется, что каким бы сложным ни был человек, в какой-то миг он может с легкостью потерять покров приобретенных цивилизационным процессом “масок и одежд”, и тогда может обнажиться человек древний, движимый инстинктами и вовсе не такой сложный. В какой-нибудь пограничной ситуации в человеке может проснуться животное. В древних обществах существовали тотемные животные – это те, на которых нельзя было охотиться племени, потому что человек этого племени воспринимал свое тотемное животное как собственное начало, как своего брата. Вы думаете, мы далеко ушли от того самого человека? Возможно, древний человек был ближе к пониманию самого себя. Это мы отдалились и приблизились в результате к “человеку постмодернистскому”, ничего не говорящему понятию. Продолжаем ходить в “защитно-маскировочных одеждах цивилизации”, словно волки в овечьих шкурах, словно хищники, движимые собственной корыстью, и как потребители, а сказать точнее, ненажорные твари, рассматриваем другого как рыночный объект потребления, как средство для достижения своих целей.
Можно создать произведение искусства, основанное только на мифах. Как в постмодернизме. Если это талантливый человек, он сделает это хорошо. Схема-то ясна. Что нужно сделать, чтобы фильм, скажем, обладал мифологическим потенциалом?
Да ничего нельзя сделать. Опять вы про свои схемы. Поймите же, миф – это чистая поэзия. А поэзию, как известно, могут творить только поэты. Все остальное, включая схемы и рецепты творчества, по силам только стихоплетам каким-нибудь. Вроде и слова сложены в рифму, вроде и сюжет занимательный, а отчего-то читать тошно…
Вот, смотрите. Прочитываешь некий литературный текст или, скажем, сценарий и сразу понимаешь, что это социальная или бытовая история, простой или, напротив, непростой рассказ о жизни людей. А бывает так – почти сразу понимаешь, что в истории совершенно точно присутствует миф, она такой рождена. Осталось только это вскрыть. И уже потом ты просто сосредоточенно думаешь об этой вещи, а внутри тебя, помимо твоей воли, уже тикает бомба замедленного действия. Пока однажды она не взрывается. Тогда происходит открытие, озарение, ты понимаешь, чт это за история. И все нити уже начинают тянуться куда надо. Это ранение.
Вы сказали о ранении как об одном из элементов творческого процесса. Связываете ли вы категорию боли и вашу эстетику?
Один интервьюер задавал подобный вопрос, излагая свою интерпретацию “Возвращения” как историю насилия. Я удивился. Если можно назвать историю взаимоотношений Бога с человеком историей насилия, тогда и “Возвращение” – история насилия. Но я никогда не смотрел на это так.
Возможно, вопрос мой прозвучит слишком общ, и все-таки: что вы думаете о нынешнем состоянии дел в культуре современного общества и о перспективах этой культуры?
Сегодня все шире и наглее “продукт” подменяет собою искусство. В зале вместо зрителя поселился потребитель, а за кулисами вместо поэта – производитель продукта. Общество потребления завершает свою неприметную подмену одних ценностей другими. Такое чувство, что мы и вправду являемся свидетелями конца времен. Божественное извне и сверхчувственное внутри человека вымывается как ценная порода. Человек изменился, этого нельзя не заметить, потому что эта удивительная метаморфоза происходит на наших с вами глазах. Возможно, похожий процесс уже давно отметил Хайдеггер и означил его “нетостью Бога”. У нас словно бы нет опоры, точки отсчета. Нет того, что именуется “центром” или осью, иными словами, нет той глубинной причины, из которой бы исходили все наши движения.
Когда у человечества нет никаких ориентиров, кроме ненасытного потребления, когда в обществе утрачивают свое сакральное значение духовные ценности, когда властные элиты во имя своей власти, несущей им личное обогащение, калечат и убивают журналистов, не переставая лгут, сажают в тюрьмы невиновных, когда религиозные институты дискредитируют себя молчаливым единением с этой властью, да и сами религиозные лидеры отчего-то вызывают у совестливой части общества вопросы, исполненные недоумения, что остается человеку? Он один в этом море нерешенных вопросов и смещенных ориентиров. “Нетость Бога”, о которой говорил Хайдеггер, мировые потемки, эти сумерки мира – не объективное состояние природы, не внешнее обстоятельство, это нужно сознавать: тонко настроенные душа и разум философа просто сумели уловить в атмосфере срединной эпохи между двумя великими войнами умонастроения огромного числа людей. Нет, Бог никуда не делся, это мы сами перестали его замечать; это некоторые служители его культа симулируют его присутствие в своих храмах, как служители муз симулируют служение высоким идеалам искусства, хотя давно уже прислуживают или власти, или жадной до развлечений толпе. И, похоже, один только Бог знает, почему и зачем Он нам всем попустительствует. Вот как-то так мрачновато я гляжу на нынешнее состояние дел. А про перспективы говорить совсем странно, я же не Глоба какой-нибудь.
Как вы относитесь к концепции “Есть творец и творение – больше нет ничего”?
Знаете, в чем главное великолепие фильма Андрея Тарковского “Жертвоприношение”?.. Вы же помните, что после страшного дня, сулившего гибель всему живому, господин Александр, проснувшись наутро и обнаружив себя живым, а сам строй жизни восстановившимся, вспоминает о своем обещании, данном Богу, и… исполняет его.
Но Творец при этом объективно существует?
Да уж, вопросы у вас что надо… (улыбается) Герой фильма “Жертвоприношение”, именно исполняя обещанное Богу, словно бы говорит: “Творец существует объективно”. И так происходит всякий раз – Его существование утверждается в объективном мире выбором каждого из нас. Он ждет от нас не слов, а действий. Наше взаимодействие с Ним и есть прямое подтверждение Его существования.
Вы верите в предопределение?
Предопределение… Не скажешь двумя словами. Давайте другой вопрос, а я пока подумаю над этим.
Важен ли сюжет и ограничено ли число сюжетов?
Сюжет – это лишь способ рассказать о чем-то большем. Думаю, базовых сюжетов немного. Называют разные цифры. И хотя мир нельзя сосчитать, мне нравится идея Борхеса о четырех основных: история возвращения, история штурма крепости, самоубийства Бога и история о поиске (история тридцати персидских птиц), самая волшебная, – мечтаю снять фильм на этот сюжет. Борхес, разумеется, поэт – он просто решил, что все сюжеты можно свести к четырем и поведал нам об этом. А мы с вами оставим этот вопрос счетоводам.
Рекламные ролики и три короткометражки – насколько они помогли в становлении вашей режиссерской манеры?
Рекламные ролики – ну, это совсем… низкий жанр. Школа технологии: что такое съемочный процесс, какие команды следует произносить, как монтируется один план с другим. Реклама не может являться искусством. Готов утверждать это на любой трибуне. Искусство – совершенно другая материя. Реклама – это “киношка”. Изображение, склеенное одно с другим. Казалось бы, то же можно сказать и о кино. Так же, как можно сказать: это просто слова. Но тут за словами скрыто большее. Реклама – это как в ручье бумажные кораблики пускать. А фильм – открытое море. Как только выйдешь в открытые воды, сразу почувствуешь разницу. Достаточно осознать простой вопрос ответственности перед изображением, как все сразу станет ясно. Крупный план актера, исполненный драматизма, или общий план городской улицы – это тебе не packshot, единственной целью которого является призыв: “идите в магазин и купите это”. Нет, рекламу я рассматриваю только как школу технологии и способ заработка, никак не более.
Что касается новелл, то этот опыт уж был значительно ближе к киноязыку. Мы относились к ним не как к фрагментам сериала, для нас это были отдельные маленькие фильмы; мы делали их с такой любовью, будто снимали настоящее кино. В какой мере эти работы помогли мне в становлении стиля, мне трудно судить, я такими рассуждениями не увлекаюсь. Могу лишь сказать, нас тяготило, что там много смертоубийств, не “обеспеченных золотым запасом”, если можно так выразиться. Потому и “Obscure”, и “Выбор” – это целиком самостоятельные работы. Сценарии к ним были полностью переписаны. Когда авторы увидели “Бусидо” (а этот сюжет был практически полностью сохранен в авторской редакции), они были вдохновлены, а когда прочли титры к “Obscure”, написали гневное письмо Лесневскому: “Это возмутительно! Мы подадим в суд”. Причем в письме говорилось не об изменениях в сценарии, речь в нем шла исключительно о титрах. Мною был предложен справедливый, и я бы даже сказал, объективный титр: “по сюжетной основе таких-то”. Справедливый потому, что в окончательной редакции сценария не оставлено было ни одного поворота, ни единого слова из прежних диалогов, ни одной линии целиком. Я счел нужным переписать все. Чтобы не разжигать скандал, Лесневский попросил меня уступить. Что ж, моя версия финальных титров не устроила сценаристов, зато их устроила версия – подписать собственными именами чужой интеллектуальный труд. Бог им судья.
“Выбор”, вероятно, самая нестандартная новелла из всех трех и из всей “Черной комнаты”. Он очень похож на “Изгнание”.
Да? Странно. Мне никогда даже в голову не приходило их сличать.
Но это так. В основе обоих фильмов был адюльтер. Но в обоих случаях вы просто отталкивались от этого, создав совершенно иное произведение. “Выбор” – это тоже история, где есть один человек, а все остальные – это его раздражители. И остается проблема выбора. Три решения конфликта мужа, жены и ее любовника, его друга – одно, где он стреляет в жену; другое, где она бежит к любовнику; третье, где она остается с ним, – это и есть выбор, который в нем самом, который совершается в конце новеллы, перед зеркалом…
И он отказывается от своего решения. Навсегда или на время?..
Там непонятно, отказывается ли он. Есть два варианта: либо то, что мы видим – это флешбэк, либо он представил все это, и он отказывается от решения, он совершил выбор в самом себе. Кроме того, там есть вставная история, которую жена рассказывает любовнику…
Да уж, эта вставная история! Не поверите – я написал ее за несколько часов до съемок этого эпизода. То есть, накануне съемочного дня я еще не знал, что именно актриса будет рассказывать в кадре. Эта история словно спустилась свыше. Я очень люблю ее, она какая-то нереальная…
Интересная деталь. То, что вы рассказали о процессе создания этой истории, обескураживает.
Я вам расскажу, как было дело. Мы договорились с актрисой Аней Дубровской, что они с Колей Добрыниным вдвоем будут сидеть за столиком в кафе, и она станет рассказывать ему сюжет какого-нибудь понравившегося ей фильма или романа, любую историю, в которой она бы чувствовала себя свободно. И вдруг ночью, накануне съемок, я понимаю, что любую – нельзя. Будет хаос, неконтролируемая ситуация. Съемка в шесть утра. Так рано, потому что владелец места, где мы снимали, позволил нам работать только до двух часов дня, а там много чего снимать, поэтому – чем раньше начать, тем лучше… Времени – четыре утра, я понимаю – это катастрофа. И не могу заснуть. Вдруг придумываю какую-то историю, записываю ее бегло на бумаге, потом переписываю печатными буквами, чтобы почерк был разборчив. Прихожу в шесть на площадку и говорю актрисе: “Анечка, прости! Прости, милая! Но вот тебе история, вот два часа, когда ты сможешь ее выучить”. Она выучила это, и была, конечно же, не уверена в тексте. Но я сказал ей, пусть ты будешь не уверена, пусть что-то будет сказано своими словами, но главное – смысл.
Теперь вернусь к вашему вопросу о предопределении. Верить в предопределение – это согласиться с умозрением древних, абсолютно веривших в силу рока. Верить же в то, что свою судьбу может изменить сам человек, значит встать на антропоцентрическую позицию Возрождения, породившего многие идеи Нового времени, в том числе и ницшеанского “сверхчеловека”. Тем-то и отличается современный человек, что с легкостью манипулирует подобными понятиями и, являясь уже порождением эпохи постмодерна, с трудом находит в себе силы верить во что бы то ни было, кроме разума. Тот ранний человек был с Творцом на ты, у него не было ни науки, ни такого простора для рефлексии, чтобы усомниться в том, что все предначертано свыше, что весь ход истории, в том числе и его частной истории, предопределен. Утратив пребывание в общении с Творцом, новый человек приобрел рассуждение о Нем, представление о Нем и Его сущности. Возможно, единственное, в чем не сомневается современный человек, так это в том, что смертен, и для него только это абсолютно предопределено. Во всем же остальном человек полагает себя вершителем событий. Умозрение подсказывает, что это должно быть хорошо, потому как налагает на него ответственность за эти события, – таков идеальный человек экзистенциалистов, человек ответственного выбора. Но стоит только представить себе на его месте человека без совести, достоинства и чести, как этот же человек превращается в монстра. Cовременный мир дегуманизируется на наших глазах, причем с каким-то нарастающим ускорением. В таком состоянии общественной среды человек движется в глубину своего я – к древним инстинктам, к животному своему происхождению. Возможно, этим и должно было все завершиться? Или это начало нового витка эволюции? Кто знает?.. И вполне возможно, что кем-то и это все давно предопределено… Человек бессилен перед лицом Смерти. Дьявол бессилен перед лицом Бога. А Бог бессилен перед выбором Человека.
Беседу вели:Катерина БелоглазоваБорис ЛюбимовВера ТомиловаМосква, 4 апреля 2008 года
Наум Клейман
Алгебра и метафизика: о кинематографе Андрея Звягинцева
Андрея Звягинцева я знал в лицо, еще не зная, кто он, – не знал его имени и ни разу с ним не разговаривал до того, как он прославился в Венеции своим “Возвращением”. Андрей часто приходил в Музей кино на наши образовательные программы по истории кино, на отдельные фильмы, на ретроспективы. Позже он не раз говорил и публично, и мне, что это была его киношкола…
Как у всякого талантливого человека, у Андрея есть дар учиться самостоятельно. Настоящая учеба – это умение постоянно (в идеале – пожизненно) выбирать, что именно тебе нужно и важно. Это не формальное “получение образования”, то есть послушное следование “обязательной программе”. И подлинная образованность – это не “информированность”, не стремление “быть в курсе” того, что сегодня знаменито и модно. Что же касается творческого образования, то оно в первую очередь предполагает очень активное восприятие того, что смотришь, и осознанное или интуитивное усвоение того, на что можешь опереться в собственной деятельности. Для Звягинцева музейные сеансы были не “информационными просмотрами”, не киноклубовским накоплением эрудиции – он что-то “засекал” для себя, причем у очень разных режиссеров различных эпох и культур. Уже позже, когда мы с Андреем поговорили, я понял, что для него, скажем, Одзу значил не меньше, чем Бергман, а Антониони – не меньше, чем Брессон. Некоторые критики сравнивают его фильмы с классикой и говорят: “Он подражает Бергману, он подражает еще кому-то, он подражает…” А Звягинцев не “подражает” – он заметил для себя определенные типы кино и (что самое главное) различил в них явления, ему необходимые…
В беловой рукописи первой главы “Евгения Онегина”есть не напечатанный Пушкиным эпиграф по-английски – высказывание философа Эдмунда Бёрка, которое переводится так: “Ничто так не враждебно точности суждения, как недостаточное различение”. Иначе говоря, причиной заблуждений чаще всего является вульгарное или грубое смешение разнородных вещей, а также отсутствие способности постигать (что тоже обозначается словом “различать”) причины и следствия, побудительные мотивы в реальных действиях…
У Андрея, мне кажется, есть как раз эта способность, а также умение вычленять то, что нужно ему, и различать ценности, при этом не выстраивая иерархию, не сводя их к общепринятому мнению или господствующему вкусу. Это относится к создаваемому им экранному миру, но это же проявляется и в его отношении к предшественникам и современникам в кино.
Различение дает человеку творческому и умному отнюдь не иерархию, а разнообразие ценностей и потенциальных возможностей. Потенции кино гораздо богаче ныне принятых “образцов” и “стандартов”. Именно поэтому в музейных фондах нельзя собирать наследие только признанных гениев, ибо нам неизвестно, кто будет признан гением в следующую эпоху. Скольких мы гениев проглядели! В то же время у “просто талантов” могут быть весьма важные фильмы, которые по своему значению для будущего перекрывают творения режиссера, прославленного при жизни как “гениальный творец”. Вообще выстраивание иерархии – не наше дело. Пусть журналисты, спортсмены или “денежные мешки” выстраивают иерархии по рейтингам, реальным или мнимым. В культуре важно каждое проявление таланта и индивидуальности (даже мгновенное, точечное, недолгое). Выкинуть из истории – самое простое действие, доступное любому чиновнику; вернуть в историю выкинутое, уничтоженное – часто почти невозможно; оценить или пересмотреть сохраненное – хлеб насущный не только для историка искусства, но и для подлинного художника. Это он, художник, в своем творчестве воскрешает, продолжает, развивает то, что было убито, отвергнуто, не замечено близорукой или жестокой современностью.
Мне кажется, например, существенным, что у Звягинцева в кадрах “Возвращения” вновь появился горизонт. Сейчас, как правило, на натуре снимают или снизу, или сверху, или горизонт закрывается какими-либо объектами. Во многом благодаря первому фильму Андрея вернулась линия горизонта, необычайно важная для деления пространства – различения Земли и Неба. И, как у всякого крупного художника, визуальный стиль Звягинцева (к счастью, у него есть в этом такой союзник, как Михаил Кричман) отражает глубинные пласты произведения – его нравственную установку, если угодно.
Другой пример – из “Елены”: движение камеры за героиней, решившейся убить мужа (в момент, когда мы этого еще не знаем, но сердце почему-то сжимается от тревожного прохода на кухню, а затем в спальню Владимира). Оно принципиально отличается и от стиля “субъективно раскованной” (чаще всего – суетной) камеры во многих картинах нашего так называемого “авторского кино”, и от “объективно описательных” панорам и проездов академически “солидных кинопродуктов”. Мне представляется, что это решение, по сути, родственно движению камеры в “Слове” Карла Теодора Дрейера. Там движение камеры, то сопровождающей героев, то от них отрывающейся и следующей своим путем, будто свидетельствует о присутствии некой таинственной “высшей силы”, наблюдающей за действием. Я не утверждаю, что Звягинцев и Кричман вспоминали и осознанно цитировали датского классика. Но они знают и вполне сознательно используют то, что сформулировал Франсуа Рейшенбах: “Панорама – это этический жест” (а не просто движение камеры).
Или: Андрей очень внимателен к фактуре. Она у него не символическая, но эмоционально-вещая, если можно так сказать, – как бывает во сне. Во сне вы можете не понимать, что перед вами, но при этом фактура обладает некой знаковостью. Вспомним хотя бы финальную цитату в дебютной новелле Андрея “Выбор”.
Надо сказать, что в нашем кино такое использование фактуры проявилось довольно давно. Это есть уже у Андрея Москвина, у Юрия Екельчика, у Георгия Рерберга, у многих других наших операторов и режиссеров, которые замечательно работают с фактурой в кадре. У Тарковского “драматургия фактуры” попала в смысловой центр. Если фильмы Звягинцева и можно рассматривать как “посттарковское” кино, то никак не по его философии и не из-за внешнестилистической схожести с фильмами Андрея Тарковского (весьма относительной), а потому, что здесь учтен опыт кинематографа, где активная фактура входит в ту амальгаму, из которой плетется смысл фильма. Укажем опять на “Выбор”: облака, лужи, щебенка, бетон, полированные и искажающие поверхности – то же зеркало или металл, в котором отражается лес…
Часто говорят: “У Звягинцева – абстрактное кино”. Да, оно абстрактно, это кино категорий, где героиня – Женщина, и это гораздо важнее, чем ее имя, где мужчина – это Мужчина… И “Выбор” как раз очень важен для понимания будущего развития Звягинцева, поскольку здесь есть вариативность, а причины и следствия переставлены местами, и иногда неясно, что персонаж сделал в реальности, а что – только в воображении.
Вариативность и вероятностность представляются мне принципиальными установками режиссера Звягинцева. В его кинематографе важно, что он отказывается от многих элементов привычного фабульного развития, оставляя ровно тот контур, который необходим, чтобы мы решали не арифметическую, но алгебраическую задачу: а+b=с, а не 1+3=4. Благодаря такой установке мы можем предложить наше чтение данной ситуации, которая здесь важнее общепонятного событийного ряда или бытово (либо жанрово) правдоподобных мотивировок.
Надо отдать Звягинцеву должное: он владеет тем качеством хорошего режиссера, который Эйзенштейн называл “амплификация” (термин, восходящий к Мейерхольду), – сюжет развивается в деталях. Вернее, ситуация, а не сюжет. У него очень подробна разработка, и если ты внимательно следишь, скажем, за поведением человека, то ты как зритель способен вкладывать в него смысл – иногда исходя из догадок, иногда из собственного опыта, а иногда из того, что ты знаешь по другим произведениям. Цитата у Звягинцева безусловно важна, но она работает не коллажно, как собственно цитата, а как некое поле, из которого можно черпать варианты трактовки. И даже не обязательно находить, чт было “исходной точкой” для него. В твоем восприятии возникает аналогия, параллель, ассоциация, и это позволяет выйти на другое поле, где будет та же формула, только решенная другими обозначениями (уже, например, x+y=z).
В “Изгнании”, на мой взгляд, Звягинцев немного утратил непосредственность, которая в “Возвращении” была обоснованна благодаря детским глазам и постоянной загадке, идущей от “реконструированной наивности”. В “Изгнании” – другое. Здесь у него, как и ранее, развивается экзистенциальная теорема (он один из наших настоящих экзистенциалистов, предлагающих зрителю решать: как бы ты поступил в ситуациях, касающихся самых существенных категорий бытия). Спонтанность исчезла, но появилась мастерски выкованная, очень четкая интрига без нагромождения лишних сюжетных мотивировок. Многие говорят о “минимализме Звягинцева”, но тут не минимализм, а, пользуясь опять математическими ассоциациями, необходимость и достаточность, позволяющие рассматривать данную историю не как конкретный случай из жизни, а как формулу.
Этот художник позволяет тебе самому принять решение, он создает условие, чтобы решать алгебраическую формулу исходя из твоих собственных представлений. Таким условием является прежде всего обозначение морального поля ситуации.
При этом для кинематографа Звягинцева характерна не отстраненность, а, наоборот, эмоциональная пере-напряженность. Только это не те эмоции, которыми привык играть и спекулировать обычный мейнстримовский кинематограф, тут чувства другого рода. Да, эмоциональность здесь действительно идет во многом через интеллект, через выбор. Ключевым является само понятие – “выбор”. И выбор стоит не только перед героем, но и перед нами, зрителями. Нас и держит здесь в напряжении ситуация экзистенциального выбора.
На “Кинотавре” коллеги приставали ко мне с вопросом: “Как ты относишься к тому, что она покончила с собой, будучи беременной? Как она могла?” Я ответил одним анекдотом из истории кино. Виктор Шкловский упрекнул Эйзенштейна: “Как шпана в «Стачке» может жить в бочках, когда сверху идет дождь?” Эйзенштейн отбился просто: “В этом кадре дождь не идет”. Больше объяснений и не нужно
В “Изгнании” разговор идет вовсе не о том, может ли беременная женщина убить себя и ребенка. Перед лицом будущей жизни это предельная жертва – бльшая, чем твоя собственная жизнь. Причина этой жертвы стоит перед тобой абсолютно открыто: ситуация лжи, в которой невозможно жить, ситуация двойного существования, которое убийственно, – она и приводит к этой сверхжертве. Это доведенная до предела экзистенциальная ситуация, а не история об аборте. Тем для меня и интересен Звягинцев. Есть закон, самим художником над собой признанный. Прежде чем осуждать или не осуждать, принимать или не принимать персонажа, надо понять его создателя. С точки зрения “своего закона” художник разработал произведение, и важно решить: погрешил ли он против себя, солгал ли он себе? Если он себе солгал, значит, он и нам солгал, а если он себе не солгал, значит, я должен постараться прежде всего довериться ему, услышать, в чем мне признаются. Он сообщает мне что-то для него очень существенное, доверяет свою исповедь, и я обязан его понять, особенно если я критик.
Кинематограф Звягинцева воистину метафизичен, он проникает в незримые пласты реального мира, а не балансирует между мистикой и мистификацией, чем грешат некоторые современные картины.
Да, Андрей снимает “сложное” для зрителя кино, которое не “раскусывается” с первого взгляда. Но, к счастью, во время сеансов оно зрителем переживается непосредственно и остается в его памяти и чувствах, требуя в результате просмотренного “решить формулу” – “сделать выбор”. И тут нам нельзя врать, ибо такого рода искусство старается быть честным по отношению к тебе и к себе самому.
У Звягинцева всегда есть загадка – как у Борхеса: некая загадочная ситуация приводит нас к метафизике. Что означает это понятие в случае его кинематографа?
Как известно, Пушкин обсуждал с Вяземским необходимость перевода иностранных (французских, немецких, английских) романов для выработки русского “метафизического языка” для описания внутреннего мира человека, его переживаний и побуждений. В начале XIX века “метафизика” понималась скорее как синоним “психологии”, чем как философское изучение первоначальной природы мира и бытия – того, что недоступно непосредственному наблюдению в мире физическом.
Андрей Звягинцев строит свою метафизику на обоих значениях этого понятия. В “Елене”, например, “моральный оползень”, внимательно прослеженный на поведении не только героини, но и всех других персонажей фильма, становится зримым проявлением процессов, угрожающих самим основам общества, государства, даже самого миропорядка, хотя режиссер счастливо избегает столь популярного ныне в кино эсхатологического символизма. Точная психологическая разработка характера, далекая и от “осуждения”, и от “оправдания” Елены, но полная тревоги за нее и за всех нас, становится у Звягинцева путем вглубь человека – и одновременно вознесением в обобщение.
Такая метафизика, противостоящая как мистическим, так и социологическим спекуляциям, представляется мне одним из самых гуманистически значительных и эстетически продуктивных явлений нового российского кино.
Фильмография
режиссер Андрей Звягинцев
продюсер Дмитрий Лесневский
сценарий Юрий Каменецкий, Эжен Щедрин
камера Михаил Кричман
художник Алена Шкермонтова
монтаж Владимир Могилевский
звук Евгений Чайко
грим Нелли Ширяева
второй режиссер Анна Булгакова
музыка Альфред Шнитке, Tom Waits, Stephan Micus, “Odaiko”, “Shu-de”
оригинальная музыка Дмитрий Тарунтаев
исполнительный продюсер Андрей Звягинцев
в ролях Николай Чиндяйкин (Банкир)
Дмитрий Щербина (Телохранитель)
Александр Тютин
(голос в телефонной трубке)
REN-TV, Россия, 2000
DVCAM/16:9/цвет
24' 29"
режиссер Андрей Звягинцев
продюсер Дмитрий Лесневский
сценарий Юрий Каменецкий, Эжен Щедрин
камера Михаил Кричман
художник Алена Шкермонтова
монтаж Владимир Могилевский
звук Евгений Чайко
грим Нелли Ширяева
второй режиссер Гета Багдасарова
музыка Sainkho & Djivan Gasparyan, J. S. Bach
исполнительный продюсер Андрей Звягинцев
в ролях Инна Гомес (Инна)
Илья Бледный (Кирилл)
Александр Пороховщиков