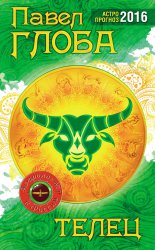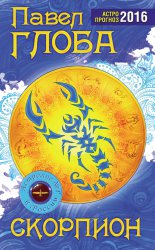Писатели-«деревенщики»: литература и консервативная идеология 1970-х годов Разувалова Анна
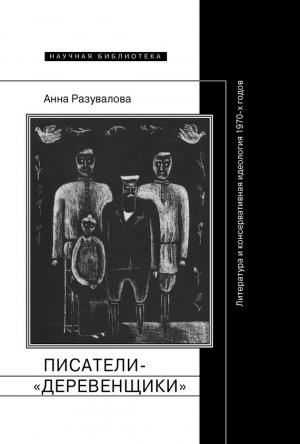
Поскольку продолжала действовать интернационалистская марксистская риторика, постольку, даже став системным явлением, антисемитизм в СССР продолжал оставаться полуофициальным, латентным. Это вызывало сложности с артикуляцией антисемитской политики, проводившейся при Сталине (и позже его наследниками), порождая различные формы заменного дискурса[327].
Показательно, что у критиков и литературоведов национально-консервативного плана (Вадима Кожинова, Петра Палиевского, Михаила Лобанова, Сергей Семанова и др.), взявшихся на рубеже 1960 – 1970-х годов объяснять противостояние интеллектуальной элиты (в большинстве случаев – евреев) и условного «простонародья» (русских), на выходе нередко получался антиэлитаристский нарратив. В нем антисемитская семантика могла и вовсе аннигилироваться – в том случае, если она не была для автора актуальной.
Так случилось со статьей Анатолия Ланщикова «“Исповедальная” проза и ее герой» (1967)[328], публично обозначившей амбиции новой национально-консервативной элиты. Автор без камуфлирования ставил вопрос о столкновении в литературном процессе привилегированных и подчиненных групп и сомневался в оправданности распределения между ними символического и культурного капитала. Проверенная риторика, клеймившая претендующих на «элитарность», далеких от подлинных нужд «народа» героев Василия Аксенова и Анатолия Гладилина, помогала Ланщикову идеологически растождествить продвигаемую им группу писателей (среди упомянутых авторов был В. Белов[329]) с лидерами прозы 1960-х. Критик тонко почувствовал, что новые политические веяния и формируемый официальной идеологией дискурс допускают экспериментаторство и элитарность в качестве факультативного элемента культуры, на первый же план в качестве бесспорных ценностей отныне выдвигаются «демократизм» и эстетический консерватизм, гарантировавшие востребованность текста всеми категориями потенциальных читателей. Эти ценности Ланщиков нашел в творчестве писателей примерно того же поколения, что и Аксенов, но представлявших его социально обездоленную часть. Невозможность своевременного доступа к образованию и культуре для слоев, на чьи плечи легли главные тяготы военного и послевоенного существования, обусловленная этим отсроченность творческого старта в статье Ланщикова впервые были истолкованы как фактор интеграции «задержанных» в литературное сообщество. Впрочем, основания для объединения на общей платформе столь разных художников, как Василий Белов, Виктор Лихоносов, Дмитрий Балашов, Георгий Владимов, Владимир Максимов, Евгений Носов, Ланщиков прописывает не совсем внятно, упоминая о «зрелости» писателей и умении воплотить «общенародный опыт». Но в этой статье они и нужны ему как собирательный образ художника, обращенного к той самой «народной» жизни, о которой, с его точки зрения, представления не имели авторы «исповедальной» прозы.
В «Тяжести креста» В. Белов досадует на запись Алексея Кондратовича в «Новомировском дневнике» за 1968 год, где критик упоминал про «умненькие» глаза, помятые «пиджачок и брючишки» вологодского автора[330]. «Прочие благоглупости, – негодует Белов, уловивший в этом отзыве пренебрежительное к себе отношение, – с помощью суффиксов так и вылезают из этого дневника»[331]. Анна Самойловна Берзер, замечает он, оказалась куда тактичнее и проницательнее Кондратовича. Она
была опытной журналисткой и, несмотря на некоторую специфичность своих взглядов, являлась прекрасной добропорядочной редакторшей. (По крайней мере, она не сюсюкала по поводу «умненьких глазок» и гардероба «деревенского мужичка». Кстати, гардероб-то у меня был вполне приличный, это Кондратовичу хотелось придать моим брюкам определенный вид.)[332]
Высокомерное (или интерпретированное подобным образом) наблюдение Кондратовича над провинциалом, пожаловавшим в редакцию лучшего советского журнала, уже привычно ранит Белова снобистским отношением к «деревенскому мужичку». Дистанция между представителями разных групп обозначена здесь несоответствием костюма провинциала неписаным представлениям о столичном и «приличном». Костюм, следование правилам этикета (или их нарушение) являются полноценным маркером группового самоопределения, визуализацией социальных различий, и потому имеет смысл рассматривать их как механизмы производства групповой общности.
Как уже отмечалось, прорехи в образовании, невысокий поначалу уровень культурной компетентности, «провинциальная» манера одеваться и вести себя – все это при первых контактах писателей из простонародья с городской образованной средой послужило основанием, чтобы столичная богема не признала в них «своих», а тем более равных, и насмешливо дистанцировала их от себя. Ответом «деревенщиков», если иметь в виду область поведенческих самопрезентаций, стала артикуляция различий посредством одежды и стиля поведения. Выбор костюма подчас обнаруживал нарочитое небрежение вкусовыми нормами и стандартами, принятыми в столичной творческой среде. Образчиком условного «столичного стиля» и отторгаемой «деревенщиками» «поэтики» поведения, вероятно, можно считать Василия Аксенова – московского диссидентствующего писателя-экспериментатора, представителя артистической богемы. Любопытным образом модернистская (и «проамериканская») стилевая ориентированность его прозы коррелировала с манерой «не-советски» одеваться – носить вещи западных фирм, недоступные большей части населения СССР, которой старательно прививали принцип «скромно, но со вкусом». Аксенов признавался: «Любопытно, что в нашем кругу большую роль играло то, что потом стало называться “прикидом”, а тогда просто “шмотками”»[333]. Юрий Нагибин, в 1970-е годы входивший в редакцию «Нашего современника», вспоминал, что В. Распутин (зашифрованный под фамилией Распадов) называл его «барин», «не вкладывая в это чего-либо осудительного»[334], но другие коллеги не особенно скрывали недоброжелательность, замешанную, помимо прочего, на осознании принадлежности к разным социально-культурным кругам. Нагибин платил тем же и подчеркивал дистанцию между собой и провинциалами, составлявшими большую часть авторов и редакции «Нашего современника»:
Наши корифеи отправлялись в Москву, напялив на себя все, что имелось в доме: на подштанники – лыжные штаны, а сверху брюки; так же многослойно был укутан торс: нательная рубашка, шерстяная и верхняя, какой-нибудь свитерок, на все это натягивался пиджак, который топорщился, не застегивался и так жал в проймах, что руки становились ластами; не менее заботливо утеплены ноги: портянки, носки домашней вязки, тонкие носки, обухоженные таким образом ступни вколачивались либо в бурки, либо в войлочные ботики, реже в шнурованные ботинки с калошами. Мать говорила, что на бедных людях всегда много надето. Отчасти из-за холода, отчасти из желания придать себе хоть какой-то вид. Мои друзья по редколлегии не были так уж бедны, чтобы не укрыться от стужи более цивилизованным способом, и в изобилии их одежд не проглядывало франтовство, причина была в дикости, в полном отсутствии бытовой культуры[335].
Впрочем, Нагибин признает, что талантливость и «твердость жизненной позиции»[336] многих авторов журнала его восхищала, как и их «внешняя непрезентабельность», в которой ему хотелось видеть «презрение к материальным благам жизни»[337]. Да и сами писатели из крестьянской среды подчеркнутым безразличием к стилевой продуманности и завершенности костюма стремились произвести именно такой эффект – выразить протест против «мелочного» интереса к «прикиду». Моду и стиль они демонстративно относили к сфере профанного, сиюминутного, в координатах которого художник не должен выстраивать свой мир. Мода, по пародийно сдвигающим исходную ситуацию словам Шукшина, –
это нечто выдуманное, цепкое, крикливое и пустое. Живая природа не знает моды; там, где решаются коренные вопросы бытия, мода молчит. Если бы это было не так, нам было бы очень важно знать: красиво ли, элегантно ли бежали солдаты в атаку? Почему поле вспахано вдоль, а не в елочку? Как ведет себя боксер в своем углу между раундами – обозревает светски рассеянным взглядом толпу или только успевает надышаться? Как написано: «Сказались бессонные ночи, полные сжимающей душу тревоги, раздумий, бесконечных давлений, сопоставлений, ассоциаций…» или: «Ванька устал», если нам, в данном случае, важно знать по Ваньку, а не про автора – что он «может»?.. Ну и так далее[338].
Не стильная небрежность, а пренебрежение стилем подчеркивало неважность, вторичность для «деревенщиков» формально-стилевой составляющей их отношения к костюму. Воспоминания Юрия Оклянского о бросившемся ему в глаза при первой встрече с Абрамовым в 1972 году крайне эклектичном одеянии писателя типичны для мемуаристики, посвященной «деревенщикам»:
На нем был серый толстый свитер с высокой горловиной, поверх тогда модный кожаный черный заграничный пиджак, впрочем, нередкий в литературной среде, на ногах теплые войлочные ботинки. Одет без намека на официальный случай, вразнобой, скорее по-домашнему[339].
Свидетельства очевидцев, описывавших появление «деревенщиков» в столичном кругу, фокусировали, как правило, внимание на деталях, недвусмысленно отсылавших к колхозно-крестьянскому либо армейскому прошлому писателей. И если поначалу элементы не-цивильного городского стиля объяснялись нуждой, то со временем их присутствие в гардеробе получило идеологический статус. А. Саранцев, учившийся одновременно с Шукшиным во ВГИКе, описывал характерные приметы стиля студентов из простонародья, которые отличали их от отпрысков интеллигентных московских семей:
Военную форму мы носили не ради форса, а просто потому, что ничего другого не имели. Шукшин… тоже был одет в военное, только не во флотское, а в обычное армейское: гимнастерка, брюки, сапоги. Из флотского у него, помню, были только тельняшка да бушлат. Но он чаще носил не бушлат, а «московку»… Шапчонка тоже была неказистая, цигейковая. <…> Никогда не носил галстук. Одно время, после ВГИКа, были у него бурки, белые такие, войлочные… Позже, на съемках, часто ходил в кирзовых сапогах, но это уже не от бедности, это была уже «позиция»[340].
Впоследствии Б. Ахмадулина знаменитую деталь шукшинского гардероба, своего рода маркер его индивидуального стиля – кирзовые сапоги справедливо истолковывала как «знак, утверждение нравственной и географической принадлежности, объявление о презрении к чужим порядкам и условностям»[341]. Идеологический статус костюма или его деталей Шукшин прекрасно осознавал и даже обыгрывал в свойственной ему самоироничной манере. В статье, написанной в 1969 году для сборника «Мода: за и против», он трактовал следование моде как «дешевый способ самоутверждения»[342], замечая, что таковым может стать и борьба с модой. В качестве примера он ссылался на эпизод собственной студенческой молодости, когда выбором костюма – по славянофильскому образцу – пытался в борьбе со «стилягами» манифестировать свою позицию:
Я, например, так увлекся этой борьбой, так меня раззадорили эти «узкобрючники», что, утратив еще и чувство юмора, всерьез стал носить… сапоги. Я рассуждал так: они копируют Запад, я «вернусь» назад, в Русь[343].
Для некоторых «деревенщиков» в неумении носить костюм, галстук выражались бравирование свободой от условностей и акцентуация своей «природы», естественной «фактуры», которую не переделать. Астафьев, например, вспоминал, как однажды в Москве билетерша не хотела пускать его на собственный литературный вечер: «Что на себя ни наденешь, рожа всегда выдает происхождение»[344], – заключал он. В самоироничной констатации «простоты», которую не скрыть приличествующим торжественной ситуации костюмом, есть рефлексивно-игровое начало, побуждающее акцентировать то, что Астафьевым осознается как отступление от представлений о «человеке культуры». Модус самоиронии в данном случае работает как инструмент защиты, поскольку самоирония опережает возможные негативные оценки «простака» со стороны просвещенной публики и снижает их болезненность.
Выбор одежды, костюма, вариантов самопозиционирования выполнял обычную функцию – проводил границу между «чужими» и «своими», причем в число «своих» включался не только «ближний» круг (провинциалы, стремившиеся добиться успеха в различных творческих областях, испытавшие неприятие со стороны столичной среды), но и предельно условная общность – «народ», идентификацией с которым и ссылкой на который можно было объяснить небрежение грамматикой современного городского поведения. В этом смысле ориентация на «своих», демонстрация «невыделенности» из «народной массы» «деревенщикам» были нужны не меньше, чем демонстрация «непричастности» к столичной интеллектуальной элите. Любопытны два мемуарных свидетельства о Шукшине, внешне противоречащих друг другу, но вполне укладывающихся в линию поведения человека, который выстраивает свою культурную идентичность в отсылке к разным группам. Режиссер Александр Гордон, учившийся с Шукшиным на одном курсе, вспоминал, что примерно в середине 1960-х он случайно встретил того в Москве на улице, одетым в ратиновое пальто, в которых «ходили тогда партийные начальники, руководители предприятий, директора магазинов»[345]. Журналист Василий Белозерцев приводит свои впечатления от Шукшина-актера на встрече со зрителями в провинциальном Бийске примерно в то же время, в середине 1960-х: «Был он в пиджаке, в рубашке без галстука, в сапогах и был похож не на деятеля искусства, а на рядового колхозника, только что выбравшегося случайно в город»[346]. Очевидно, различные варианты шукшинского костюма содержат послание, адресованное разным аудиториям. В первом случае обладание статусным предметом гардероба (ратиновым пальто) позволяет продемонстрировать окружающим нынешнее благополучие, компенсировавшее былую ограниченность в возможностях. Это знак самоутверждения в городском пространстве, подчинения его себе. Шукшин больше не чувствует себя в нем «чужаком», «инородным телом», он – один из успешных горожан. Но примерно тот же смысл («я – один из вас») транслирует провинциальной зрительской аудитории Шукшин-актер, когда нивелирует признаки причастности к творческой элите и преподносит себя как «обычного», «простого» человека. В подобных переключениях из одного стилевого регистра одежды в другой[347] нет ничего странного, но показательно, что Шукшин, невероятно чуткий к семиотике костюма, довольно быстро вернул в свой гардероб элементы социально отмеченного («деревенски-колхозного»), знакового для него стиля одежды и впоследствии, уже добившись признания, автомифологизировал себя именно как «героя в кирзовых сапогах»[348].
Какую бы стратегию самопредставления в чужом пространстве, если речь идет о манере одеваться, ни избирали «деревенщики» (избегая вещей, положенных творческому человеку по статусу, культивируя «скромность», «аккуратность», «безликость»[349] костюма либо социально маркируя его «простонародными» элементами), подчас они выстраивали ее, неявно ориентируясь на наличие внешнего наблюдателя. В подобных ситуациях они чувствовали себя, по определению Бурдье, замкнутыми «в пределах судьбы, навязанной коллективным восприятием»[350], и прежде всего, восприятием со стороны привилегированных групп. Игнорирование «деревенщиками» кодов городской одежды, во-первых, помогало им выйти за рамки сложившейся системы правил, разводивших «уместное» / «неуместное», «престижное» / «непрестижное», «модное» / «немодное», во-вторых, создавало условный ареал независимости, где можно было играть по своим правилам, избегая просветительски-педагогического контроля со стороны групп с более высоким образовательным статусом, и, что немаловажно, чувствовать себя собой. Утверждение права не подчиняться стандартам чужого культурного круга и было конечной, возможно, не отрефлексированной до конца целью «игр» с костюмом и самопредставлением. «Воспитанность как часть цивилизационного процесса, – замечал Виктор Живов, анализируя коллизии травматичного нахождения разночинцев 1860-х годов в дворянской среде, – ставит преграду для проникновения в элиту людей из других социальных групп»[351]. Бунт против «несправедливости» подобных социально-культурных ограничений выражается в акцентировании негативных отличий от норм элитарной культуры, которым «противополагаются естественность и искренность – постоянные составляющие любого антицивилизационного движения…»[352] В этой логике сопротивления закрепощающей власти норм, продуцируемых элитарной средой, было выдержано, например, поведение В. Астафьева. По свидетельству Владислава Матусевича, периодически видевшегося с писателем в 1970-е годы,
порой он сознательно простился, очень скромно одевался. <…> Любил вставлять в свою речь простонародные выражения и даже матерные словечки (говорил, что это у него родимое пятно беспризорного детства), сморкался на улице без помощи носового платка, и вообще, как мне казалось, сознательно эпатировал так называемое приличное общество[353].
Полубессознательные игры «деревенщиков» со стилем – пример того, как можно было получить символические дивиденды от тонкого использования шокирующе-неуместной либо естественной «простоты» и от просчитанного (с пресловутой «деревенской хитростью») совпадения / несовпадения с ожиданиями внешнего наблюдателя. Если публика в период послевоенного увлечения «русской эстетикой» хотела видеть высокого румяного крестьянского парня-самородка, то такую возможность ей предоставляли. В. Солоухин не без внутреннего удовлетворения вспоминал свое первое выступление перед московской публикой – чтение стихов в Литстудии МГУ и пришедшиеся ко времени «простонародные» детали собственного облика: «Я вышел в яловых сапогах и в черной косоворотке с белыми пуговицами. Был фурор»[354]. В дальнейшем Солоухин, следуя описанной Бурдье логике производства различий, мягко эксплуатировал в среде литературного истеблишмента свою внешность «богатыря-русака», в частности, сохраняя в речи оканье, которое, как замечают некоторые мемуаристы, почти исчезало в узком семейном кругу[355].
Проекция образа «героя в кирзовых сапогах» на личность В. Шукшина делает более очевидным маргинальный характер[356] этого автомифологизированного персонажа: «деревенски-колхозного» стиля упорно придерживается человек, давно живущий в городе и активно использующий для самореализации институты и инструменты городской культуры. Позиция Шукшина – своего рода эмблема консервативной модернизации со специфичными для нее процессами социокультурной маргинализации вчерашних крестьян, составивших в хрущевский период большую часть городского населения СССР[357]. «…Как крестьянин я, может быть, растянул этот процесс сближения (с городской культурой. – А.Р.), так сказать, на слишком долгое время и, может быть, был излишне осторожен»[358] – однажды заметил Шукшин. Дистанция, некогда отдалявшая его от социального и символического капитала, впоследствии, когда то и другое было присвоено, все-таки оставалась ключевым элементом самоидентификации[359]. Собственную позицию «деревенщики» упрямо определяли через констатацию удаленности – как от интеллектуалов, владевших символическим капиталом, так и от писателей, занимавших начальственные должности в творческих союзах и наделенных капиталом административным[360]. Но, отстаивая принципиальную «инаковость» по отношению к оппонентам, они вольно или невольно постулировали отсутствие единого смыслового пространства, в котором могла бы быть выработана общая система критериев и оценок, и тем самым давали понять, что диалог не предусмотрен[361].
Такого рода дистанцирование похоже на самомаргинализацию, сознательное удерживание себя на некотором расстоянии от пространства, где сосредоточены институциональные возможности и механизмы осуществления профессиональной карьеры, от групп, претендующих на выработку инноваций. Но в силу избранного рода занятий (писательство, режиссура) «деревенщики» оказывались дистанцированными и от разнообразных групп, которые можно включить в конструкт «народ». Конечно, с крестьянской средой они были связаны по рождению, она оставалась «питательной почвой» их творчества[362], оттого они испытывали серьезную нужду в контакте с ней. Тем не менее, идентификация с «материнской» средой и представляющими ее социальными группами была частичной, и «деревенщики» довольно остро переживали оправданный, но не ставший от того безболезненным выход за пределы сословно-родовой традиции. Даже благополучно «переквалифицировавшийся» в «писатели» и «интеллигенты» В. Солоухин изменение судьбы крестьянского рода в романе «Мать-мачеха» (1964) осмысливал как слом:
Допустим, станет Митя интеллигентом, пусть даже и самым завалящим, и вот уж линия его рода устремится из стихии деревни в стихию города. Уж будущий, допустим, сынишка Мити будет называться не сыном крестьянина, а сыном… ну, кем там сделается Митя к тому времени? И уж все потомство Мити на много колен вперед от рождения до смерти будет глядеть не на лошадиный круп со шлеей, а на цепочки уличных фонарей, на рояль, на книжные полки, на заманчивую прибранность рабочего стола, освещенного настольной лампой. <…>
Может быть, Митя-то весь не больше, чем игрушка в руках судьбы, как говорилось в старинных романах. Может быть, он лишь очередное звенышко в железной цепи закономерностей, и помимо его воли наступила пора сломаться, хрупнуть немудреной линии крестьянского рода. Так уж совпало, что самый излом, самый что ни на есть разрыв вековых волокон пришелся как раз на рыжего парня Митю. Больно ли будет Мите от этого излома – ничего пока не известно[363].
«Деревенщики» могли не без гордости прокламировать свое крестьянское происхождение («Я родом из деревни, крестьянин, потомственный, традиционный»[364]), но осознавали, что профессиональная деятельность дистанцирует их от «народа», требует трансформации многих психо-социокультурных склонностей и реакций, обусловленных крестьянским габитусом. У того же Солоухина появляется идея писателя «из крестьян» как медиатора между «народом» и образованной публикой – идея, с одной стороны, смягчавшая и оправдывавшая «разрыв» со средой, с другой стороны, опиравшаяся на разработанную просветительскую риторику и облегчавшая трудности культурного автоописания:
Ну да, ну да, – цеплялся он (Митя. – А.Р.) за разные теоретические соломинки, – многоступенчатое влияние и воздействие культуры. Я понимаю Блока и Вийона. Значит, я – передаточное звено. От них к народу, к Юрке Горямину и Васятке Петухову. Но что я могу им передать? Значит, что же я есть и зачем я? В университете студенты мне аплодируют и просят читать еще. Я читаю. А этим людям, с которыми я вырос, которые меня породили, мне нечего сказать! Позор! Позор и позор! Один ли Блок должен спускаться до них всех, они ли все должны подниматься до него, или такие, как я, должны уходить от них к тончайшему пониманию и ощущению Блока?[365]
Правда, в многозначительном финале романа, одной из бесчисленных парафраз на тему «возвращения к истокам», обманутый городом Митя, врачуя свои раны, припадал к «почве» – «разрыв» с нею, на который почти решился запутавшийся герой, оказывался деянием морально предосудительным, и в негласном соревновании города и деревни все-таки побеждала последняя.
Идея культурного посредничества, рупором которой Солоухин сделал своего героя, не разрешала конфликт лояльностей[366], на который «деревенщики», казалось бы, были обречены. Более того, она делала еще очевидней маргинальность их положения – его, огрубляя, можно описать как позицию «между крестьянством и интеллигенцией». Первое оставалось «почвой», разрыв с которой стал бы для автора-«почвенника» губительным в прямом и переносном смысле, вторая обозначала цель и идеал положительной самоидентификации. «Как трудно, невыносимо тяжело стать, да и потом сохранять себя интеллигентом при нашем-то мужицком мурле»[367], – писал об этом Астафьев. В подобном духе высказывался и Шукшин: «…мне бы хотелось когда-нибудь стать вполне интеллигентным человеком»[368].
Ориентация «деревенщиков» на сакрализованную традицией отечественной культуры модель интеллигента и присущие последнему формы самопредставления вписывалась в скрытую конфронтацию с интеллектуалом – антагонистом интеллигента, который якобы успешно владел всеми технологиями «умственного труда», но был вопиюще равнодушен к проблемам морали и общественному служению. Генеалогия интеллектуала национал-консервативной критикой тесно связывалась с процессами модернизации; его приверженность определенного рода ценностям (активность, рациональность, индивидуализм, антиавторитарность) и коммуникативные привычки после соответствующей реинтерпретации представали проявлением поверхностной эрудированности, эгоистического самолюбования, легкомыслия, неизменно отмеченных печатью искусственности.
В стремлении разграничить интеллектуалов и интеллигентов в «долгие 1970-е» «неопочвенники» шли в ногу с профессиональными идеологами, озабоченными вписыванием новых социальных и культурных реалий в привычные объяснительные схемы. Потребность в интеллектуальных группах, способных к производству инноваций, была ясна либералам из партаппарата, но официально запустить в обращение номинацию «интеллектуал» и тем самым признать существование особой позиции советские идеологи, видимо, не решались. В итоге они совершали удивительные риторические пируэты с единственной целью – обосновав необходимость в интеллектуалах, назвать их как-нибудь иначе, применительно к уже существующему репертуару номинаций:
…оно (понятие «интеллектуал». – А.Р.) страдает неопределенностью с точки зрения моральной позиции и социального назначения литературного творчества. В нем отсутствует главное и специфичное для функций писателя – требование активного добра, человечности, справедливости, прогресса. В этом отношении бесспорное преимущество имеет слово “интеллигент” в том смысле, в каком оно существует в русском языке с середины XIX века, в трактовке передовой демократической и социалистической мысли оно имеет не только, так сказать, культурную, образовательную, но и большую морально-этическую и социальную нагрузку[369].
Интересно, что участники контролируемой полемики на страницах советской прессы и свободных дискуссий в диссидентски-(там-)самиздатовской периодике, где можно было надеяться на использование альтернативных языков обсуждения современности, на самом деле в равной степени оперировали семантикой интеллигенции как «части». Например, в эссе Григория Померанца «Человек ниоткуда», написанном во второй половине 1960-х годов «по оси спора с почвенниками»[370] (Ильей Глазуновым, В. Солоухиным и др.), высказывались эксцентричные для официального обществоведения идеи (об исчезновении крестьянства и «народа» как исторической и культурной силы, ключевом значении интеллигенции – своеобразной диаспоры внутри общества). Предпринятая Померанцем инверсия традиционной модели соотношения «целого» и «части», где первое безусловно первенствовало над вторым[371], таила в себе вызов, поскольку за ней стояло более модернизированное видение социума: во-первых, стандарты гражданского, интеллектуального, нравственного поведения доверялось вырабатывать численно небольшому сообществу, консолидированному способностью к самостоятельному умственному и духовному поиску, во-вторых, роль промышленного производства и традиционного сельского хозяйства предлагалось снизить в пользу наукоемких технологий. Однако в утверждении исключительной «креативности» интеллигенции в «Человеке ниоткуда» национал-консерваторы усмотрели «отчетливую русофобскую позицию автора»[372]. Леонид Бородин позднее заявлял, что на семинарах Юрия Левады при участии «главного теоретика философского русофобства»[373] Померанца складывалась «своеобразная школа “антирусской подготовки молодых интеллектуальных кадров”»[374], запускались в оборот «антирусские идеи», в пересказе Бородина звучавшие так: «интеллигенция как носитель подлинной культуры антиприродна, то есть антинародна по существу и диаспорна по мироощущению… Мы – жуки в муравейнике, со скорбным достоинством свидетельствовали братья Стругацкие. Сегодня задача всякого интеллигента определить себя вне так называемого русского народа…»[375] Бородин в эссе Померанца увидел не особенно старательно зашифрованную идею ведущей роли еврейства в процессах модернизации, однако массовая аудитория претензии на «элитарность» приписывала интеллигенции как таковой, часто без уточнения ее этнической принадлежности – интеллигент есть тот, кто занят на «чистой» работе и взирает на простонародье свысока. «Неукоренный», антидемократически настроенный интеллигент для «неопочвенников» – это и есть интеллектуал с его стремлением противопоставить себя «толпе», «космополитизировать» знание, освободить его от национального духа, снять с себя моральные обязательства перед «народом». Так что интеллигента «подлинного» от «псевдоинтеллигента» можно было легко отличить по просветительским порывам и самоотверженному служению культуре[376].
«Деревенщики» среагировали и на семиотический аспект поведения «настоящего русского интеллигента». Здесь главными для них оказались высоко ценимые качества органичности и естественности, то есть самопредставления, свободного от потребности предъявлять кому-либо свою образованность, хорошие манеры, компетентность и, как следствие, демонстративно выстраивать дистанцию по отношению к не владеющим необходимыми социальными навыками и этикетными тонкостями. С благодарностью «деревенщики» вспоминали встречи с «настоящими интеллигентами», которые деликатно устраняли разделявшую собеседников дистанцию. О своем глубоко почитаемом литературном наставнике критике Александре Макарове Астафьев впоследствии говорил:
И как истинно культурный человек он умел не делать, не показывать дистанции. Пожалуй, это отличительная черта тех немногих подлинно культурных интеллигентных людей, которых я встречал. <…> Как сегодняшнему обществу недостает таких людей! Без снобизма, заносчивости, угодливости и перехмура. Зато сколько полукультурных снобов![377]
Естественность поведения в глазах «деревенщиков» была характеристикой, объединявшей рафинированного интеллигента и «простого» человека в рамках символической народной общности. «…Люди настоящие – самые “простые” (ненавижу это слово!) и высококультурные – во многом схожи, – заявлял Шукшин. – <…> Ни тем, ни другим нет надобности выдумывать себе личину, они не притворяются…»[378]. Органичное поведение интеллигента и крестьянина, по Шукшину, не нуждается в «личине», в то время как поведение интеллектуала, порожденного городской цивилизацией, в восприятии тех, кто этой цивилизации до определенного момента не был причастен, оставалось маркированным[379], потому воспринималось как утрированно раскованное и утрированно артистичное[380]. Столь же искусственным и тоже маркированным виделось «деревенщикам» поведение вчерашнего деревенского жителя, а сегодня мещанина, чье овладение культурой было формальным, ориентированным на «маленькие нормы»[381]. «Культурность», призванная прежде всего посылать окружающим сигнал об изменившемся социальном статусе ее носителя, оценивалась «деревенщиками» иронически, а то и саркастически. Шукшин обращался к читателю:
Это вранье, если нахватался человек «разных слов», научился недовольно морщить лоб на выставках, целовать ручки женщинам, купил шляпу, галстук, пижаму, съездил пару раз за рубеж – и уже интеллигент. Про таких в деревне говорят: «С бору по сосенке». Не смотри, где он работает и сколько у него дипломов, смотри, что он делает[382].
Сами же «деревенщики» склонялись к противоположной стратегии самопрезентации – поведению «естественному», основанному на игнорировании условностей этикета, прямоте, спонтанности реакций, «искренности» (то есть к акцентированию не «культивированного», а «природного»). Такое поведение, как не раз отмечалось, было попыткой достичь независимости от власти чужих правил. Выбор в пользу «естественного» поведения мотивировался следованием «натуре» и нежеланием осваивать «вторичный» пласт культуры – «поверхностную» цивилизованность, нашедшую выражение в тех элементах светскости и свободы специфически интеллектуалистской самопрезентации, которой таланты из провинции противопоставляли молчаливую серьезность, пусть иногда граничащую с тяжеловесной неуклюжестью, но таящую глубину и незаемный жизненный опыт. Описывая участие в 1959 году в литературном семинаре, Астафьев по этому признаку разводил писателей из провинции и «высоколобую» московскую творческую среду:
Я был на этом семинаре и убедился воочию, что молодые «культурные» москвичи, имеющие под боком первоклассные библиотеки, академиков, маститых писателей и т. п., ничего за душой не имеют, кроме цинизма, пошленьких анекдотцев, литературных сплетен и беспрецедентного апломба. Они и научились-то только тому, чтобы плюнуть в руку, которая дает им хлеб. Рабочий для них – быдло с жерновами вместо мозгов. <…> Ведь не они дали рассказы-то на-гора во время работы семинара, а все те же периферийщики, умеющие работать и не говорить красиво, не удивлять блестящими верхушками, нахватанными повсюду[383].
Соединив оппонентов с «цивилизованностью» («блестящими верхушками, нахватанными отовсюду»), маркировавшей чужой социально и культурно язык, посчитав ее искусственной и избыточной, для себя «деревенщики» избрали, как подразумевалось, более тяжелый, требующий серьезных внутренних усилий путь – путь внутреннего, глубинного приобщения к культуре, самолегитимацию через «культуру», минуя «культурность», иначе говоря, путь превращения в «подлинного интеллигента».
Впечатлившие «деревенщиков» интеллигентские стратегии публичной самопрезентации с эффектом не акцентируемой, но всеми ощутимой значительности (тогда говорят о «масштабе», «величине» личности) были стратегиями мягкого контроля над «объективирующим взглядом других»[384]. Интеллигентские естественность и органичность в сочетании с образованностью и культурной утонченностью, так же как крестьянские органичность и естественность в сочетании с душевной деликатностью, давали в сумме «внутреннюю культуру». Судя по высокой частотности использования этого понятия в публицистике и письмах «деревенщиков», оно стало для них одним из наиболее эффективных способов культурной самолегитимации. Астафьев доказывал:
…чем выше уровень эстетический у человека, чем богаче его внутренняя культура… тем он сдержанней, уважительней и человечней в своих замечаниях[385];
Дело ведь не в классах, а в самообразовании, в прирожденной внутренней культуре, которая порой бывает тоньше, поэтичней, чем у людей с «поплавком» на борту пиджака[386].
Как можно понять, то имплицитное, то эксплицируемое Астафьевым противопоставление «внутренней культуры» симуляции этого качества при помощи академических знаков отличия (диплом, «поплавок») в приведенных фрагментах возникает неслучайно. Авторские суждения полемически заострены против тех, кто был источником социального и культурного унижения и боли от его неизжитых последствий. Уязвленность культурной «неполноценностью», пережитая некогда «деревенщиками», оказалась тем более сильной, оттого что вошла в резонанс с инкорпорированным в крестьянина чувством «отсталости» и желанием от него избавиться. «Внутренняя культура», о которой вел речь Астафьев, была идеальным вариантом мягкой трансформации габитуса путем глубокой, последовательной, нетравматичной интернализации культурных норм. Именно это понятие, обладавшее выраженным терапевтическим смыслом, позволяло «деревенщикам» согласовывать две идентификационные модели (народно-крестьянскую и интеллигентскую) и самоопределяться в поле культуры, занимая позицию антиинтеллектуалистскую и антицивилизаторскую, но требующую «внутренней» приобщенности к культуре, дающую возможность почувствовать себя «интеллигентом духа»[387].
Культура и культурность: Производители и потребители
В основе провозглашаемых «деревенщиками» намерений пробуждать в читателях «чувства добрые», усмирять разрушительные инстинкты лежало признание педагогической функции культуры, точнее Культуры – «образовывающей» и «образующей» человека. Отсюда же исходило стремление писателей ценностно ранжировать режимы приобщения к ней, отделять подлинное «вживание» от имитации. Так возникла упоминавшаяся в предыдущих разделах типология социальных персонажей, дифференцированных по степени интернализации культуры, – интеллектуал, мещанин, интеллигент, «человек из народа». Реанимация «неопочвенниками» череды этих узнаваемых фигур во многом есть следствие «картографирования» реальности через призму конфликта культуры и цивилизации, который их интеллектуальным предшественникам в XIX и начале ХХ века казался надежным аналитическим инструментом и в таковом качестве продолжал использоваться в «долгие 1970-е»[388]. По сути, «неопочвенники» с небольшими вариациями воспроизвели давно знакомую идеологическую конфигурацию, в которой два первых персонажа объединялись причастностью к городской культуре и отсутствием «оригинальности», «подлинности», но разводились как «высокий» и «низкий» варианты современного урбанизированного человека. Стойкое неприятие интеллектуалов сплачивало «деревенщиков» как представителей «почвы», а конфликт с мещанством помогал осознать себя интеллигентами, причастными настоящей, не суррогатной культуре.
В «долгие 1970-е» критичное отношение к мещанству, урбанизирующимся выходцам из рабоче-крестьянской среды не было прерогативой «неопочвенников», но объединяло практически все группы отечественной интеллигенции, которая всегда перед лицом этой разновидности Другого консолидировалась весьма успешно[389]. Мещанин в позднесоветский период в официальном идеологическом дискурсе трактовался как балласт, отягчающий движение социалистического общества в будущее, носитель социального эгоизма, самим фактом существования тормозящий решение «архитрудной задачи воспитания нового человека»[390]. Подводя итоги дискуссии о мещанстве, прошедшей в 1967 году на страницах «Литературной газеты», Феликс Кузнецов указывал на ошибки Леонида Жуховицкого и Юрия Сотника, усомнившихся в наличии мещанства в СССР, и демонстрировал образец «диалектичного» подхода к данной проблеме:
…[проблема] преодолени[я] мелкобуржуазной, мещанской психологии и нравственности не решается лишь в сфере сознания и так быстро, как нам хотелось бы. Она будет решена, в конечном счете, упорным трудом народа, развивающего производительные силы общества и в этом труде, созидании преобразующего себя[391].
Интеллектуалов либерального толка мещанин оскорблял ограниченностью интересов, вкусовой эклектикой и потребительским настроем[392], а вот критика мещанства национально-консервативными группами методично претворяла контрмодернизационные реакции в культурно-идеологическую программу. В знаменитой статье М. Лобанов ядовито рассуждал об уродливом явлении – «просвещенном мещанстве» (консервативная версия «человека массы»), вызванном к жизни процессами модернизации, и доказывал, что оно возникает в результате разрыва с «первоисточником культуры» – «народной почвой». В контексте размышлений Лобанова возникало имя Александра Герцена, чьи обличительные тирады в адрес европейского мещанства и «буржуазности» были близки позднесоветским консерваторам. Варьируя идеи Герцена и объясняя современные реалии в духе романтической риторики «органичности», критик заявлял: «Нет более лютого врага для народа, чем искус буржуазного благополучия. Это равносильно параличу для творческого гения народа»[393]. Виктор Чалмаев, также комбинируя «организмическую» и «механистическую» метафорику, диагностировал пугающий процесс «выветривания почвы» – освобождение составляющих ее песчинок от связи с целым и возникновение «толпы»:
Толпа – <…> свидетельство распада народа на механическое, связанное чисто материальными нуждами, арифметическое множество. <…> в ней происходит понижение психического типа личности, человеку внушается утилитарная мысль, что лучше быть сытой свиньей, чем недовольным, изнемогающим от гуманистических тревог и сомнений Сократом[394].
В статье о Максиме Горьком Чалмаев в самых мрачных тонах рисовал натиск в начале ХХ века на Россию «одноклеточных хищников»[395], «буржуазного чудовища материализма»[396] и перелагал на язык позднесоветского национал-консерватизма идею «антибуржуазной» сущности русского народа: Россия – «омут» в «мелководной» Европе[397], а потому «русский народ не мог так легко и безболезненно, как это произошло на Западе, обменять свои былые святыни на чековые книжки…»[398] Старательное отождествление критиком модернизационного и европейского, утверждение национальной самобытности в акте отказа от «иностранного»[399], как говорилось, были далеко не новы: Лобанов, Чалмаев, Кожинов, позднее Селезнев следовали в этом за русскими интеллектуалами последней трети XIX века (прежде всего Константином Леонтьевым и Николаем Данилевским), представителями «скифства», «евразийцами», тревожившимися по поводу «обуржуазивания» русской жизни и народа[400]. «Деревенщики» разделяли давнюю неприязнь русской интеллигенции к мещанству. Внимание к проблемам культуры и ее «цивилизационному» аспекту – «культурности», усиленное обстоятельствами их собственной социальной биографии, продолжало традицию русской консервативной мысли рубежа XIX – ХХ веков, с той существенной разницей, что критика мещанства, его вульгарных вкусов и примитивных ценностей на этот раз исходила от маргинализированных представителей крестьянства.
В прозе «деревенщиков» проблематика мещанства и «культурности» более или менее последовательно тематизирована. Власть мещанских вкусов и представлений для многих из них – фактор, всецело определявший социокультурную специфику современности. «Эпоха великого наступления мещан, – писал Шукшин. – И в первых рядах этой страшной армии – женщины. Это грустно, но так»[401]. Новая гендерная специфика, которую, наблюдая за современной женщиной, то надрывно, то иронично описывали «деревенщики», соединяла наивно-агрессивный феминизм (например, «Воспитание по доктору Споку» (1974) В. Белова) с мещанской зацикленностью на престиже и моде. То и другое были новейшими городскими веяниями, дезориентировавшими героинь, которые, полагал Белов, выбирая роль современной женщины, а не хранительницы домашнего очага[402], уходят от своей социальной, культурной и биологической сущности. В повести «Моя жизнь» (1974) перемещение героини, Тани, в город из пространства традиции – деревни, где она находилась в эвакуации с матерью и братом, подано автором как бессознательная утрата ею моральных ориентиров с неизбежным последующим превращением в незадачливую и вместе с тем хваткую мещанку[403], стремящуюся любыми путями наладить «личную жизнь»[404]. Мещанство, по мысли «деревенщиков», прирастает за счет покинувших деревню бывших сельских жителей, чье обращение в горожан часто сводится к разучиванию элементарных правил поведения в новом пространстве. Шукшин типовой вариант адаптации деревенского жителя к городской жизни описывал таким образом:
Деревенский парень, он не простой человек, но очень доверчивый. Кроме того, у него «закваска» крестьянина: если он поверит, что главное в городе – удобное жилье, сравнительно легче прокормить семью (силы и сметки ему не занимать), есть где купить, есть что купить – если только так он поймет город, он в этом смысле обставит любого горожанина. Тогда, если он зажмет рубль в свой крестьянский кулак, – рубль этот невозможно будет отнять ни за какие «развлечения» города. Смолоду еще походит в кино, раза три побывает в театре, потом – ша! Купит телевизор и будет смотреть. И будет писать в деревню: «Живем хорошо. Купил недавно сервант. Скоро сломают тещу, она получает секцию. Наша секция да ее секция – мы их обменяем на одну секцию, и будет у нас три комнаты. Приезжайте!»[405]
Писатель не скрывал иронии по поводу потребительской ориентации новых горожан и их способности довольствоваться суррогатами культуры, хотя от морализаторства по поводу массового исхода деревенских жителей в город удерживался, видимо, осознавая, что такого рода упреки будут мгновенно обращены против него самого. Весной 1966 года на обсуждении с молодыми физиками в Обнинске фильма «Ваш сын и брат» (1965) Шукшину задали глубоко его задевший вопрос: «А сами вы хотели бы сейчас пройтись за плугом?»[406]. Впоследствии Шукшин специально оговаривал отсутствие у него каких бы то ни было предубеждений по поводу возможности покинуть деревню: «Я люблю деревню, но считаю, что можно уйти из деревни. И Ломоносов ушел из деревни, и русский народ от этого не потерял, но вопрос: куда прийти?»[407]. Показательно, что «возвращение на родину» встроившегося в городскую жизнь бывшего колхозника – мотив, который критика считала опознавательным знаком «деревенской прозы»[408], – у Шукшина иногда разворачивается в пространстве сна, мечты, как в рассказах «Два письма» (1967), «Жена мужа в Париж провожала…» (1971), или превращается в ритуал, не имеющий последствий («Выбираю деревню на жительство», 1973), то есть оборачивается «невозвращением». Еще более драматичный вариант возвращения «к истокам» был разыгран Шукшиным в «Калине красной», где, перенесенное в реальность, оно завершилось трагедией, подтвердившей невозможность возврата.
В отличие от Шукшина, В. Астафьев не заботился о лояльности в оценке миграции из деревни в город. В «Зрячем посохе» (1978–1982, опубл. 1988) массовый исход вчерашних крестьян он интерпретировал как поворотный исторический пункт: это – отрыв от земли, «корней», за которым стоит переориентация человечества с «подлинного» на «искусственное», утрата индивидуальности и всеобщая унификация. Вероятно, психологической подоплекой подобных оценок был инстинктивный страх перед тем, что Зигмунт Бауман называет «текучей современностью»[409] – отсутствием сложившихся паттернов и порядков, регулировавших человеческое поведение, неясностью ценностных норм и ориентиров. При этом Астафьев переворачивает прогрессистские концепции и утверждает, что внутри «несовершенного» социального порядка деревни были все потенции для развития личности, ныне ставшей лозунгом движения по пути прогресса. Старая крестьянская жизнь, с точки зрения писателя, и была «царством свободы», неведомой современному цивилизованному человеку:
…крестьянин был всегда занят, всегда в заботах и работах, это потом, не сами крестьяне, а те, кто «радеть» будет за них и «освобождать» их, назовут жизнь крестьянина кабалой и освободят от кабалы…
Так вот что же это мы, вчерашние крестьяне, освободившиеся от «кабалы», вдруг затосковали о прошлом, запели, заныли, заголосили о родном уголке, о сельском мире. Мы ж свободны! Достали справочки и мотанули из села, от коллективного труда, дали взятку местным властям за убег в город, не вернулись из армии иль из заключения в отчий дом, словом, правдами, чаще неправдами сменившие одно крепостное право на другое, на все сжигающую и пожирающую кабалу прогресса после деревенского «рая», кажущегося пределом сбывшихся мечтаний и надежд. <…> Правда, «свободу» эту мы не знаем куда девать, оказались неподготовленными к ней и ударились в разгул, в пьянство, ухватились за то, что близко лежит и без труда дается – жуем солому (так бы я назвал массовую культуру), да еще и облизываемся[410].
Писатель использует местоимение «мы», как бы причисляя себя к этой новообразованной общности вчерашних деревенских жителей, но скорее «мы» включает лишь отторгаемую часть собственного «я» и отождествляется с теми социально-культурными явлениями, оправдать которые он не согласен. Бескомпромиссность неприятия «человека массы» в публицистике Астафьева порой удивительна. Безликость, «усредненность» мещанина для него есть следствие культурной маргинальности, получавшей в данном контексте исключительно негативные коннотации. В принципе, маргиналами были и сами «деревенщики», балансировавшие на грани двух миров (крестьянского и городского), но стремившиеся минимизировать отрицательные эффекты своего положения желанием «не оторваться от народа» (то есть сохранить тесную связь с культурой деревни) и одновременно войти в культуру, исторически генерируемую городом. Однако применительно к «межедомку» – мещанину маргинальность трактовалась не как включенность в обе традиции, а как исключенность из обеих. «Культурность», которой жаждал мещанин, обличалась Астафьевым иногда в почти невротической тональности, хлестко, памфлетно, но слабо мотивированно.
Красноречивая иллюстрация обсессивной антимещанской риторики – фрагмент главы «Не хватает сердца» («Норильцы») из «Царь-рыбы» (1975–1977), в которой писатель впервые безоговорочно свяжет с экспансией мещанства весь советский проект (в письмах он также не раз будет возвращаться к этой идее: «Ах какое мещанство-то мы возродили взамен низвергнутого пятьдесят лет назад!»[411]). Исключенная цензурой при публикации глава содержала эпизоды, где рассказывалось о поездке повествователя за лекарством для умирающего брата. Оказавшийся на теплоходе соседом «советского баринка»[412], он сначала весьма желчно описывает «культурные» повадки своего спутника: тот делает в каюте гимнастику, тщательно умывается, вытирается огромным полотенцем, вертится перед зеркалом, играя мускулатурой, утомленно пьет коньяк, закусывая апельсином, хвастается поездкой в Париж и пробует завести разговор, подтверждающий его начитанность («“Раковый корпус”, “В круге первом” Солженицына читали?»[413]). Язвительность по поводу демонстрации соседом принадлежности к кругу «культурных» людей («…вот ведь выучился ж где-то культуре человек, а мы, из земли вышедшие, с земляным мурлом в ряды интеллигенции затесавшиеся, куда и на что годимся? <…> Не умеем создать того шика, той непринужденной небрежности в гульбе, каковая свойственна людям утонченной воспитанности…») довольно быстро сменяется гневными обличениями случайного соседа:
«Парижанин» утомился, я отвернулся и стал глазеть в окошко – всю-то зимушку это, нами новорожденное существо таскало, крадучись, денежки в сберкассу, от жены две-три прогрессивки «парижанин» ужучил, начальство на приписках нажег, полярные надбавки зажилил, лишив и без того подслеповатого, хилого северного ребенка своего жиров и витаминов. По зернышку клевал сладострастник зимою, чтоб летом сотворить себе «роскошную жизнь».
<…> Где-то, поди-ко, был или еще и есть в этом самозабвенно себя и свои культурные достижения любящем человеке тот, который строем ходил в пионерлагере и взухивал: «Мы – пионеры, дети рабочих!..», потом тянул на картошке, моркошке да на стипендии в политехе; где-то ж в костромской или архангельской полуистлевшей деревне, а то и на окраине рабочего поселка с названием «Затонный» доживает или дожила свой век его блеклая, тихая мать либо сестра-брошенка с ребятишками от разных мужиков – жизнь положившие на то, чтоб хоть младшенького выучить, чтоб он «человеком стал».
Такие уже на похороны не ходят, не ездят. Зажжет интеллектуал свечу негасимую перед «маминой» иконой, то есть из родной деревни вывезенной, с разрешения жены напьется и церковную музыку в записи послушает, скупую слезу на рубаху уронит. Ложась спать, тоскливо всхлипнет: «Э-э-эх, жизнь, в рот ей коптящую норильскую трубу… Отпеть маман просила, да где она, церковь-то, на этой вечной мертвой мерзлоте?..»[414]
Детали социальной биографии, подробно и неоправданно пространно, если учесть, что речь идет о второстепенном персонаже, прописанные Астафьевым, принадлежат не конкретному герою, а типажу, чьи «параметры» уже предзаданы[415]. Иначе говоря, крайняя саркастичность портрета советского мещанина никак не вытекает из сюжетных перипетий, но сопровождает повествование как развернутый авторский комментарий, сделанный «по поводу». «Мещанство» и «культурность» остаются здесь, в художественном тексте, элементами идеологического дискурса – их содержание автор более или менее подробно проговаривает, но они не трансформируются в сюжет, сцены, повествование, систему героев, стиль (соответственно и исследователи при литературоведческом анализе вычленяют их как «элементы публицистичности»). Впрочем, по отношению к творчеству Шукшина это наблюдение было бы уже неправомерным: писатель и режиссер весьма определенно формулировал свое отношение к проблемам мещанства и «культурности», делая их, в отличие от Астафьева, частью сюжетных коллизий рассказов, повестей, фильмов, «растворяя» в системе мотивов, портретных деталях, речевых характеристиках персонажей.
Два следующих параграфа работы написаны в духе case study: случаи Шукшина и Астафьева, вместившие опыт индивидуальных поисков и кризисов, по моему убеждению, рельефно раскрывают перипетии культурного самоопределения «деревенщиков» как сообщества. Эти два во многом пересекавшиеся автора в рефлексии культуры двигались в разных направлениях. Астафьева культура больше интересовала как символическая, но вполне функциональная ценность: все, что говорилось выше о самосоздании субъекта через культуру, по отношению к этому писателю актуально более чем по отношению к любому другому представителю «деревенской прозы». Астафьев был особенно восприимчив к «возвышающему» и «воспитывающему» воздействию культуры, возможно, потому что прошел войну и столкнулся с ситуациями крайнего расчеловечивания. Соотнесение «реального» исторического человека с «вершинами» культуры, во-первых, обнажало глубокое зияние между «опытом» и «образцами» (отсюда астафьевская романтическая риторика в отношении неизбывного конфликта гениев культуры, терзающих себя ради блага человечества, и примитивной толпы), во-вторых, побуждало проблематизировать основания человеческой природы и культуры. Шукшина-художника, напротив, культура больше интересовала как «практика». Он внимательно наблюдал за попытками внедрить городскую интеллигентскую программу «культурности» в крестьянский мир, за изменениями «человека почвы», включенного в новый проект. Негативные последствия «оцивилизовывания» Шукшину, как и некоторым другим «деревенщикам» (например, Ф. Абрамову[416]), казались очевидными, но тогда особо острым становился вопрос об альтернативных программах развития. Специфически консервативные смыслы философско-идеологической позиции «деревенщиков» в отношении официального прогрессистского дискурса о культуре, попытки его проблематизации, трактовка пропагандируемых новых культурных практик станут предметом анализа в двух следующих разделах.
В работах о Шукшине часто цитируется его высказывание из статьи «Послесловие к фильму» (1964): «…есть культура и есть культурность. Такая культурность нуждается почему-то в том, чтобы ее поминутно демонстрировали, пялили ее в глаза встречным и поперечным»[417]. Объясняющее многое в эстетике раннего Шукшина, культивировавшего «простоту» характеров и стиля, связанное с психологически травмирующими обстоятельствами его биографии, оно требует контекстуализации.
«Культурность», вызывавшая у писателя иронический протест, была важным элементом «оттепельной» программы по реформированию повседневной сферы и поведенческих образцов, которые надлежало усвоить современному советскому человеку[418]. Актуальность подобной программы была обусловлена двумя обстоятельствами. Во-первых, на рубеже 1950 – 1960-х годов происходила частичная эмансипация индивида от государства: за личностью было признано право иметь приватную сферу, разнообразить практики потребления, выбирать формы проведения досуга. Во-вторых, потребность в «окультуривании» повседневной жизни, распространении и внедрении современных цивилизационных стандартов диктовалась крупными социальными сдвигами, прежде всего ростом городского населения. В общем, дискурсы и практики «культурности» («внешней культуры»[419]) должны были пропагандистски сопровождать очередную фазу модернизационного проекта. В такой атмосфере вышел сборник «Эстетика поведения» (1965), первоначальный тираж которого в 300 тысяч, по утверждению составителя и редактора издания Валентина Толстых, был распродан в течение нескольких дней[420]. Авторы книги призывали облагородить поведение советского человека в будничной сфере, не преминув мотивировать это необходимостью самосовершенствования на пути к коммунизму[421].
На повестку сегодняшнего дня встал вопрос создания нового человека, человека будущего коммунистического общества. <…>
<…> Не успеешь оглянуться, и появятся юноши и девушки из сегодняшних перво– и второклассников. И хочется видеть их такими же смелыми, мужественными, красивыми, обаятельными, умными и – хочется подчеркнуть – воспитанными, как, скажем, герои сегодняшнего дня, обессмертившие себя навеки, – советские космонавты[422].
Во вступительной статье к «Эстетике поведения» Лариса Орданская предельно ясно раскрывала не только задачу запущенной программы (воспитать гармоничного человека, пригодного для жизни в коммунистическом обществе), но и односторонне-иерархическую модель цивилизующего обучения – что-то вроде «спуска образцов»[423]. Предполагалось, что советская интеллигенция, в силу своего социального статуса освоившая стандарты культурного поведения, ознакомит с ними обычных граждан, которые по разным причинам сделать этого не смогли. Орданская допускала характерную оговорку – на мысль о создании книги, ненавязчиво знакомящей с правилами хорошего тона, ее навело общение с молодыми деревенскими жителями:
Встретившись с молодежью села, хорошей, чистой, умной, мы сразу увидели, как нуждаются они в помощи по самым элементарным вопросам воспитания. Мы увидели, что на них подчас одежда из дорогих тканей, но сшита безвкусно, что они плохо двигаются, что на танцах неуклюжие юноши не умеют ни встать, ни сесть, ни пригласить девушку на танец, ни посадить ее на место. Что иные ребята понятия не имеют о том, что, придя в общественное место, надо снять головной убор, если в помещении тепло – раздеться, девушку или женщину надо пропустить вперед, если она несет тяжелую сумку, помочь ей, некрасиво ругаться вообще, а в присутствии женщины, девушки или ребенка тем более и т. д. и т. п.[424]
Сельская молодежь уподоблялась здесь материалу, требующему обработки, и автоматически превращалась в основной объект педагогического воздействия, что еще раз подчеркивало: программа «культурности» – произведение интеллигентское и городское. Именно с точки зрения городского образованного слоя (интеллигенции), присвоившего монополию на экспертную оценку культурных практик, крестьянский образ жизни и «деревенские будни» признавались «убогими», «дремуче-патриархальными», то есть не маркированными принадлежностью к цивилизации и потому подлежащими преобразованию.
В целом, интеллигентская риторика 1960-х, как это нетрудно заметить, тяготела к двум типам мотивации «культурного строительства» на селе: первый (превалировавший) основывался на уже упомянутом «спуске образцов», второй, подпитывавшийся «народническими» идеалами и стилистикой, убеждал в необходимости учиться у «народа», а не только учить его. Так, отказывавшийся играть «на понижение» с потенциальным сельским зрителем / слушателем режиссер Григорий Козинцев заявлял:
Понятие «культура села» мне кажется неестественным. Двух культур у нас не существует. Я считаю, что селу, как и городу, нужны симфонические оркестры, эрмитажи, театр Брехта. В понятии же «культура села» мне видится какое-то противопоставление, за которым – намек: городу нужно одно, селу другое[425].
Козинцев ведом благой идеей познакомить деревенских жителей с «настоящей» культурой, однако при этом он не сомневается, что набор подлежащих распространению культурных ценностей (симфонические оркестры, эрмитажи, театр Брехта) будет определяться городскими экспертами, в данном случае полагавшими, что Брехт жизненно необходим крестьянину, которого надо только «доразвить» до понимания экспериментов немецкого драматурга. Противоположную точку зрения в ходе той же дискуссии высказал Михаил Ульянов, который апеллировал к опыту общения с «народом» во время съемок фильма «Председатель» (1964) и заявлял, что у деревенских жителей есть сложившиеся вкусы, далекие от модернизма:
В том негласном споре об эстетических возможностях жителей села, который все еще ведется по принципу «опускаться или дорастать», я со всей ответственностью за свои слова утверждаю, что работникам искусства надо именно дорастать до крестьянства, до героев наших кинофильмов.
Дорастать – значит перенимать у народа не только душевное здоровье, ясность чувствований и поступков, но и свежесть эстетического восприятия, то здоровое, зоркое видение мира, которое безошибочно отличит модерновую подделку от чистого золота правды…[426].
Итак, односторонняя и категоричная интерпретация горожанами другого для них образа жизни и соответствующая просветительская риторика стали сильным раздражителем для отдельных авторов, составивших впоследствии «деревенскую» школу. «Я представляю себе общество, где все грамотны, все очень много знают и все изнурительно учтивы»[427], – с чрезмерным простодушием рисовал Шукшин результат культурного реформирования села и города, обнажая эпитетом «изнурительно учтивы» иронический подтекст оценки идеального социума. Неудивительно, что существенным дискурсивным компонентом оформлявшегося литературного «неопочвенничества» стало указание на ограниченность интеллигентского видения деревни и встречная критика поставляемых городом реформаторских проектов. Шукшина, к примеру, занимало столкновение, в духе консервативной логики, «обычая», некогда спонтанно возникшего в недрах крестьянской жизни, и «проекта» – цивилизационного стандарта, повсеместное насаждение которого упрощало «живую жизнь»:
Это уже черт знает что. Дайте проект: как нам жить? Как рожать детей? Как наладить добрые отношения с тещей? Как построить себе удобное жилье? Было бы из чего – построят без городского проекта[428].
Критика идеологии «проектирования» в различных формах и на различных уровнях вообще была важным элементом национально-консервативных воззрений. Можно назвать целый ряд программных высказываний на этот счет: от антиструктуралистских статей Петра Палиевского, доказывавшего, что «жизнь не является моделью и не построена из моделей»[429], что «высокие принципы» организации объекта лежат «вне досягаемости структуралистских систем»[430], до возмущения «моделированием» интеллектуалами (подразумевается, еврейскими) перспектив развития русских как этнической группы в романе В. Белова «Все впереди» (1986)[431]. Шукшин, воспринимавший «окультуривание» как устранение из жизни личности и общества всего своеобычного, неповторимого, непредсказуемого, также был подозрителен к «проектам» и пытался фабульно и стилистически конкретизировать романтическую антитезу культуры и цивилизации.
Программа «культурности» к положению советского крестьянства имела непосредственное отношение еще и потому, что властями она согласовывалась с намеченными преобразованиями в социально-экономической структуре села. С середины 1950-х начались «укрупнение» малорентабельных колхозов, их перевод в совхозы с попутной ликвидацией «неперспективных» деревень. В этот период Н.С. Хрущев, вопреки провозглашенным на ХХ съезде КПСС планам развертывания индивидуального строительства на селе, стал энергично продвигать идею «агрогородков» – унифицированного обустройства сел по городскому типу. Задуманная реорганизация сельского хозяйства должна была уменьшить государственные затраты на содержание малоэффективной отрасли и интенсифицировать ее развитие, однако предлагаемые реформы не учитывали ни историко-культурных оснований крестьянского уклада, ни куда более утилитарного аспекта – специфики отраслевой специализации колхозов и их технической обеспеченности. Череда сменяющих друг друга партийных постановлений о развитии сельского хозяйства сначала, видимо, породила некоторые иллюзии (В. Астафьев даже написал роман «Тают снега», герои которого «вдохновляются» решениями сентябрьского пленума ЦК КПСС 1953 года[432]), но уже в 1960-е годы «деревенщики» сосредоточились на осмыслении «раскрестьянивающего» эффекта осуществляемых властью мер. «Неопочвеннический» дискурс конца этого десятилетия в его характерном для «деревенщиков» варианте стал попыткой скорректировать государственную политику, ретушировавшую подлинные, с их точки зрения, проблемы деревни. Элементы подобного дискурса, с акцентированием стилевого и мировоззренческого противостояния «культурного» города «некультурной» деревне, будут проанализированы в киноповестях Шукшина «Живет такой парень» (1964), «Ваш сын и брат» (1965), «Печки-лавочки» (предположительно 1967)[433] и одноименных фильмах[434]. Киноповесть, по мысли Шукшина, в отличие от технического «режиссерского» сценария, представляет собой «изложение общей концепции фильма в литературном тексте, фиксирующем суть характеров, ситуаций и допускающем импровизацию в процессе создания экранной формы»[435]. Поскольку «культурность» по природе своей требует предъявления внешнему наблюдателю (зрителю), идеологические подтексты, с нею связанные, уместно проанализировать именно на материале киноповестей и фильмов, визуализирующих «культурность». Понятно, что эффект визуализации в той или иной степени достигается и в литературном тексте при помощи специфично-литературных приемов, но тем интереснее наблюдать за корреляцией текста киноповести и визуального образного ряда фильма – за тем, что попадает в камеру, а что представляется избыточным для создания нужного эффекта.
Оппозиция город – деревня, которая современным исследователям подчас кажется безосновательно гипертрофированной[436], для Шукшина приблизительно с середины 1960-х годов стала одним из главных инструментов сюжетного упорядочивания материала[437]. В конфликте двух типов практик (условно говоря, «городских» и «деревенских»), который был предметом авторского осмысления и одновременно задавал ракурс взгляда на проблему, реализовалась общекультурная дихотомия «субстанции» и «формы». Эти понятия, как показал П. Бурдье, не имеют стабильного ценностного наполнения и трактуются в зависимости от позиции, занимаемой группой или субъектом в социальном пространстве. Шукшин отстаивал точку зрения подчиненных, являвшихся объектом культурной «обработки» групп и придерживался характерного способа маркирования универсальной оппозиции «материи» и «видимости»: «…действительность против подделки, имитации, пускания пыли в глаза, <…> натуральность (“он естествен”) и безыскусность против сложности, позерства, гримас, манерности и церемонности…»[438] С точки зрения вписанной в габитус убежденности в подлинности «субстанции», «материи» того, что не формализовано, идет «от натуры», а не «от культуры», Шукшин и подвергал сомнению нормы культурного городского поведения.
В первом полнометражном шукшинском фильме и написанной по его следам киноповести (в основе сценария – рассказы «Классный водитель» и «Гринька Малюгин», оба 1963) городского пространства нет, но присутствие города обозначено в фабуле вереницей встреч главного героя, шофера Пашки Колокольникова, с представителями городского образованного класса. Социальное пространство современной деревни в изображении Шукшина – это пространство, видоизменяемое новыми для крестьянской среды культурными стандартами. Достаточно вспомнить знаменитую сцену демонстрации мод в сельском клубе. Показанная манекенщицами одежда, моделирование ведущей условных ситуаций ее использования (кормление «маленьких пушистых друзей»[439], работа в полеводческой бригаде, приятное времяпрепровождение на пляже, вечерние развлечения или комфортный домашний быт, допускающий пошив модного платья для повседневной носки) контрастно противопоставлены реалиям существования человека села (эпизоды грязной работы в колхозе, в которой заняты по преимуществу женщины) и обесценены своей надуманностью. Тем не менее, в сцене показа мод в сельском клубе камера внимательно фиксирует заинтересованные лица девушек-зрительниц, захваченных пропагандой иного образа жизни и старательно впитывающих доносящиеся со сцены рекомендации.
Критерии бытовой «культурности» в той или иной мере уяснены и главным героем фильма Пашкой Колокольниковым. Его «представление себя другим в повседневной жизни» (И. Гофман) периодически подчиняется власти этих не всегда понятных, но завораживающих норм. Желая произвести впечатление на библиотекаршу Настю, он представляется ей москвичом – фигурой в культурном смысле привилегированной. Затем в библиотеке он требует «Капитал» Маркса, где якобы осталась недочитанной глава (самостоятельное чтение, «проработка» классиков марксизма-ленинизма – одна из широко пропагандируемых в советском обществе практик самосовершенствования, и герой примеряет на себя маску «развитой» личности). Правда, попытки Пашки создать о себе впечатление как о человеке «культурном» дезавуируются им же самим – путем бесхитростной презентации подлинных вкусов и привычек («Люблю смешные журналы. Особенно про алкоголиков», «Сыграем в шашки… в шахматы скучно»[440], – признается он Гене). Последние, согласно П. Бурдье, непосредственно связаны с габитусными характеристиками личности[441] и выдают в Пашке «сельского жителя». «Образованность» и «культурность» размещены Шукшиным вне деревенского пространства, и герой пробует присвоить их, примеряя не свойственные ему роли. В итоге возникающий в мечтах Пашки собственный «культурный» образ, где он во фраке и цилиндре имитирует французский прононс, но находится при этом в антураже деревенской избы, оказывается карикатурой на интеллигентский проект преображения деревенской «неотесанности».
В киноповести и фильме «Живет такой парень» деревенский житель по большей части определялся мотивами, актуальными для «шестидесятнической» культуры. Речь идет, прежде всего, о мотиве искренности (подразумевавшей непосредственность самораскрытия личности, ее нравственную чистоту и доверие к миру[442]), который позднее Шукшиным будет включен в более объемные и сложно структурированные представления об «органичности» деревенского человека. О своем герое автор скажет, что тому «нет надобности выдумывать себе личину»[443], уточнив тут же – это свойство объединяет «простых» людей и людей «высококультурных». В самом деле, Пашкина игра в «культурность» инспирирована встречами с представителями города и в известной степени – стихийным артистизмом его натуры. В эпизоде поездки со случайной попутчицей, городской женщиной, герой подпадает под ее энергичные внушения. Она же воспринимает Пашку в качестве пластичного объекта намеченных позитивных преобразований. Пропагандистская часть ее речи выдержана в рамках интеллигентского просветительского дискурса о благоустроении деревенской жизни, но парадокс в том, что именно эта героиня не готова воспринять «человека из народа» в качестве полноправного субъекта коммуникации. Неудивительно, что обычно разговорчивый Пашка в ее возбужденно-напористую речь успевает вставить несколько реплик, которые тут е опровергаются («Это же пошлость, элементарная пошлость! Неужели это трудно понять?»[444]). Окончательно девальвирует ценность Пашки как самостоятельного и самоценного участника процесса общения муж городской женщины, оскорбляющий героя несправедливыми подозрениями. Они обретают форму резких упреков жене в неосторожном поведении, причем о присутствующем здесь же водителе, вопреки нормам этикета, говорится в третьем лице. Напоминание героини о том, что Пашка и есть тот народ, о котором в их кругу так много рассуждают, не меняет сути общения между представителями разных социальных страт. Персонажи-«интеллигенты» в какой-то момент начинают коммуникативно игнорировать Пашку: для образованного героя в модном свитере он – «шоферня», чьи действия совершенно непредсказуемы («тот самый народ, который сделает с тобой что хочешь и глазом не моргнет»[445]). Свойственная «интеллигентам» (в контексте фильма, следуя логике Шукшина, уместнее говорить о «псевдоинтеллигентах») смесь полубессознательных высокомерия, пренебрежения и опаски делает Пашку объектом то просвещения, то ожидаемого девиантного поведения.
Если возвращаться к пропагандируемым городской женщиной нормам новой «культурной» повседневности (обличение «думочек разных, подушечек, слоников дурацких»[446], предложение обставить помещение в новом «функциональном» стиле), то попытка реализовать их – в визуализированных режиссером мечтах Пашки и на практике, когда уже сам герой пытается разъяснить разведенной приятельнице Кате Лизуновой «серость» ее существования, – должны убедить зрителя в их неорганичности крестьянскому миру. Самоуверенно воспроизводя в разговоре с Катей усвоенные им с ходу стилевые приметы интеллигентской речи, Пашка обнаруживает словно сращенные с просветительским дискурсом эмоциональную глухоту и отсутствие деликатности, жертвой которых он ранее стал при общении с образованной попутчицей и ее мужем. Когда из самых добрых побуждений он призывает Катю избавиться от «пошлости» деревенского быта, обличает ее «некультурность» и предлагает новый сценарий поведения, позволяющий, как ему кажется, избавиться от участи «разведенки», он невольно отрицает ее личность, так или иначе сформированную «средой», хоть и не равную ей, и получает в ответ гневную отповедь, наподобие той, что произносил сам в адрес оскорбившего его городского интеллигента.
Советы Пашкиной попутчицы реорганизовать деревенский быт были выдержаны в риторике «обучающих» статей в журналах и газетах. Когда же такие советы дает герой, «считывание» их с готовых чужих культурных образцов становится еще более очевидным. Так же, как Пашка схватывает элементы чужого языка и культурного поведения, диссонирующие с его психосоциальным строем, деревенская повседневность, перепроектируемая по рекомендациям городской женщины (с современными репродукциями на стенах, торшером, тахтой и т. п.), переживается автором как «отчуждаемая», существующая по правилам новой социальной грамматики, которые необходимо специально разучивать, хотя и после этого они не становятся «своими»[447].
Шукшина, с одной стороны, глубоко уязвляли упреки в адрес Пашки, показавшегося иным критикам примитивным. Он убежденно доказывал, что дар героя быть «своим» в жизни[448], его стремление к гармонии и красоте на условной аксиологической шкале расположены выше, нежели поведение «теть в красивых пижамах, которые в поездах, в купе, в дело и не в дело суют вам “спасибо” и “пожалуйста” и без конца говорят о Большом театре…»[449]. С другой стороны, певцом «немытой», но аутентичной России Шукшин быть не собирался, и о необходимости образования говорил неоднократно и недвусмысленно:
Я сам еще помню, какой восторг охватывал, когда Чапаев в фильме говорил: «Я ведь академиев не кончал…» Не кончал, а генералов, которые академии кончали, лупит. <…> Попробуйте – сегодня вообразить героя фильма или книги, который с такой же обезоруживающей гордостью скажет: «я академиев некончал» – восторга не будет. Будет сожаление: зря не кончал. Эта «гордость низов» исторически свое отработала. Теперь надо кончать академии[450].
Для своего героя Шукшин также в качестве желаемого намечает путь образования и приобщения к культуре. Об этом Пашке говорит его сосед по палате, прочитавший «много книжек» старый учитель: «Ты тоже счастливый, только… учиться тебе надо. Хороший ты парень, врешь складно… А знаешь мало»[451]. Предваряющая финальный сон героя сцена разговора с учителем от предыдущих ситуаций общения с интеллигенцией отличается кардинально, поскольку здесь Шукшин воссоздает идеальную для него на тот момент модель взаимодействия между интеллигентом и представителем народа. Устами учителя Шукшин формулирует свои представления, во-первых, о единственно оправданной цели внедрения «культурности» на селе – «учиться тебе надо»[452], во-вторых, об идеальном человеке, который должен быть «добрым, простым, честным»[453], но образованным. В финальном сне героя, действие которого разворачивается весной, Пашка одет в белую рубаху, что, с одной стороны, символизирует его чистую душу, а с другой, содержит коннотации, связанные с интеллектуальной наивностью. Учитель же в этой сцене в фильме предстает в атрибутированном интеллигенту массовым сознанием строгом костюме и при галстуке. Возможно, цветовое решение костюмов (светлый – темный) полубессознательно продиктовано воспроизведением отношений в паре «обучающий» (семантика завершенности, целостности) – «обучаемый» (семантика открытости, интеллектуальной «простоты»). Тем не менее, «простой человек» Пашка Колокольников, которому только предстоит учиться, в финале отстаивает свою независимость в праве формировать собственный жизненный сценарий. Роль «обучающего», интеллигента сводится к тому, чтобы дать «человеку из народа» направляющий импульс и впоследствии поддержать его:
– Ведь нельзя же сидеть и ждать, пока придет кто-нибудь и научит, как добиться счастья.
– Нельзя.
– А говорили, что можно. Упрощали, значит?
– Упрощал немножко.
– А зачем же? Будешь ждать, что найдется кто-нибудь, научит, а он возьмет и не найдется. Так ведь?[454]
Интересно, что, связав потенциальное развитие своего героя с образованностью и культурой, Шукшин в «народническом» духе все же продолжал апеллировать к интеллигенции, напоминая об этическом императиве ее деятельности – выполнить долг перед народом, то есть по-прежнему мыслил в границах ролевой асимметрии «просвещенной и просвещающей» интеллигенции и нуждающейся в «свете культуры» деревни. На этом основывалась сформулированная писателем в статье «Монолог на лестнице» (1968)[455] программа очередного «хождения в народ». Она содержала популярный в идеологическом языке 1960-х троп освоения целины и его непременные компоненты («сеятели» и «почва»). Но с тем же успехом ее можно возвести к традиции описания отношений российской политической и культурной элит с народными «низами» посредством внутреннеколониального дискурса, и позиция Шукшина в данном случае интересна своей амбивалентностью. Представитель «почвы» (по происхождению), ныне принадлежащий к статусным группам, он болезненно реагирует на уготованную крестьянину роль «культурно колонизуемого», но, несмотря на это, настаивает на необходимости просвещения для «почвы» и уповает на усилия культурных «верхов»:
Образовалась бы вдруг такая своеобразная «целина»: молодые люди, комсомольцы, вы всегда были там, где трудно, где вы очень нужны, где надо сделать благое великое дело! Сегодня нужны ваши светлые головы, ваши знания диковинных вещей, ваша культура, начитанность – «сейте разумное, доброе, вечное» в благодарные сердца и умы тех, кто нуждается в этом[456].
Другое дело, что Шукшин, сознавая невозможность решить культурные проблемы села «лекторскими набегами»[457], надеялся на превращение приехавшей в деревню образованной молодежи в «сельскую интеллигенцию», которая долгим и кропотливым трудом сможет привить деревенскому люду «настоящую культуру»[458].
В снятом через год после фильма «Живет такой парень» «Вашем сыне и брате» (для киноповести использованы мотивы рассказов «Игнаха приехал», 1963, «Степка», 1964, «Змеиный яд», 1964)[459] «культурность» была изъята из контекста шестидесятнических культуртрегерских утопий и показательно соотнесена автором с кругом символов и мотивов, варьирующих идею забвения «корней». Об одном из героев, Игнате Шукшин прямо говорит: «В нем мне хотелось показать драму человека, оторвавшегося от родной почвы»[460]. На этот раз Шукшин в соответствии с новеллистическим построением фильма трижды меняет место действия (деревня – город – деревня). Замедленной пейзажной экспозицией он связывает деревню с естественностью природного бытия, в то время как город визуально дается через смену локусов вокзала, общежития, площади, аптеки, цирка, наконец образцовой квартиры современного горожанина[461]. Таковым в киноповести и фильме предстает бывший деревенский житель Игнат Воеводин, ныне служащий борцом в цирке, то есть успешно эксплуатирующий наследственную, «природную» силу. Жизненная стратегия героя отчетливо достижительски ориентирована («Я хочу, чтоб Воеводины жили не хуже других»[462]), и именно он организует свой быт, словно следуя советам городской дамы из фильма «Живет такой парень». В его новой квартире есть «и тахта, и торшер, и “современные репродукции”, и телевизор, и транзистор, и холодильник – полный набор вещей, которые вкупе образуют оптимистическое единство, чрезвычайно близкое к идеалу»[463]. Игнат, по его же представлениям, идеально адаптировался к жизни в городе: он состоялся в профессиональном плане, оброс нужными знакомствами, выгодно женился. Его приезд в родную деревню спустя пять лет отсутствия явно задуман для демонстрации собственной успешности. По признаку демонстративности поведения автор разводит Игната с уехавшим в Москву, но еще не прижившимся там братом Максимом и деревенской родней. В фильме прибывший на Алтай герой выходил из такси и, сняв шляпу (обязательный атрибут «культурности» в творчестве Шукшина[464]), патетически провозглашал: «Здравствуй, матушка-Катунь!», чем вызывал оторопь у идущей к реке бабы. В киноповести сцена приезда Игната в родной дом начиналась с программной для автора антитезы громкости / претенциозности и тишины / непритязательности:
Игнат пинком распахнул ворота, оглядел родительский двор и гаркнул весело:
– Здорово, родня!
<…>
Из дома вышел Ермолай Воеводин… Тихо засмеялся и вытер рукавом глаза[465].
В дальнейшем развитии сюжета удивление «шибко нарядной» женой Игната[466] и противопоставление самодовольной бравады героя застенчивости младшего, деревенского брата будет только углублять непримиримый конфликт «искусственности» и «подлинности». По Шукшину, городской образ жизни, причастностью к которому упивается герой, предполагает две составляющие, каждая из которых имеет сугубо презентационную природу: это культура потребления и культура тела. То и другое рассчитано на демонстрацию внешнему наблюдателю, то и другое диктует стилистику поведения Игната. Он и его жена привозят родственникам подарки в диапазоне от необходимых (сапоги и пуховый платок для стариков-родителей) до изысканных (красивое, но малоуместное в деревне платье для младшей сестры). В ответ на растерянную фразу о преобладании на подаренных вещах рисунка в полоску, Игнат уверенно объясняет: «Дух времени! Мода, тять!»[467]. Описание воскресного дня в столице, последовавшее за распросами матери о новой жизни сына в Москве, выливается в перечисление культурно престижных объектов и материально-потребительских благ, доступных теперь Игнату: это фонтан «Дружба народов» – «шестнадцать золотых статуй», ресторан «Узбекистон», «лагманчик, шашлычок, манты», «а дальше, как в сказке»[468] – «налитое» (то есть опять-таки искусственное) озеро с черными и белыми лебедями, похожими, по словам Игната, на тех, что изображены на ковре в доме стариков Воеводиных. Собственно, реплика героя «как в сказке» и «ожившие» лебеди с ковра переводят его рассказ из модальности сказочного и желаемого в модальность реальности, осуществившейся при переезде в город мечты.
Родная деревня обесценена героем отчасти из-за отсутствия в ней «культурной» инфраструктуры, то есть специально организованных и, что немаловажно, предназначенных для демонстрации социального статуса мест. Шукшин при этом почти гротескно обостряет ситуацию: отбывавший срок в колонии Степан Воеводин также сравнивает культурную жизнь деревни и мест лишения свободы и приходит к выводу, что в последнем случае она куда более насыщенна. То, что культура здесь сведена к серии просветительских и развлекательных акций – от чтения лекций до демонстрации фокусов, героя не смущает:
Вы здесь часто кино смотрите? А мы – в неделю два раза. К вам артисты приезжают? А к нам туда без конца ездили. Жрать тоже хватало… А один раз фокусник приезжал. Вот так берет стакан с водой…[469]
Социальная успешность Игната транслируется его кинетикой и одеждой («в шикарном костюме, под пиджаком нарядный свитер, походка чуть вразвалочку – барин»[470]), а также новой риторикой. Герой охотно произносит, судя по всему, многократно повторявшийся и рассчитанный на удивленную реакцию слушателей монолог об отсутствии культуры тела у русского человека:
Как тебе объяснить?.. Вот мы, русские, – крепкий ведь народишко! Посмотришь на другого – черт его знает!.. – Игнат встал, прошелся по комнате. – Откуда что берется! В плечах – сажень, грудь как у жеребца породистого – силен! Но чтобы научиться владеть этой силой, выступить где-то на соревнованиях – Боже упаси! Он будет лучше в одиночку на медведя ходить. О культуре тела – никакого представления. Физкультуры боится, как черт ладана. Я же помню, как мы в школе профанировали ее[471].
Формально справедливая критика Игнатом вредных привычек русского человека (небрежение данной от природы силой, стихийность, хождение «в лавку» по каждому поводу) не находит у автора понимания, поскольку для него она – явление чужого культурного языка и знак «отчуждения» героя от своей «сущности» – русской и деревенской (Ермолай Воеводин говорит ему: «А ты, Игнат, другой стал… Ты, конечно, не замечаешь этого, а мне сразу видно»[472]). Очевидно, что борьба городского и деревенского братьев, к которой подначивает их отец, потенциально должна была обозначить символическую победу либо «корней», либо «цивилизации», но Шукшин уклонился от столь прямолинейной развязки. Тем не менее, вся система художественных средств, сюжетная структура киноповести и фильма, написанных позднее рассказов работали на разоблачение симулятивного характера «культурности».
В отличие от обличительно-моралистической «антимещанской» литературы и публицистики, многозначительно противопоставлявших внешнюю «культурность» богатому «внутреннему содержанию», Шукшин полагал, что «внутреннее содержание» – тоже своего рода штамп, успешно усвоенный «окультуренным» современником. В одноименном рассказе 1967 года, фабульно развивавшем знаменитый эпизод демонстрации мод из фильма «Живет такой парень», «внутреннего содержания» в девушках-моделях не хватает как раз полугородскому-полудеревенскому Ивану, в то время как деревенский брат Сергей готов воспринимать новых знакомых – городских девушек-моделей, обходясь без интерпретационных и стилистических клише. Из двух братьев Сергей более независим от поведенческого стандарта, принятого «красивыми беззаботными»[473] людьми, но и он чувствует притягательность недоступного образа жизни (заключительная реплика рассказа: «Шляпу, что ли, купить?»[474]). Сопоставление братьев, один из которых, несмотря ни на что, устойчив, а другой – податлив к «соблазнам» городской цивилизации, приводит Светлану Козлову к мысли о том, что шукшинский рассказ – аллегория противостояния России и Запада, поэтому сюжетообразующую сцену показа мод она комментирует, прибегая к риторике конфронтации:
Разложение трудового рефлекса обеспечивается диверсией в зону нравственных оснований – естественной для невинной юной души стыдливости (имеется в виду контрастность призыва завклубом «одеваться» и раздевающейся на сцене манекенщицы. – А.Р.). Наконец, появление на сельской площади «красного автобуса» из «городского» Дома моделей эксплицируется здесь как культурная интервенция. Дегтярев «упорно называл» клуб ДК – Дом культуры, что означало локализацию культуры в безграничном «некультурном» пространстве России, требующем «окультуривания»[475].
Несмотря на то, что такой язык шаржирует и аллегоризирует рассказ «Внутреннее содержание», усложнение контекстов критики «культурности» Шукшиным с конца 1960-х годов оспорить трудно[476]: постепенно в его творчестве складывается историософская концепция, в которой «неопочвенническое» упование на «коренной» крестьянский тип ослабевает, а мотивы опасности «чужебесия» и государственного насилия, напротив, разрабатываются более детально. Содержание «культурности» все меньше занимает писателя и режиссера, поскольку она уже превратилась в шаблон поведения современного человека, причем и городского, и – ситуативно – деревенского.
В начале 1970-х годов представления о культурно организованном быте села стали одним из элементов государственного курса на ликвидацию различий между городом и деревней, «подтягивания» деревни до уровня города. Отголоском шедших тогда дискуссий о политике «выравнивания», а по сути огосударствления и централизации сельского хозяйства, в фильме «Печки-лавочки» (1972), закрывающем повествование об «алтайском колхознике в условиях городской цивилизации»[477], был «один маленький вопрос»[478]. Его тракторист Иван Расторгуев задавал попутчику – вору Виктору Александровичу:
…чем больше я получаю, тем меньше я беспокоюсь, что после меня вырастет. <…> Беспокоюсь я за пашню? Нет, я по-человечески, конечно, беспокоюсь, как же. Но, все равно, это не то. Я вспахал, и моя песенка спета. <…> Я вспахал – получил, он посеял – получил, а хлеба, например, нету. А мы денюжку получили[479].
То, что в терминах марксистской политэкономии называлось «отчуждением тружеников от средств производства», Шукшин рассматривает в «неопочвенническом» контексте уничтожения основы крестьянского образа жизни – идеологии «хозяина на земле», «работника не по найму, а по убеждению»[480]. Распад базовых институтов крестьянского мира, ускоривший маргинализацию деревенских жителей, переживание ими культурной депривированности делали все более реальной перспективу их переезда в город, и Шукшин это прекрасно осознавал. Не случайно адресованный чете Расторгуевых вопрос вора-попутчика: «А куда сейчас-то? Место подбирать, куда бежать?»[481] Иваном расценивается как умышленно злой и провокационный.
Отличие «Печек-лавочек» от «Вашего сына и брата», где «культурность» представала сомнительным достоинством городских персонажей, в том, что тут основными маркерами внешней «культурности» снабжен деревенский житель. Отправляясь из дома «к югу» (наделенному в мифопоэтике киноповести семантикой райского места и одновременно, в рассказах курносого попутчика из киноповести, – искушения[482]), Иван Расторгуев отказывается от привычного рабочего гардероба (фуфайка, кепка, кирзовые сапоги – таким он предстает в начальных кадрах фильма). Он переодевается сообразно экстраординарному случаю (путешествие) и представлениям о стиле, приличествующем событию, – шляпа, костюм, галстук. Комический эффект (а Шукшин подчеркивал, что намерен снять именно комедию[483]) автор извлекает из несовпадения внешних признаков «цивилизованности» и коммуникативных привычек героя. Настороженный в незнакомой обстановке, не приспособленный к анонимности и дистанцированности межличностных контактов в городе, Иван постоянно нарушает неявную для него границу личного пространства собеседника. На вокзале в очереди в кассу (эта сцена в развернутом варианте есть только в киноповести) он задает нелепый вопрос: «За билетами?» и получает грубоватый ответ: «Нет, за колбасой». Не смутившись нелюбезностью собеседника, одетого, кстати, также сообразно культурному стандарту – в костюм и шляпу, – он продолжает разговор:
– Далеко?
Человечек опять отвлекся от газеты, посмотрел на Ивана.
– В Ленинград.
– А я к югу.
– Хорошо. <…>
Иван помолчал, посмотрел вокруг… Посмотрел на длинную очередь… Заглянул через плечо человеку – в газету.
– Ну, что там?
Человек раздраженно качнул головой, сказал резковато:
– В Буэнос-Айресе слона задавили. Поездом. <…>
– А как же поезд? – спросил Иван.
– Поехал дальше. Слушайте, неужели охота говорить при такой жаре?
Иван виновато замолчал. Он думал, что в очереди, наоборот, надо быть оживленным – всем повеселей будет[484].
Герой озабочен тем, чтоб скрыть растерянность от перехода в городское пространство, и стремится вести себя «непринужденно», слишком оживленно общаясь с попутчиками и пробуя в этой коммуникации интуитивно выбрать правильную дистанцию между ними и собой (на деле Иван, имеющий навыки общения только в небольшом сообществе с тесными личными связями, неоправданно то сокращает, то увеличивает ее). Как следствие, маркирующая городское поведение и не совпадающая с культурным опытом Ивана «непринужденность» актерски им разыгрывается, копируется с виденных когда-то образцов. Нечто подобное происходит в доме профессора:
Иван-гость и Нюра сидели на стульях прямо, неподвижно.
– Иван, Нюра… вы распрямитесь как-нибудь… Чувствуйте себя свободней!
Иван пошевелился на стуле, а Нюра как сидела, так и осталась сидеть – в гостях-то она знала, как себя вести[485];
Надо <…> развязней быть. Поговорить… <…> А то сидим, как аршин проглотили[486], –
советует герой жене.
Иван Расторгуев наделен автором некоторыми типологическими характеристиками героя-«чудика»: он «не дает поставить себя в общий ряд»[487], неподатлив к усвоению растиражированных схем восприятия и поведения, непосредствен, однако его «неокультуреннсть» окружающим кажется «неотесанностью» и даже «ненормальностью» персонажа. Шукшин же объясняет свойства «чудика» демократизмом и «глубоким, давним чувством справедливости»[488], то есть «исконно» народными качествами, стираемыми в процессах цивилизующего обучения (дисциплинаризации). В «Признании в любви» он иллюстрирует эту идею сценой подчеркнуто «нецивилизованного» поведения, содержащего вызов формальному праву, административно и законодательно прописанным нормам, но более соответствующего, с авторской точки зрения, принципам социальной солидарности:
Как-то ночью в купе вошла тетя-пассажирка, увидела, что здесь сравнительно свободно (в бойкие месяцы едут даже в коридорах купейных вагонов, сидят на чемоданах, благо ехать близко), распахнула пошире двери и позвала еще свою товарку: «Нюра, давай ко мне, я тут нашла местечко!» На замечание, что здесь – купе, места, так сказать, дополнительно оплаченные, тетя искренне удивилась: «Да вы гляньте, чо в коридоре-то делается!.. А у вас вон как просторно». Отметая в уме все «да» и «нет» в пользу решения вопроса таким способом, я прихожу к мысли, что это – справедливо. Конечно, это несколько неудобно, но… но уж пусть лучше мы придем к мысли, что надо строить больше удобных вагонов, чем вести дело к иному: одни будут в коридоре, а другие – в загородочке, в купе. Дело в том, что и в купе-то, когда так людно, тесно, ехать неловко, совестно. <…> Человек, начиненный всяческими “правилами”, но лишенный совести, – пустой человек, если не хуже[489].
То же презрение к регламенту и кодификации раскрывает эпизод из «Печек-лавочек», в котором Иван требует от директора санатория поселить с ним приехавшую без путевки жену («Я один буду по санаториям прохлаждаться, а она дома сидеть? Несправедливо»[490]). Всюду, где он наталкивается на внешние дисциплинарные предписания, он подозревает принуждение и обман[491] и реагирует бунтом либо шутовством[492].
Стихийность «не посаженого на иглу поведения» героя, его способность к сопротивлению (в форме резкого отпора, как в случае ссоры с «командировочным», или в форме своеобразного «юродства» на выступлении в институте перед ученой публикой) образуют «архетипическую» основу народного типа по Шукшину. Структуру такого характера писатель обдумывал в связи с образом Стеньки Разина во время работы над сценарием фильма (1968) и романом «Я пришел дать вам волю» (публ. 1974)[493]. Ольга Скубач справедливо пишет, что шукшинский интерес к фигуре Степана Разина обусловливался, помимо прочего, современными процессами эрозии деревенского уклада. Восстание Разина было последним в исторической перспективе инцидентом, «когда “свое” (в данном случае казачество) еще способно было активно сопротивляться агрессии “чужого” (социальной элите и государству)…»[494] Более чем красноречивые, оправданные традиционным для советской историографии интересом к народно-освободительным движениям, высказывания Шукшина о Разине («Какова цель движения Степана Разина? Цель эта – свобода, вековая мечта народа. Москва – это олицетворение врага»[495] или «На Руси тогда начиналось закрепощение крестьянства. Оно разбегалось, оно искало заступников… <…> для меня он прежде всего крестьянский заступник, для меня, так сказать, позднейшего крестьянина, через триста лет…»[496]) приводят Ирину Плеханову к выводу, что Шукшин в романе и задуманном фильме, «оправдывая Разина, боролся на два фронта: защищал народ, т. е. крестьянство, от государства и сопротивлялся изживанию нравственного начала из истории и сознания, смирившегося с этим»[497]. Разумеется, возможностей сколько-нибудь откровенного художественного высказывания на тему «государство – народ» в подцензурной культуре практически не было. Кроме того, съемки фильма о Разине откладывались, и Шукшин искал возможности и средства (чаще всего аллюзийно-ассоциативного плана), которые бы позволили ему выразить мысль о длящемся веками государственном насилии по отношению к крестьянству[498]. В рассказе «Жена мужа в Париж провожала…» он при помощи блестяще отработанного в советской литературе приема переадресации ключевых идей текста «отрицательному» герою разоблачает Кольку Паратова устами жены-мещанки:
Я вот расскажу кому-нибудь, как ты мечтал на выставке: «Мне бы вот такой маленький трактор, маленький комбайник и десять гектаров земли». Кулачье недобитое. Почему домой-то не поехал? В колхоз неохота идти? Об единоличной жизни мечтаете с мамашей своей… Не нравится вам в колхозе-то?[499]
В дальнейшем Шукшин, простраивая мотивно-символические параллели, в подлежащих цензурированию и, по признанию художника, «шифруемых» произведениях пытался выразить драматическое видение взаимоотношений крестьянства и государственной власти. Мотив невозможности для русского мужика полноценного существования на родной земле стал центральным в последней работе Шукшина, «Калине красной» (1974) – фильме и киноповести, но и там его идеологическая острота была продуманно смикширована (мело)драматическим пафосом[500]. «Печки-лавочки» на этом фоне – более предсказуемы и традиционны. В них Шукшин уже привычно защищал героя-крестьянина от агрессивного культурного высокомерия города, но выдвигал на первый план мотив социальной и культурной приниженности крестьянства («народа»), точнее, гражданской ущемленности труженического сословия:
Через страну едет полноправный гражданин ее, говоря сильнее – кормилец, работник, труженик. Но с каких-то странных пор повелось у нас, что деревенского, сельского надо беспрерывно учить, одергивать, слегка подсмеиваться над ним. <…> Но разговор об этом надо, очевидно, вести «от обратного»: вдруг обнаружить, что истинный интеллигент высокой организации и герой наш, Иван Расторгуев, скорее и проще найдут взаимный интерес друг к другу, и тем отчетливее выявится постыдная, неправомочная, лакейская, по существу, роль всех этих хамоватых учителей, от которых трудно Ивану. <…> Иван с женой благополучно прибыли к Черному морю (первый раз в жизни), но путь их (люди, встречи, столкновения, недоумения) должен нас заставить подумать. О том, по крайней мере, что если кто и имеет право удобно чувствовать себя в своей стране, то это – работник ее, будь то Иван Расторгуев или профессор-языковед, с которым он встречается. Право же, это их страна[501].
При всей тривиальности для советской культуры почтительных жестов в адрес «простого человека» посыл фильма, как он сформулирован в процитированной сценарной заявке, вовсе не тривиален: сложившийся социальный и культурный порядок несправедлив по отношению к такому герою[502] (подобное прочтение, на мой взгляд, правомерно, особенно если вспомнить, что в «Печках-лавочках», учитывая озадачивший его опыт зрительской рецепции фильма «Живет такой парень» как комедии, Шукшин играл социальными маркерами героев, мифопоэтическими мотивами и подтекстом с тем расчетом, чтобы не превратить рассказываемую историю в анекдот). Нарисованный в киноповести и фильме образ советского социума далек от благоообразного единения рабочих, крестьян и интеллигенции. В свете описанной А. Куляпиным тенденции к возрастанию «литературности» в позднем творчестве Шукшина, особого внимания в «Печках-лавочках» заслуживают повторяющиеся ситуации коммуникативного рассогласования между Иваном и его попутчиками. Смелых политических обобщений в них нет, но в совокупности они предстают симптомом нарушенной социальной коммуникации[503]. Иван, который не может в незнакомой ему городской среде найти нужные язык и тональность общения, сначала довольно агрессивно реагирует на поучающий и развязный тон «командировочного», затем проникается доверием к вору, поскольку его вводит в заблуждение принятая за дружелюбие развязность нового попутчика. Следующие одна за другой коммуникативные неудачи побуждают его с излишней настороженностью реагировать на соседство с профессором-языковедом[504]. Казалась бы, последняя встреча калькирована с не раз изображенной Шукшиным ситуации единения высококультурного героя-интеллигента и представителя «почвы», однако в «Печках-лавочках» идеальной коммуникации не получается. Иван остается для Сергея Федоровича объектом изучения, олицетворением «народа», но его «народническое» умиление «первозданными добродетелями»[505] Ивана и Нюры по-своему наивно и ограниченно. В киноповести коллега Сергея Федоровича, «лысый профессор», не без иронии упоминает литературную модель, которой следует его товарищ, затеявший встречу с «языкотворцем» Иваном: «И не суйся ты в это дело. <…> Не тот сегодня мужичок, Серега, не тот… И фамилия его – не Каратаев. Как ты еще не устал от своего идеализма?»[506]. В фильме и киноповести Иван отзывается на «толстовский» идеализм профессора проверенной крестьянской тактикой шутовства («Меня еще дед мой учил: как где трудно придется, Ванька, прикидывайся дурачком»[507]), не раз опробованной самим Шукшиным при контактах с культурно и социально чужой аудиторией. Однако в киноповести автор показывает своего героя уже «инфицированным» чужой риторикой, которую тот успел подхватить в течение нескольких дней пребывания в городе-«Вавилоне». Шукшин включает в киноповесть письмо Ивана на Алтай родным, где герой рассказывает о своем пребывании в Москве, контаминируя собственную стилистику со стилистикой профессорской речи:
Выступал также в университете. Меня попросил профессор рассказать что-нибудь из деревенской жизни в применении к городской. Я выступал. Кажись, не подкачал. Нюра говорит, хорошо. Вообще, время проводим весело. Были в ГУМе, в ЦУМе – не удивляйтесь: здесь так называют магазины. В крематорий я, правда, не сходил, говорят, далеко и нечего делать. Были с профессором на выставке, где показывали различные иконы. Нашу бы бабку Матрену туда, у ей бы разрыв сердца произошел от праздника красок. Есть и правда хорошие, но мне не нравится эта история, какая творится вокруг них. Это уже не спрос на искусство, а мещанский крик моды[508].
В финале «Печек-лавочек» Шукшин планировал сблизить двух Иванов – главного героя и профессорского сына, чей интерес к народу выразился не в интеллигентском пиетете перед ним, а в конкретной деятельности – социологическом описании положения сельского учителя[509], но, возможно, очередной вариант «смычки» города с селом страдал «умозрительностью», поэтому, считает Юрий Тюрин, в киноповести и фильме встреча двух Иванов осталась невыразительным эпизодом[510]. В целом же путешествие героя через всю страну «на юг», изображенное как череда не самых успешных коммуникативных актов, при включении его в общий контекст шукшинского творчества проблематизирует единство национального мира, обитатели которого утратили язык для взаимопонимания. Язык цивилизации – «культурность», по Шукшину, только углубляет различия, вводит дополнительные и избыточные индикаторы социальной значимости, подменяет контакт с человеком общением с его социальной функцией, «маской»[511]. Не принявший правил «культурности» или не умеющий последовательно их выдержать герой-«чудик», которому тесно в рамках клишированных форм, неизбежно оказывается потерпевшей, то есть непонятой, культурно дискредитированной стороной.
Мотивно-семантический комплекс творчества позднего Шукшина, внутри которого возникают автореминисценции на «культурность» из более ранних произведений, к реалиям цивилизованно устроенного быта отсылает уже в меньшей степени, нежели к идеологическим и историософским концептам, объяснявшим драматизм современного положения русского человека «из народа». Соответственно, исследование «культурности» средствами реалистического бытописания постепенно уступает место в прозе Шукшина пародийности и условности. Мотив гонимости Ивана-труженика, аккуратно уведенный в подтекст комедийного сюжета «Печек-лавочек», в сказке «До третьих петухов» (1974), где «автобиографический и автопсихологический материал ранних произведений» переосмысливался в «национально-символическом ключе»[512], тематизирован уже в экспозиции:
– Продолжим. Кто еще хочет сказать об Иване-дураке? Просьба: не повторяться. И – короче. Сегодня мы должны принять решение. Кто?
– Позвольте? – это спрашивала Бедная Лиза.
– Давай, Лиза, – сказал Лысый.
– Я сама тоже из крестьян, – начала Бедная Лиза, – вы все знаете, какая я бедная…
– Знаем, знаем! – зашумели все. – Давай короче!
– Мне стыдно, – горячо продолжала Бедная Лиза, – что Иван-дурак находится вместе с нами. Сколько можно?! До каких пор он будет позорить наши ряды?
– Выгнать! – крикнули с места[513].
Гонимость и потенциальное изгнание Ивана-дурака из сказочного мира метафоричны. В мире, иронически воспроизводящем устройство реальности, «русскость», с точки зрения Шукшина, существует на правах декоративного элемента (поэтому от Ивана-дурака постоянно требуют песен и плясок) или используется в сугубо утилитарных целях (исходя из этого с Иваном общаются Баба Яга, черти, Мудрец). Главными приверженцами и пропагандистами «культурности» в шукшинской сказке характерным образом являются черти, распевающие песню[514]:
- Наше – вам
- С кистенем;
- Под забором,
- Под плетнем –
- Покультурим. Покультурим.
- Аллилуйя-a! Аллилуйя-a![515]
Их отношения с Иваном-дураком также метафоричны и, судя по всему, иносказательно излагают «неопочвенническую» версию судеб национального искусства в ХХ веке: сначала Иван, надеясь заручиться поддержкой чертей в походе за справкой, помогает им проникнуть в монастырь (оплот духа, святыню), потом пользуется их помощью, чтоб попасть к Мудрецу, ввязывается в «интеллектуальную» дискуссию о необходимости бороться с «примитивом» в искусстве и «безнадежно отсталыми»[516] художниками (прозрачный намек на упреки в адрес Шукшина со стороны модернистски-ориентированных коллег) и, наконец, становится свидетелем «эстетической революции», суть которой в смене иконографии – вместо ликов святых черти предлагают писать их собственные портреты, а когда монахи сопротивляются, клеймят их «дикарями» и «пошехонью»[517]. В 1970-е годы смысл этого иносказания единомышленниками писателя расшифровывался без особых ухищрений. П. Палиевский во время дискуссии «Классика и мы» (1977) жаловался на засилье в современной культуре сторонников и проповедников авангардизма, разрушающих классическую эстетику, но с оптимизмом уверял, что теперь литературной общественностью острота этой проблемы вполне осознана. Свою речь он завершил цитированием эпизода схватки монахов с бесами и уверением:
Мне кажется, что если русская литература в последнее время взялась за чертей, – в лице Булгакова и Шукшина и многих других (вспомним Достоевского и Пушкина), то, конечно, это не случайный признак, и надо согласиться, что она все-таки кое-что умеет. И перспектива такова, что в конце концов мы это преодолеем[518].
Давнее столкновение Шукшина с публикой, бравировавшей приобщенностью к культуре и «культурности», вероятно, стало эмоциональным триггером, который обусловил устойчивый интерес автора к идеологическим и политическим контекстам «культурности». В его рабочих записях есть одна очень примечательная, относящаяся к 1968 году и толкующая собственную и единомышленников деятельность в духе низвержения интеллигентских «идолов» (в том числе и «культурности»):
Нас похваливают за стихийный талант, не догадываясь или скрывая, что в нашем лице русский народ обретает своих выразителей, обличителей тупого «культурного» оболванивания[519].
Мифологизированная и в буквальном смысле демонизированная в сказке «До третьих петухов», она, как и в произведениях 1960-х годов, осталась в глазах автора инструментом, утверждавшим социальное различие и закреплявшим превосходство, однако со временем в творчестве Шукшина речь стала идти не только о депривированном крестьянстве, но о народе, управляемом политическими и культурными элитами.
Редкое интервью или встреча «деревенщиков» с читателями, особенно на излете позднесоветской эпохи, обходились без обязательного вопроса о роли культуры в жизни общества[520]. Однако очевидный, если судить по публицистике, письмам, интервью, интерес В. Астафьева к подобной проблематике совершенно не сводим к ритуальным ответам на столь же ритуальные вопросы. Напротив, рассуждения о задачах культуры, ее влиянии на человека и социум в его случае оказываются тесно связанными с пережитой им чередой кризисов – житейских, мировоззренческих, эстетических.
Астафьев признавался, что первый же опыт вхождения в культуру – через школьное обучение – принес с собой сильнейшие впечатления. Их вызвало чтение учителем вслух повести Льва Толстого «Кавказский пленник»: «И я с тех пор это произведение никогда не перечитываю и перечитывать не буду, потому что я пережил буквально потрясение»[521]. Сам процесс учебы в школе представлялся деревенскому ребенку захватывающим: «Я думаю, что в тридцатых годах ребята учились – и часто учились очень хорошо, несмотря на недостатки, – из-за открытия какого-то чуда»[522]. Впоследствии в жизни Астафьева были сиротство, беспризорничество, тяготы войны и послевоенного быта, исключавшие возможность учебы. В 1959 году в частном письме он признавался: «Пишу я девятый год. До этого был самым распоследним “быдлом”: работал литейщиком, грузчиком, плотником, чистил помойки, выгружал вагоны, работал на сплаве»[523]. Взяв в кавычки слово «быдло», Астафьев обозначил его принадлежность речи привилегированных слоев, которым был доступен «культурный» образ жизни, в чьих глазах люди, занимающиеся тяжелым физическим трудом, выглядели чем-то вроде тяглового скота. Астафьев же возможность учиться получил только в возрасте 35 лет. Начав профессиональную писательскую карьеру, он, как и многие областные авторы, попал на организованные при Литературном институте им. А.М. Горького Высшие литературные курсы. Впоследствии он с неизменной благодарностью вспоминал о времени, проведенном в Москве на ВЛК (1959–1961). Учебу он воспринял как возможность «обколотить с себя <…> провинциальную штукатурку»[524], избавиться от долго его преследовавшего комплекса собственной «темноты» и «непросвещенности»[525]. Написанные тогда семье и друзьям письма изобилуют впечатлениями от увиденных спектаклей, концертов, фильмов, прочитанных книг[526]. Уже в 1980-е годы, обращаясь к прозаику Анатолию Буйлову, Астафьев советовал серьезно подумать об учебе и делился опытом: «За два года (учебы на ВЛК. – А.Р.) я посмотрел около шестидесяти спектаклей, посетил все постоянные выставки, приучил себя к серьезной музыке и т. д. и т. п.»[527].
Позднее Астафьев упоминал о «духовном просветлении»[528], пережитом во время учебы на ВЛК. В данном случае растиражированная метафора выразила очень индивидуальный опыт причастности к другой реальности, отличной от той, где «существует человек, как деревянная игрушка на нитке – в подвешенном состоянии…»[529]. Рассказывая о директоре детдома в Игарке Василии Ивановиче Соколове, пытавшемся развивать воспитанников в условиях соседствовавшего с лагерями заполярного города, Астафьев делает культуру альтернативой трагическому окружающему миру:
Он был высоко, слишком высоко образован для того времени, знал язык и о музыке, об опере знал, и вообще был «не наш», и потому мыкался в заполярной ссылке и нам, обездоленным детям, открывал другой, какой-то чудесный мир, рассказывал о русской поэзии и о театре[530].
Если в жестокой социальной действительности человек унижен, порабощен и раздавлен, то культура и искусство не просто дают ему иллюзию приобщения к иному бытию, но в конечном итоге делают человека человеком – удерживая его в собственно человеческом, неживотном состоянии и выводя за рамки существования, где главной ценностью является биологическое выживание: «Это оно, человечество, обязано культуре, иначе оно упало бы снова на четвереньки»[531]. Заключенная в пределы традиционного романтического двоемирия антитеза жизни и искусства, таким образом, вырастала у Астафьева из глубоко личного травматичного опыта страдания и его преодоления.
В астафьевском восприятии культуры содержался посыл, очевидно заимствованный из просветительской программы и касающийся понимания культуры как инструмента самовоспитания личности. Уверенность в способности культуры преображать человека, судя по всему, долгое время воодушевляла писателя в его деятельности. В публицистических статьях он не уставал повторять, что самосовершенствование через приобщение к культуре и широко понимаемому творчеству есть смысл человеческого существования, оправдание мировой истории, а «возвышающую» культуру считал ключевым фактором эволюции и прогресса (как бы странно ни звучал последний термин применительно к консерватору-«деревенщику»). Отголоском подобных настроений были пассажи в духе вроде бы не свойственного Астафьеву футурологического оптимизма, муссировавшего популярную в 1960-е годы тему «человека будущего»:
Я верю, что рождается и скоро появится художник, который будет так умен и велик, что ему будет по силам творить не только на ходу, но и на лету, и, возможно, гением своим он наконец образумит людей…[532]
Астафьевская проповедь активно-заинтересованного, сознательного отношения к культуре, идея прогресса, который неуклонно ведет к рождению «человека будущего», содержала легко опознаваемые топосы советской «теории культуры». Известный психолог Алексей Леонтьев так определял позицию человека социалистического общества относительно мировой культуры:
Достижения развития предыдущих поколений воплощены не в нем (человеке. – А.Р.), не в его природных задатках, а в окружающем его мире – в великих творениях человеческой культуры. Только присваивая эти достижения в ходе своей жизни, человек приобретает подлинно человеческие свойства и способности; это как бы ставит его на плечи предшествующих поколений и высоко возносит над всем животным миром[533].
Обосновываемая Леонтьевым и другими авторами, транслируемая в процессах школьного обучения, публичных дискуссиях и т. п., антропологически оптимистичная концепция, связывавшая культуру с индивидуальным (в смысле повышения социального статуса) и коллективным прогрессом, безусловно, наложила отпечаток на первоначальное видение Астафьевым ее роли в обществе и «обязанностей» личности по отношению к ней («овладевать» и т. п.), хотя со временем этот отпечаток становился все менее различим.
По Астафьеву, выдающиеся творцы прошлого – гении и «титаны мысли»[534] – в каком-то смысле тоже были «жертвами прогресса», поскольку совершали мучительную и жертвенную работу на благо всеобщего просвещения, причем обычно без видимых позитивных сдвигов: «Все кажется, что они рано родились, не в то время мятежно и дерзко мыслили, шли на эшафот и костер за нас, за наше будущее»[535]. Изобилующая романтическими штампами патетическая фраза в очередной раз выражает небанальную лично для Астафьева идею теснейшей связи культуры с ценностными основаниями бытия и потенциальным преображением человека. На фоне получавшего все большее распространение в 1960 – 1980-е годы информационно-коммуникативного подхода такая позиция была отчетливо консервативной. Напомню, что новые «культуралистские» дискурсы, реанимировавшие позитивизм либо конструкционистски-ориентированные, получали распространение и в СССР и влияли на рефлексию культуры позднесоветскими интеллектуалами. В 1973 году в русле обретшего к тому времени культурную легитимность интереса к кибернетике[536] вышла в переводе на русский книга французского социолога, психолога и лингвиста Абраама Моля «Социодинамика культуры». Ее автор обнародовал революционную, по отношению к официальному советскому обществоведческому дискурсу, концепцию. В частности, Моль заявлял, что на смену «отжившей» «гуманитарной культуре»[537], приобретаемой в процессе образования, приходит «культура мозаичная», представляющая собой «итог ежедневно воздействующего на нас непрерывного, обильного и беспорядочного потока случайных сведений»[538], поставляемых СМИ. Он предлагал смотреть на культуру как на «интеллектуальное “оснащение”, которым располагает каждый отдельный человек»[539], и этот «инструментализм» разительно не совпадал с рассуждениями о целенаправленном строительстве через культуру собственной личности (что было так важно для Астафьева). Советские критики консервативного толка описанную Молем форму культуры, возникшую в условиях бурного развития НТР и СМИ, однозначно расценивали как имитацию эссенциалистской «подлинной» культуры, имитацию, опасную тем, что она «размывает» национальную «почву» и стимулирует рост «просвещенного мещанства»[540]. В нарисованном М. Лобановым саркастическом портрете потребителей такого рода культуры – «разномастной компании – от ученого схоласта до девицы с дипломом» разоблачительный акцент делался именно на легкости усвоения «алгоритмов» культуры, редуцированной к «информации»: «это… всем доступно, достаточно лишь усвоить набор каких-то правил, изречений»[541]. «Утилитаризма» в отношении Культуры с большой буквы, терявшей на глазах свой сакральный ореол, Астафьев также категорически не принимал. Культура казалась ему настолько мощной преобразующей силой, что «возрастание» человека под ее воздействием виделось лишь вопросом времени и личных усилий. Другое дело, что «возрастание» он всегда мыслил как «органическое» изменение, то есть процесс, технологически не разложимый, глубоко «внутренний».
В бесчисленных дискуссиях позднесоветской поры о культуре «народной» и «массовой» Астафьев участвовал нечасто, хотя разделял скептический взгляд на подменяющую культуру «культурность» и кичащихся эрудированностью интеллектуалов. Тем не менее, в его писательской биографии было резонансное публичное выступление, идеально вписавшееся в пропагандистскую кампанию по борьбе с новыми культурными явлениями и составившее Астафьеву славу ретрограда в глазах значительной части советской молодежи. Речь идет об опубликованном в газете «Комсомольская правда» письме «Рагу из синей птицы» (1982), где критически оценивалось творчество рок-группы «Машина времени»[542]. Адресованные рок-музыкантам претензии, суммируемые в понятии «непрофессионализм» (низкий уровень исполнительского мастерства, нарочитое «опрощение» сценических костюмов, «инфантильное», немужское пение, ориентация на «среднеевропейский» музыкальный шаблон, пессимистически-безыдейные тексты), компрометировали «Машину времени» причислением ее к массовой культуре, которая, по общепринятому в советской прессе мнению, примитивизировала человека. Разрозненные астафьевские реплики о массовой культуре свидетельствуют, что ее разлагающее влияние на сознание аудитории он оценивал как силу, значительно превосходившую просвещающее воздействие «высокой» культуры. Со временем Астафьев все более скептически оценивал способность личности откликаться на предлагаемые культурой «высокие» образцы и нормы. Готовность воспринимать «демоническое» (например, современная музыка «деревенщиками» демонизировалась[543]), упиваться им, полагал писатель, к сожалению, в большей степени соответствует человеческой природе. Такое поляризованно-романтическое видение человека было чревато серьезными внутренними кризисами, в которые художник погружался раз за разом. Во всяком случае, предложение посадить на скамью подсудимых творцов «суррогатов музыкального искусства»[544] в статье «Постойте – поплачем!» (1986), написанной в связи с избиением на дискотеке девушками 15 и 16 лет своей сверстницы, при всей его запальчивости кажется не столько свидетельством склонности писателя к карательным мерам, сколько отражением растерянности перед косностью человеческой природы и ставшей очевидной «неэффективностью» высокого искусства[545].
С определенного момента Астафьев вообще был склонен проблематизировать статус культуры. С одной стороны, она для него оставалась важнейшим инструментом социализации, вне ее, считал он, невозможно «самоосуществление» личности. Поэтому нежелание внука слушать классическую музыку вызывало у него бурное негодование и казалось знаком «одичания» молодого поколения: «Дед ногти в кровь срывал, чтобы хоть к какой-то культуре прибиться… а эти, наоборот, от культуры, как черт от ладана, в содом, в пещеру, в помойку»[546]. С другой стороны, современная культура все больше представлялась ему доказательством человеческого «падения». Наконец, в отношении писателя к культуре давала о себе знать характерная для крестьянского сознания смесь уважения и недоверия. В определенных контекстах столь почитаемую «высокую» культуру он уподоблял «надстройке» над обычной жизнью с ее простыми трудностями и радостями, соединяя ее с представлениями о рафинированности, утонченности, наивной устремленности к книжным идеалам. Этой эссенциалистски понятой, мифологизированной Культуре с большой буквы писатель искал и находил альтернативу. В его письмах и публицистике появляется еще один «образ» культуры – основанной на интериоризации традиционных этических норм, требующей не образования, знания Пушкина и чтения Шекспира, но определенности моральных ориентиров (тех самых «внутренней культуры», «порядочности», о которых периодически писали «деревенщики»).
Ничего (внучка Поля. – А.Р.) читать не хочет, пишет, как слышит, а я говорю – и пусть не читает, и пусть голову свою легкую не отяжеляет разной трухой и опилками так называемой культуры, любит лошадок, хочет ветеринаром быть и учиться в сельхозинституте, пусть любит лошадок и учится, где хочет, да деда с бабой почитает и понимает, больше и не надо. Многие знания – многие скорби… и лучше уж радоваться без этих самых знаний, чем быть несчастным, угрюмым и нелюдимым со многими знаниями. На земле рожденному, земным человеком и быть ему надо, а не витать в небесах, не шариться в облаках, отыскивая свет и дополнительный смысл жизни[547].
Таким образом, «внутренняя культура» изоморфна природе, взятой за образец, и специфически «природные» свойства (естественность, органичность) оказываются значимыми, хотя и не единственными, критериями ценности культурного акта[548].
Интересно, что придать противоречивым воззрениям Астафьева на культуру сюжетно-темпоральную связность невозможно. Упования на культуру или разочарования в ней преобладали не на том или ином хронологическом отрезке и даже не в том или ином типе высказывания – публичном либо частном, адресованном корреспондентам по переписке. Эти воззрения нельзя описать как последовательный переход от одного дискурса, по каким-либо причинам дискредитированного или исчерпавшего себя в глазах писателя, к другому. Напротив, с убежденностью и почти одновременно Астафьев продумывает взаимоисключающие идеи, хотя его эстетика и публичная позиция долгое время обусловливаются традиционным просветительским идеалом, который со временем (примерно с середины 1980-х) он сам же станет яростно дезавуировать. Примечательно, что вполне оптимистичные пророчества Астафьева о рождении «нового человека» через приобщение к культуре хронологически совпадают с первыми, высказанными в частной переписке, сомнениями в способности культуры что-либо менять и на кого-либо влиять. В 1964 году в письме Ивану Степанову писатель раздраженно замечает:
Вон у меня на полке стоит двести книг из серии «Жизнь замечательных людей», стоят сочинения титанов – Толстого, Достоевского, Бальзака и многих, многих страдальцев «за будущее», за человека. И что? Лучше стал человек? Жизнь его устроенней сделалась? Он высвободил ум и себя от забот о насущном хлебе для творчества и великих дел? Да ни хрена подобного! Все стало хуже и человек тоже. Эта двуногая скотина сама себя поставила к стенке и не понимает этого[549].
Искусство, историко-культурный опыт персонажей «ЖЗЛ» служат здесь верификации прогрессистского дискурса («лучше стал человек?»), в результате чего Астафьев вынужден признать, во-первых, отсутствие прогресса в духовной области, во-вторых, неоправданность надежд, в том числе и собственных, на преобразующую роль культуры. Возможно, за этим признанием стоит крушение иллюзий «неофита», прорвавшегося к культуре «из низов» и уповавшего на нее – ни больше, ни меньше – как на орудие спасения человечества. Кстати, просветительское отождествление «слова» и «дела» в советском культурно-политическом контексте выражалось подчас гипертрофированно (ср., к примеру, с высказыванием предтечи «деревенщиков» Валентина Овечкина: «Пишешь, пишешь и – ни хрена, ни на градус не повернулся шар земной»[550]), и Астафьев, вероятно, поначалу тоже вполне серьезно рассчитывал на видимый морально-педагогический и социальный эффект писательства, однако действительность безжалостно опрокинула эти ожидания.
В «Зрячем посохе», прощаясь (в очередной раз) с иллюзиями по поводу культуры, Астафьев утверждал: «само влияние литературы и искусства на человеческое общество у нас, как и во всем мире, преувеличено…»[551]. «Все классики нашей литературы, великие умы российские, жизнью своей и твореньями пытались хоть что-то изменить к лучшему, но толоконный лоб так и не пробили…»[552] – уточнял он свою мысль уже в 1993 году в письме прозаику Алексею Бондаренко. Из последнего высказывания, как и из процитированного выше письма Степанову, следует, что ответственность за неосуществленную утопию преображения личности литературой Астафьев возлагал на читателя. По сути, поставив под сомнение «действенность» литературы и искусства, художник поставил под вопрос и самого человека, и сделал это радикально – усомнившись в нем как в жизнеспособном антропологическом виде. Со временем Астафьев все больше сосредоточивается на проблеме неподатливости людской природы просвещающему воздействию культуры, истоках зла и интуитивном выборе человечеством нисходящей траектории развития. Примерно с конца 1970-х годов разнообразные факты и явления, от случаев бытового насилия до глобального экологического кризиса, писатель упорядочивает в рамках дискурса деградации. Парадоксально, однако, что основой астафьевского самоопределения все это время остается предложенная критиком А. Макаровым еще в 1960-е годы формула: «…по натуре своей он моралист и певец человечности…»[553]. «Я – последний, кто разочаруется в человеке»[554], – заявлял Астафьев в 1997 году, несмотря на то, что его художественная практика и публицистические манифестации к тому времени стали примером проблематизации гуманистического дискурса. Он действительно наследует, не избегая при этом терапевтического самоубеждения, руссоистской идее изначальной предрасположенности личности к добру: «Человек-то ведь задуман Богом хорошо»[555]. Однако амплитуда его суждений о человеке такова, что другой крайней точкой оказываются уничижительные определения – «выродившаяся тварь», «ошибка природы, роковая ее опечатка»[556]. Прошедший фронт Астафьев все более откровенно заявляет, что под тонкой пленкой культуры в человеке кроется неустранимое животное начало. Проявления в обыденной жизни агрессии, особенно институциализированные, у него, травмированного зрелищем военного насилия, вызывают болезненное неприятие. В 1960 году он пишет жене:
На бокс сходили. Зрелище это пробуждает в человеке зверя, низменные, жестокие его инстинкты. Люди кричат: «Добивай!» Кровь с лица не дают утереть. <…> Московские психопаты и смотрят, и визжат с горящими глазами, аж судороги их берут! <…> Зрелище это адски-захватывающее, жестокое, бесчеловечное[557].
В течение следующего десятилетия (в 1970-е годы) искусственное возбуждение кровью, жестокостью, нагнетание военно-мобилизационной риторики в повседневных обстоятельствах[558] он будет все так же бескомпромиссно числить по разряду психических аномалий:
Не ведают они (охотники-браконьеры. – А.Р.), что, перестав бояться крови, не почитая ее, горячую, живую, сами для себя незаметно переступают ту роковую черту, за которой кончается человек и из дальних, наполненных пещерной жизнью времен выставляется и глядит, не моргая, низколобое, клыкастое мурло первобытного дикаря[559].
Впоследствии художник сконцентрируется на проблеме немотивированности агрессии, пренебрежительном отказе современного человека отыскивать хоть какие-то основания, дабы оправдать применение насилия (об этом идет речь в «Пакости», 1984, «Печальном детективе», 1986, «Людочке», 1989). В прозе 1980-х годов, решительно раздвинувшей границы допустимого в изображении насилия и побудившей Виктора Ерофеева сделать весьма спорное умозаключение о разрыве Астафьева с русской «философией надежды»[560], писатель указывает на неизбывное присутствие в глубинах человеческой природы агрессивности и жестокости, хотя углубленной аналитики их истоков, биологических или метафизических, не предлагает:
Это вот что? Все тот же, в умиление всех ввергающий, пространственный русский характер? Или недоразумение, излом природы, нездоровое, негативное явление? Отчего тогда молчали об этом? Почему не от своих учителей, а у Ницше, Достоевского и прочих, давно опочивших товарищей, да и то почти тайком, надо узнавать о природе зла? В школе цветочки по лепесточкам разбирали, пестики, тычинки, кто чего и как опыляет, постигали, на экскурсиях бабочек истребляли, черемухи ломали и нюхали, девушкам песни пели, стихи читали. А он, мошенник, вор, бандит, насильник, садист, где-то вблизи, в чьем-то животе или в каком другом темном месте затаившись, сидел, терпеливо ждал своего часа, явившись на свет, пососал мамкиного теплого молока, поопрастывался в пеленки, походил в детсад, окончил школу, институт, университет ли, стал ученым, инженером, строителем, рабочим. Но все это в нем было не главное, поверху все. Под нейлоновой рубахой и цветными трусиками, под аттестатом зрелости, под бумагами, документами, родительскими и педагогическими наставлениями, под нормами морали ждало и готовилось к действию зло[561].
Попытки Астафьева объяснить для него необъяснимое – жестокость человека по отношению к природе и себе подобным вплотную подводят его к мысли о биологической детерминированности склонности к насилию. Животное начало укоренено в человеческой природе, и аномальный, по мысли писателя, ход развития человеческой цивилизации стимулирует его высвобождение. Понятно, что марксистская обществоведческая доктрина, рассматривавшая человека прежде всего как существо социально детерминированное и объяснявшая неконтролируемые проявления человеческой природы, вроде внезапной агрессивности, патологиями общественного устройства, подобное «биологизаторство» не поощряла. Тем не менее, счесть проблематику «природной» предрасположенности человека к агрессии и насилию «слепым пятном» позднесоветской культуры нельзя. В специфической для «долгих 1970-х» форме критики буржуазных концепций она так или иначе давала о себе знать в публичном пространстве. Догадка Астафьева о биологической обусловленности инстинкта (само)истребления и стремление в публицистике и художественной прозе осмыслить это явление сближают его с рядом активно критиковавшихся в СССР западных исследователей-этологов (Конрадом Лоренцем, Нико Тинбергеном, Десмондом Моррисом), усматривавшими корни цивилизационных проблем в отставании естественно-исторической поведенческой приспособляемости человека от культурно обусловленных изменений. Человек, полагали эти ученые, – существо, до конца непознанное в своих реакциях, не свободное от спонтанных проявлений насилия, провоцирующее вспышки внутривидовой агрессии в масштабах, грозящих физическим уничтожением себе подобных, его агрессивность детерминирована биологически и вряд ли может быть побеждена воспитанием и культурой[562]. В СССР эти дискуссии, эхом отозвавшиеся в газетной полемике, обществоведческих и философских работах[563], не получили сколько-нибудь самостоятельного продолжения, а с работами Лоренца или Тинбергена, выходившими на русском языке, Астафьев, судя по всему, знаком не был. Но тем показательнее их общность в утверждении взаимозависимости между поведением современного человека, которого они воспринимают, несколько огрубляя, как «испорченное животное», и кризисом современной цивилизации. В частности, и этологи, и «деревенщики», считавшие содержательно неопределенное «природное» основой человеческой личности, независимо друг от друга, яростно критиковали структурное ядро модерности – город, полагая, что существование в аномальных условиях скученности и взаимной анонимности пробуждает в человеке разрушительные инстинкты. Эту тему затрагивают К. Лоренц в «Восьми смертных грехах цивилизованного человечества» и Д. Моррис в «Людском зверинце», Астафьев в публицистических фрагментах «Зрячего посоха» и «Людочке», В. Белов в романе «Все впереди». При всей разнице языков описания, авторы исходят из идеи разрушения в ходе ускоренного цивилизационного развития «нормы», которая для этологов фиксируется видоспецифичными программами, а для «деревенщиков» – «онтологизированной», основанной на «природных» законах традицией. Тот же Астафьев язвительно заявляет:
Многие современные люди, не видевшие в глаза не только тайги, но даже обыкновенного леса, ведут себя среди людей, на городских площадях и улицах, как в тайге, шествуя по жизни без каких-либо указателей, прежде всего нравственных, и вид у них, и мораль дикаря-таежника, иным ультрасовременным жителям и до обезьяны недалеко[564].
В научной жизни СССР начала 1970-х также имелся прецедент обращения к теме насилия, в известной степени оправданный разработкой данной проблематики на материале первобытного общества, – это исследование историка и философа Бориса Поршнева «О начале человеческой истории (проблемы палеопсихологии)» (опубл. 1974). В одной из своих статей 1960-х годов Поршнев обращал внимание на «странное свойство человека – “уничтожать друг друга”»[565], позднее, реконструируя превращение палеоантропа в неоантропа, он обнаруживал причины такой «странности». Исследователь доказывал, что в процессе становления человека его животные предки проходили стадию адельфофагии, на которой – в зависимости от отношения к умерщвлению представителей своего вида – сформировались два основных подвида: поедающие себе подобных и исключающие для себя такую возможность. Вопреки идее Энгельса о ведущей роли труда в антропогенезе, Поршнев полагал, что в истоках человеческой истории лежат страх перед себе подобным и принуждение. Разумеется, как и в случае с этологами[566], речь не может идти о сознательном усвоении Астафьевым научных идей Поршнева (которого он, конечно, не читал) или кого-либо еще, а лишь о типологически близком стремлении ученого и писателя в разных типах дискурса – научном или художественном – легитимировать понятия насилия, агрессии и принуждения в разговоре о природе человека.
Астафьев вообще полагал, что сознательное игнорирование советской культурой проблем зла и насилия – свидетельство ее инфантильности («это от недоразвитости, <…> от всеобщей глухоты и слепоты»)[567], и, словно компенсируя это невнимание, в «Зрячем посохе» мировую историю попытался напрямую связать с насилием и подавлением. С его точки зрения, человечество руководствуется не природным – благим и мудрым,[568] а «казенным законом»:
…возник он, должно быть, еще до появления письменности, а может быть, даже и мысли, и суть его состоит в том, чтобы кто-то кого-то подминал и заставлял работать, добывать пропитание, защищать его от врагов – главный, древний и дикий порядок человеческих отношений: кто не работает – тот ест, да и пьет тоже[569].
В 1985 году Астафьев дорисовывает после разговора со знакомым генетиком картину глобальной инволюции:
Жизнь совсем с планеты не исчезнет, останутся частицы растений, водорослей и мелких, но самых стойких животных, скорее всего крысы, которые, доедая нас, родят тех, кто поест их, потом через миллион лет снова явится миру существо с комиссарскими мозгами и сообразит, что кто не работает, тот лучше и дольше проживет. И все начнется сначала. <…> Надежда – на Вселенную, на иные структуры и иное, не агрессивное устройство разума. Во что я, грешник, лично на исходе жизни совершенно не верю…[570]
Иными словами, подчинение себе более сильными особями менее сильных и уничтожение непокорных (то есть «трудового человека»[571] – единственно созидательного типа) Астафьев воспринимает в качестве инварианта развития человеческой истории, отклонения от которого почти невозможны. Парадокс в том, что иного противоядия от тотального отчаяния, кроме все той же периодически реанимируемой веры в спасительную силу культуры, писатель не находит[572].
Проблематизация, пусть непоследовательная, статуса литературы и искусства, само стремление Астафьева переместить внимание в ту область советской культуры, где наиболее очевиден был дефицит ее знания о природе человека, не замедлили сказаться в изменении образно-символического языка астафьевской прозы. Ужас перед безднами «звериного» в человеке на уровне поэтики вылился в предпочтение иконического знака конвенциональному, в гипертрофию натуралистического начала, предсказуемо избранного в качестве языка для выражения травмированности насилием[573]. Последовательная тематизация насилия в прозе 1980-х годов[574] и позднее сопровождалась закреплением за Астафьевым в среде читателей и критиков репутации «ожесточенного» художника[575]. Еще в начале 1980-х годов тонкий интерпретатор астафьевской прозы критик Валентин Курбатов, прочитав «Зрячий посох» и некоторые «затеси», где уже был очевиден интерес писателя к проблемам зла и насилия, увидел в этих текстах свидетельство кризиса. Он связал последний с нахождением Астафьева в маргинальном пространстве – между «жизнью», ассоциируемой с традиционным крестьянским миром, и «культурой»:
Ожесточение сердца угадывается сразу… доходя до степени неживой, словно Вы сами себя заводите. Раньше Вас лечила природа, родовая память, наследованная баушкина кровь с ее здоровой соразмерностью и покоем поля, дерева, неба, родная земля лечила, потому что была вдали и далью очищена. А теперь, когда она рядом, в ней дурное на глаза первым лезет, и душа осердилась. Тут чистое зрение может быть возвращено только великой культурой, которая всегда милосердна, потому что видела человека в разных ситуациях и научилась прощать его[576].
В центральных произведениях 1980-х, «Печальном детективе» и «Людочке», Астафьев действительно изображает ситуацию безнаказанного натиска зла и насилия на человечность и в очередной раз демонстрирует, во-первых, открытость проблематике, возникающей на стыке биологического и социального, во-вторых, расфокусированность двух типов оптики, которыми он в равной мере пользуется, – оптики моралиста и оптики «натуралиста». В «Людочке», среди прочего, его занимает природа всеобщей пассивности перед агрессией и насилием, провоцирующей их дальнейшее распространение. К. Лоренц, например, считал это явление одним из признаков кризиса современного человечества и объяснял «биологизаторски» – рассогласованием генетических и социальных механизмов, утратой «естественного правового чувства» и, как следствие, «инфильтрацией общества асоциальными представителями нашего вида»[577]. Астафьев же выдвигает двойственную мотивировку происходящего: с одной стороны, моралистико-психологическую – в публицистических отступлениях он ссылается на русскую привычку к терпению и неоправданную жалость к преступникам, в общем, перебирает мифологемы, трактующие специфику «национальной ментальности», с другой стороны, биологическую, по сути близкую к интерпретации Лоренца, но работающую непосредственно на уровне развертывания сюжета. В «Людочке» возмездие Стрекачу, «порочному, с раннего детства задроченному»[578] вожаку местной шайки развращенных юнцов и насильнику, приходит со стороны отчима героини – «двуногого существа с вываренными до белизны глазами», в котором клокочет «от пещерных людей доставшееся, сквозь дремучие века прошедшее, <…> всесокрушающее, жалости не знающее бешенство»[579]. Первобытная агрессивность отчима страшна, но, по Астафьеву, биологически и этически оправдана, ибо кладет конец насилию, творимому от рождения испорченным существом. В последнем же астафьевском романе[580] насилие заполняет все поры социального организма и выступает сутью мироздания, в котором мучающиеся люди обречены быть «проклятыми и убитыми». Здесь автор предельно обнажает первичную жестокую сущность бытия, защитой от которой ему в разное время представлялась то людская солидарность («артельность»), то самая «природная» и естественная форма человеческой близости – семья, то культура.
В начале своего творческого пути Астафьев был убежден, что именно культура – пространство преображения личности и спасения от жестокости, заключенной в социуме, но, размышляя о ней, он открывал в человеке глубины, которые не могут быть подчинены культуре. Крах советского политико-культурного проекта, участником и свидетелем которого писатель был, кризис в 1990-е годы личного проекта только усилили его разочарование в человеке, хотя окончательно расстаться с идеей просвещающего воздействия культуры Астафьев не хотел и, видимо, не мог, ибо идея эта, даже после ее многократной ревизии, структурировала его писательскую идентичность. В 1995 году в частном письме он заметит: «…пишу для того, чтобы если не обуздать, так хоть немножко утишить в человеке агрессивное начало»[581]. Другими словами, наличие в природе человека склонности к агрессии и насилию для него были уже бесспорны, но оправдание собственного творческого проекта требовало наделения культуры сверхсмыслом, и такой сверхсмысл писатель ей вновь и вновь придавал.
Глава III
«НА ФОНЕ ПУШКИНА…»: КЛАССИКА И «ДЕРЕВЕНЩИКИ» (К ВОПРОСУ О КОНСТРУИРОВАНИИ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ)
«Что Белов, Астафьев, Распутин – прямые и законные наследники русской классики, для меня факт столь же бесспорный, как и для вас. Несомненно то, что “Привычное дело”, “Царь-рыба”, “Живи и помни” – крупное явление всей нашей художественной истории. Их не зачеркнут никакие публичные выступления авторов этих книг»[582], – утверждал в 1989 году Николай Анастасьев. Первый аргумент, к которому он обратился, давая собеседнику понять, что осознает масштаб «деревенщиков», – упоминание об их преемственности по отношению к классической литературе XIX века, основному символу русского культурного величия. И хотя реплика Анастасьева прозвучала в пору горячего обсуждения советской интеллигенцией «перестроечной» демократизации общественной жизни, характерная для предыдущей, брежневской, эпохи отсылка к классике и преемственности все еще работала как «объективный», не зависящий от политической конъюнктуры довод.
«В качестве нормообразующих для русской литературы»[583], и в этом смысле наследующих классике, произведения «деревенщиков» признали довольно рано. Первые статьи о них в специализированных педагогических журналах появились уже в 1970-е годы, что говорило о востребованности создававшихся текстов и предложенных в них моделей социализации[584]. В середине 1980-х годов Александр Лапченко о преемственности «деревенщиков» по отношению к русской классике рассуждал как о чем-то само собой разумеющемся:
В связи с прозой о деревне всегда неизбежно заходит разговор о традициях. Она традиционна в лучшем смысле этого слова, как традиционна для отечественной литературы и сама проблема «человек и земля»[585].
Другими словами, примерно с конца 1970-х тезис о наследовании «деревенщиками» классической русской прозе требовал не принципиального обоснования, но конкретизации, которой занялись советские литературоведы[586]. Ясно, что отношение к «деревенщикам» как продолжателям классической традиции, способным представлять на страницах школьных учебников аксиологическую и стилистическую норму, сложилось не сразу. В 1986 году Виктор Астафьев не без иронии напоминал, что современным апелляциям к «деревенской прозе» «по делу и без дела»[587] предшествовало ее неприятие:
Любой «деревенщик», порывшись в столе, найдет вам десятки отповедей <…> критиков, где в закрытых рецензиях, давая «отлуп» тому или иному, ныне широко известному произведению, глумливо, с интеллектуальным сарказмом писалось, что в «век НТР и этакая вонь онучей?», «да куда же вы идете-то и насколько же отстали от жизни и передовых идей?»[588].