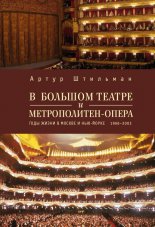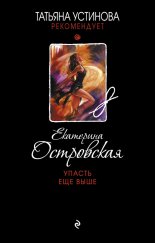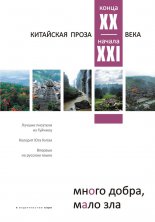Кассия Сенина Татьяна

– Почему? – спросил император, не оборачиваясь.
– Потому что думаешь, что она могла отдаться тому, кто ее не любил.
Феофил резко повернулся и посмотрел в бледное – чрезвычайно бледное в этот момент – лицо игумена. «Я, верно, несправедлив к нему!» – мелькнула у него мысль, но император всё же постарался сохранить ироничный тон:
– Как, неужели философ допустил, чтобы его постигло «расстройство ума»?
– Такое иногда случается и с философами, – усмехнулся Иоанн. – Впрочем, расстройство расстройству рознь. Если человек, охваченный страстью, всё же не теряет способности делать те дела, которыми занимался до упомянутого расстройства, значит, всё не так страшно, как кажется. Этим, кстати, и отличается маневр от простой одержимости: цель маневра – удовлетворяя непреодолимую страсть, сохранить способность в остальном вести жизнь по-прежнему, а при одержимости человек ищет только удовлетворять страсть снова и снова, не думая о чем-либо другом и часто теряя способность заниматься делами.
– Утоление голода, чтобы иметь возможность подумать о чем-нибудь другом, кроме пустого желудка, – еще не чревоугодие? Логично, – Феофил помолчал. – Только… если ты ее действительно любил, то вряд ли ты уступил страсти к опытам, а не любви!
– Если б и так, не заслуживает ли это снисхождения в твоих глазах, государь? – спросил игумен, пристально глядя на императора.
– Возможно, – усмехнулся тот. – Но в таком случае все эти твои рассуждения о «непреодолимой страсти к опытам» не имеют никакого смысла!
– Любовь тоже может быть опытом или его частью.
– Ответ поистине философский!.. Ладно, Иоанн, я больше не буду тебя мучить.
– Пустяки, государь.
Возвращаясь из монастыря во дворец, Феофил думал, что Грамматик непостижим. Слова и понятия, которыми объяснялись поступки большинства людей, к нему словно бы не подходили, и даже если игумен сам прилагал их к себе, они как будто бы значили что-то неуловимо иное… «Духовный судит обо всем, а о нем никто судить не может»?.. Как это Иоанну удается, даже впав в грех, оставаться таким «духовным»? Потому что не просто грех, а «маневр»?.. Экая, в самом деле, софистика! Поистине, «у Эзопа на всякую вину готово оправданье»!.. Впрочем, Иоанн, похоже, живет по правилу Аристотеля: «лучше познавать, чем быть познанным», так что, даже рассказывая о себе, умудряется оставаться непознанным…
Император прошел в оружейную залу, снял со стены кинжал из великолепной дамасской стали, с позолоченной рукояткой, украшенной рубинами, – один из трофеев, взятых некогда его крестным при победе над Фефифом, – и, почти не целясь, метнул в висевшую на противоположной стене мишень из досок, где были начерчены несколько вписанных один в другой кругов. Кинжал вонзился строго перпендикулярно доске, в самый центр мишени, в черный кружок величиной с номисму.
– «Не осуждай ты любезных даров золотой Афродиты», – пробормотал Феофил, снял со стены и метнул другой кинжал, потом взял третий…
Изобразив кинжалами ровный крест, перечеркнувший круги на мишени, император отошел к окну. Как ни трудно было понять Сергие-Вакхова игумена, был в мире некто, еще более непостижимый для Феофила, – девушка, которая сказала ему «нет» несмотря на то, что в ней вспыхнула та же страсть, что и в нем…
Молодой император больше ни словом не обмолвился с отцом на тему будущей женитьбы и старался внешне вести себя так, как будто ничего не произошло. Гнев, овладевший им поначалу, вскоре остыл, и, размышляя о случившемся, Феофил иногда думал, что игумен, видимо, сказал правду, и он действительно плохо знал свою мать. Да и почему, собственно, Иоанн не мог полюбить ее? Разве он не человек и не может подпасть действию страсти? Обеты, заповеди? Ну, а сам-то он не нарушил бы заповеди, если бы сейчас вдруг Кассия… Пожалуй, даже не задумался бы!.. А отец… Мать он не любил, а теперь – политический маневр… Понятно!
Но вскоре Феофил понял, что плохо знал и отца. За два дня до Богоявления оба василевса вместе с патриархом и Грамматиком сидели в Малой Консистории и строили предположения о том, что ответят король франков Людовик и папа Римский в ответ на отправленные им весной императорские послания – от этого зависело многое. Послания были по поручению Михаила составлены Феофилом вместе с Грамматиком. После упоминания о церковном разделении, продолжающемся в восточной Империи, и выражения об этом должной скорби в письме Людовику говорилось, что иконопочитатели, вопреки соборным постановлениям, не только продолжают поклоняться иконам, но относятся к ним по-язычески суеверно, а некоторые бегут из Империи в Рим и распространяют там клеветы на императора и законную церковную иерархию. «Многие из клириков и мирян, – утверждалось в послании, – изменив апостольским преданиям и не соблюдая святоотеческих постановлений, измыслили нечто дурное. Прежде всего они изгнали из святых храмов честные и животворящие кресты и на их место водрузили иконы, перед ними повесили лампады и воскуряли ладан, и вообще воздавали им такое чествование, как честному и животворящему Кресту, на котором благоволил быть распятым нашего ради спасения Христос, истинный Бог наш. Они пели перед ними псалмы, поклонялись им и от тех икон просили себе помощи». Приведя далее несколько примеров бытовавших в народе суеверий, таких как употребление соскобленной с икон краски в качестве причастия, авторы письма продолжали: «И многое другое подобное этому существовало в церквах, что непозволительно и противно нашей вере и что ученейшим и разумнейшим мужам казалось непристойным. Поэтому православные императоры и ученейшие священники решили составить поместный собор для обсуждения этого вопроса, каковой собор и состоялся по вдохновению Святого Духа. Общим голосом они запретили все это, приказали снять иконы с низких мест и дозволили оставить их на высоких местах, чтобы изображения служили только взамен писания, возбранив невежественным и нетвердым в вере людям поклоняться им, возжигать пред ними лампады и воскурять благовония. Точно так же и мы теперь думаем и соблюдаем это, отлучая от Церкви Христовой тех, кто упорствует в суеверных измышлениях такого рода». В послании также рассказывалось вкратце о подавленном бунте Фомы, а в заключение императоры просили короля франков оказать содействие в умиротворении Константинопольской Церкви через посредничество перед папой и изгнание из Рима восточных беженцев, которые враждебно настраивают западных братьев против Империи, поскольку эти «хулители» являются людьми неблагонадежными и недостойными доверия. В качестве приложения франкам была отправлена подборка текстов в пользу иконоборчества, составленная Грамматиком и им же, вместе с придворными переводчиками, переведенная на латынь. Отправившиеся к Людовику в Руан послы – протоспафарий Феодот и диакон Феодор Крифина, ставший экономом Святой Софии, после того как Иосиф, напуганный страшной участью императора Льва, отказался от должности, – отвезли королю в подарок ткани и драгоценные одежды.
Михаилу хотелось как можно скорее получить ответ – по возможности благоприятный – от короля и от папы, но он небезосновательно опасался, что западные богословы будут «слишком медленно соображать». Патриарх успокаивал его, говоря, что там всегда так было, «что с них взять – образование не то». Игумен сказал, что в любом случае время терпит, и, насколько можно судить по некоторым писаниям аахенских богословов времен императора Карла и Алкуина, которые Грамматик имел возможность изучить по латинскому списку с оригинала, франкские богословы должны встать на сторону истинных догматов. Феофил слушал разговор внимательно, но сам больше отмалчивался. Наконец, Михаил сказал, что можно разойтись. Грамматик откланялся и направился к выходу, за ним последовал Феофил, а патриарх подошел к Михаилу и тихо проговорил:
– Августейший, я бы хотел обсудить с тобой вопрос, касающийся твоей предстоящей женитьбы.
– А, прекрасно! – сказал император. – Феофил, погоди уходить! Отец игумен, ты тоже вернись. Святейший хочет обсудить еще кое-что!
Все снова заняли свои места.
– Э-э… – патриарх был несколько смущен. – Августейший, в народе уже поползли всякие толки… Некоторые недовольны твоим вступлением во второй брак, тем более… с монахиней… Подозреваю, тут опять мутят воду студиты. Но как бы то ни было, мне подумалось, что надо принять определенные меры к тому, чтобы успокоить недовольство…
Феофил слегка нахмурился; Михаил, напротив, не выказал ни раздражения, ни беспокойства.
– Какие же меры ты предлагаешь, святейший?
– Эм… Быть может, мы обсудим это наедине?
– Да нет, зачем же? – улыбнулся Михаил. – Ведь тут все свои, не стесняйся, владыка!
На лице патриарха отразилось легкое удивление, у игумена одна бровь поползла вверх.
Феофил взглянул на отца, и у него возникло подозрение, что Михаил сейчас что-нибудь «выкинет».
– Конечно, августейший, – сказал Антоний, – я не предлагаю применить к тебе и твоей будущей супруге каноны, полагающиеся… хм… при растлении монашествующих…
– Но это было бы и неправильно, святейший, – возразил император. – Думаю, подневольный постриг вполне можно вменить, как не бывший, не так ли?
– Тут… э… существуют разные подходы, государь, – ответил патриарх. – Многие считают, что даже если родители обещали посвятить ребенка в монахи до его рождения, то это всё равно, что обет…
– Да, люди во всем могут заходить до дури далеко, даже в благочестии! – насмешливо сказал Михаил. – Но как там философы-то учили? Благочестие должно быть с разумом, не так ли, сын мой? То бишь с рассуждением, не правда ли, отче?
Император по очереди взглянул на Феофила и на Грамматика. Феофил ничего не ответил, только смотрел на отца пристально и выжидательно, что вызвало у Михаила легкую усмешку. По лицу игумена было трудно что-либо прочесть. Когда император обратился к нему, Иоанн кивнул и ответил:
– Безусловно, августейший. Между прочим, восемнадцатое правило святого Василия Великого гласит, что, хотя давшая обет девства и падшая подлежит епитимии прелюбодейцы, но «обеты тогда признаём действительными, когда возраст достиг совершенного разума, ибо детские слова в сем деле не подобает почитать совершенно твердыми», и потому следует принимать обеты только в возрасте от шестнадцати лет. Но и это лишь тогда, когда девица проявит твердое и сознательное расположение. «Ибо, – говорит святой Василий, – многих приводят родители, и братия, и некие из родственников прежде совершенного возраста, не по собственному их стремлению к безбрачию, но промышляя чрез то для себя нечто житейское. Таковых не должно легко принимать, доколе не узнаем ясно собственного их расположения».
– Восхитительно! – усмехнулся Феофил.
– Вот именно! Прекрасно! – воскликнул император с довольной улыбкой. – Вот что значит – говорить с рассуждением! Итак, поскольку девицу, о которой речь, во время оно никто не озаботился спросить о ее собственном расположении, то постриг совершился против правил, и его можно считать никогда не бывшим. Видишь, отец игумен, – вновь обратился он к Иоанну, – я тоже, когда надо, умею быть софистом! – он перевел взгляд на патриарха. – Следовательно, остается только вопрос второго брака, не так ли?
– Да, государь. Мне думается, что, ради успокоение умов наших подданных… вам с супругой было бы разумно назначить епитимию, положенную для второбрачных… Это один год отлучения от причастия, согласно четвертому правилу святого Василия.
– Всего-то? – сказал Михаил весело. – Какая мелочь, святейший!
– Гм! – патриарх был несколько удивлен. – Я рад, государь, твоей готовности следовать святым канонам…
– Но стоит ли свадьба таких затрат? – заметил Феофил несколько жестко.
– Тебе кажется, что я роскошествую, мой дорогой? – усмехнулся Михаил. – В этом есть доля истины, но почему бы мне не позволить себе то, чего желает душа, хотя бы и с переплатой, как тебе думается? Моя покойная супруга, – тут император взглянул на Иоанна, – под конец своего жития улучила желанное ей. А теперь и я хочу улучить желанное мне. По-моему, это будет справедливо!
Патриарх, никак не ожидавший, что разговор примет столь откровенный характер, растерянно посмотрел на императора, не понимая, какую цель он преследует, так оборачивая беседу, и перевел взгляд на игумена. Феофил слегка побледнел и тоже впился глазами в Грамматика. Иоанн и бровью не повел, только скрестил руки на груди и спокойно сказал:
– По-моему, тоже.
– Вот и славно! – воскликнул Михаил. – Я знал, что мы с отцом игуменом поймем друг друга, нам ведь не впервой! – он усмешливо посмотрел на Грамматика и обратился к патриарху. – Что с тобой, святейший? Я же сказал: здесь все свои! Все мы знаем, о чем речь, не так ли? Поэтому я предпочел сказать без утайки, что, вступая в брак…
Феофил резко поднялся и произнес, в упор глядя на отца:
– Ты делаешь «политический ход государственной важности»?
– Дорогой мой, – улыбнулся Михаил, – ну, ты ж ученый человек, ума палата! Сколько книг прочел, не чета твоему невежде-родителю… Но даже вот я, благодаря нашему несравненному философу, – он взглянул на игумена, – ознакомился с некоторыми историческими сочинениями и вынес оттуда простой вывод: главное для императора – найти для любого своего действия благовидное объяснение!
– Да, вывод неглупый, – сказал Феофил. – Достойный если не философа, то софиста. Пожалуй, я возьму его на вооружение. А теперь позвольте мне вас покинуть. Я люблю театральные представления, но в умеренном количестве.
…После свадьбы и коронации Евфросина получила не только титул августы, но и почетное именование «матери императора». Феофил, впрочем, называл ее исключительно «августейшая» и предпочитал поменьше общаться с мачехой. Всё в ней было ему неприятно: ее красота, ее смиренное поведение, ее тихая улыбка, ее любовь к мужу – стыдливая, но такая, что ее нельзя было не заметить. Конечно, он старался не выказывать своей неприязни, но императрица не могла не догадаться, как пасынок относится к ней. Зато маленькая Елена сразу привязалась к мачехе, и Евфросина, как могла, старалась заменить ей мать, чья смерть поразила девочку. Отец сказал ей, что «мама просто ушла жить к Богу, и мы с ней еще увидимся», и Елена поначалу то и дело спрашивала, скоро ли они увидятся, а когда поняла, что никто этого точно не знает и что, как видно, это случится не так быстро, как ей хотелось, некоторое время пребывала в грустном недоумении. Евфросине постепенно удалось развеять эту печаль, и девочка вскоре стала относиться к ней, как ко второй матери. Феодора тоже полюбила новую августу и общалась с ней гораздо охотнее, чем с собственной матерью. Они быстро нашли общий язык, вместе возились с детьми, придумывали новые узоры для вышивки, читали стихи и обсуждали трагедии Еврипида и Софокла, к чтению которых Феодора в последнее время пристрастилась. Феофил не стал ограничивать жену в общении с новой августой – помимо того, что это не так уж легко было сделать, он не считал себя вправе доставлять Феодоре лишние скорби, прекрасно сознавая, что жизнь с ним и так приносит ей мало счастья…
На самом деле он понимал настоящую причину своей неприязни к мачехе: он не считал ее особенно порочной женщиной – дело было в отравлявших его мыслях. «Итак, все нашли свою любовь! Все получили свое, так или иначе, даже “бесстрастный философ”! Что бы там ни витийствовал Иоанн, а только… никому из них не было дела до добродетели – ни ему, ни матери, ни отцу, ни Евфросине! Все они насладились или теперь наслаждаются известного рода счастьем… Только я почему-то его лишен! За что я так наказан?!.. Или это так выражается особая любовь Божия ко мне – “кого Я люблю, тех обличаю и наказываю”, – и я должен радоваться? Только почему-то хочется сказать в ответ на такую любовь: “Выйди от меня, Господи, ведь я человек грешный!”…»
В первое время после свадьбы Михаила и Евфросины в Городе поговаривали о том, что мать новой августы тоже должна перебраться во дворец и, наконец, хоть под старость лет «взять свое», возвратившись к той жизни, которой когда-то насильно лишилась по прихоти мужа. Но Мария, привыкшая в духовных делах советоваться со Студийским игуменом, и тут не изменила своему обычаю и написала ему письмо, где рассказала об обстоятельствах, при которых ее дочь сменила монашеские одеяния на императорский пурпур, и о том, что многие теперь ждут и ее появления при дворе, чего ей самой совсем не хочется: «Я уже не в том возрасте, чтобы возвращаться к оставленной много лет назад суете, – писала бывшая императрица, – и к тому же не знаю, будет ли это угодно Богу, поступок же дочери меня немало опечалил. Она только теперь призналась мне, что никогда не хотела быть монахиней, что принесла обеты скрепя сердце, по принуждению Принцевской игуменьи, и потому считает, что настоящий случай даруется ей Богом как справедливое утешение. Но я подозреваю, что она не договаривает главного, и что на самом деле тут, как это ни удивительно, большее значение имеют ее чувства к государю, хотя я решительно не могу понять, каким образом могло вспыхнуть в ней это увлечение…» В ответном письме, упомянув о бедствиях, перенесенных Марией – несправедливом разводе и изгнании в монастырь, – и похвалив ее за терпение и благочестие, игумен писал, что ей лучше не покидать обители: «Иные будут говорить иное: чтобы мать следовала за дочерью, ибо это бывает, говорят, даже и у зверей, по естественному влечению. Пусть кто-нибудь думает так, а мы, уничиженные, повторим слова Господа: “Кто Матерь Моя и кто братья Мои”?» Получив такое наставление, бывшая императрица предпочла остаться в обители, и при дворе вскоре опять забыли о ней.
Родственники Феодоры по-разному отнеслись к появлению у нее новой свекрови. Флорина избегала выражать открыто осуждение в адрес императрицы, однако попыталась внушить дочери, что не стоило бы ей тесно общаться с женщиной, которая «так легко попрала монашеские обеты и вернулась от ангельского жительства в суетный мир». Но Феодора резко воспротивилась этим увещаниям.
– Послушай, мама, – сказала она ядовито, – если мир так плох и суетен, то что же ты до сих пор в нем задерживаешься? Видно, тебе он всё же нравится? И чем виновата Евфросина, если ее чуть ли не в детстве постригли, даже не спросив, хочет она того или нет?! Ты вот считаешь ее порочной, а я тебе скажу, что я гораздо порочнее ее! Я бы на ее месте сбежала из монастыря уже давным-давно! И прошу тебя, больше не приставай ко мне с такими разговорами, а не то… а не то я пожалуюсь на тебя свекру!
Братья и сестры молодой императрицы, отнеслись к семейным переменам во дворце достаточно философски, предпочитая вообще не обсуждать скользкую тему. Зато дядя Феодоры удивил всех, в том числе императора: стратиг Анатолика не только не приехал на свадебные торжества, но еще и написал Михаилу довольно резкое письмо по поводу сделанного им выбора новой супруги. Император, столь же неожиданно для всех, пришел в такой сильный гнев, какого никто у него и не помнил. Он немедленно издал указ о смещении Мануила с должности и вызвал его в столицу для разбирательства – правда, в качестве предлога было выдвинуто не его дерзкое письмо, а доносы, поступавшие на стратига еще во время мятежа Фомы – говорили, будто он тайно помогает бунтовщикам. Император тогда поглядел на это сквозь пальцы, но теперь решил дать делу ход. Мануил, однако, не приехал, а вскоре из Амория пришла весть, что бывший стратиг тайно бежал, и следы его теряются у арабской границы.
После этого случая никто при дворе не дерзал как-либо порицать второй брак императора, тем более что, вскоре после сообщения о бегстве Мануила, Михаил вызвал к себе Феоктиста, который в бытность императора доместиком экскувитов был его секретарем, а теперь уже занимал пост хранителя чернильницы, и сказал ему:
– Феоктист, у тебя есть один неоспоримый талант. Я, правда, не знаю, воздастся ли тебе за его преумножение на том свете, но, по крайней мере, на этом он должен пригодиться. А именно, ты умеешь донести нужные сведения всем, кому необходимо их донести, быстро и так, что источник сведений остается в тени.
Патрикий молча поклонился.
– Так вот, – продолжал император, – потрудись хорошенько над тем, чтобы в стенах Священного дворца отныне никто и никогда ни словом не касался моей второй женитьбы и обстоятельств, ее сопровождавших. Если же кто-нибудь всё же вздумает об этом заговорить, то, кто бы он ни был, говорить ему более не придется, потому что ему отрежут язык.
21. Оттенки
(Виктор Цой)
- Есть два цвета – черный и белый,
- А есть оттенки, которых больше.
«Длинно письмо достоинства твоего и притом исполнено укоризн, то смиряющееся, то восстающее против нашего ничтожества, будто мы без разбора и исследования принимаем клеветы на тебя, а также безрассудно произносим суждения, притом относительно предметов весьма важных. Мы же, привыкнув устраняться от таковых, объявляем, что мы выслушиваем их болтовню, как детские шутки, и говорим так, чтобы угодить не людям, но Богу, испытующему сердца наши, хотя мы и грешны в других отношениях…»
Кассия положила письмо Студийского игумена на стол и нахмурилась. Она никак не думала, что обстоятельства, сопровождавшие смерть Акилиного отца, перерастут в нешуточный скандал. Патрикий Феодот, после подавления бунта Фомы назначенный стратигом Фракии, ревностно предался исполнению новых обязанностей, обучал войска, объезжал фемные города и следил за тем, как они укреплены и охраняются, так что после назначения на новый пост бывал у себя в имении лишь наездами. Хозяйство полностью взяла в руки его жена Исидора, женщина волевая и несколько суровая. Познакомившись с ней, Кассия было заопасалась относительно того, как сложатся отношения у сестры со свекровью, но Евфрасия обладала настолько счастливым характером, что, нимало не притворяясь, не заботясь о том, чтобы кому-то понравиться, и ведя себя совершенно естественно, привычным и единственно возможным для нее образом, она почти сразу так расположила к себе свою новую родню, что все буквально души в ней не чаяли, а Феодот сказал Акиле:
– Долго ты искал жену, сынок, но уж нашел, так нашел! Такое сокровище того стоит!
Евфрасия как-то особенно полюбила свекра и, когда он бывал дома, проводила с ним большую часть времени, так что Акила иногда в шутку прикидывался, что ревнует. Но на самом деле он понимал, что жене просто с детства не хватало рядом отца, и потому ее тяга к Феодоту вполне объяснима. Сына, родившегося у молодых супругов в октябре, решили назвать Адрианом, и он оказался по характеру таким же непоседой, как мать: едва научившись ползать, он стал делать это так быстро, что иной раз его едва успевали ловить и удерживать вдали от не слишком подходящих для малыша мест. Евфрасия почти всё свое время проводила с ним, а когда приезжал свекр, она переселялась к нему в имение из своего особняка, где они с Акилой и Марфой жили после рождения ребенка, и Феодот мог вдоволь наиграться с внуком. Исидора была более сдержанной, но и она то и дело бросала домашние дела, чтобы повозиться с маленьким Адрианом.
И стратиг, и его супруга держались иконопочитания; Исидора, как с радостью узнала Кассия, давно переписывались со Студийским игуменом, обращаясь к нему за духовными советами. Постепенно девушка ближе сошлась с патрикией, и та сказала, что ей давно хочется устроить где-нибудь на принадлежащих им землях приют для гонимых монахов. Ее желанию вскоре суждено было исполниться. Кассия по-прежнему жила в столице, примерно раз в месяц на несколько дней приезжая к родственникам во Фракию, и вот, весной в особняке близ форума Константина появился иеромонах Дорофей: приехав в Константинополь с поручением от игумена Феодора, он зашел навестить своих давних благодетельниц. Кассия рассказала ему, какие перемены произошли в жизни ее родных и узнала от Дорофея, что на Трифонов полуостров приезжал градоначальник Никомидии и грозился разогнать оттуда всех студитов, если они будут «продолжать мутить воду»: до императора дошли порицания, высказанные по поводу его новой женитьбы игуменом Феодором. После этого часть братий разъехалась, темболее, что в том месте собралось уже столько студитов и туда приезжало так много гостей, что иной раз не всем хватало келий, – а сам Феодор с некоторыми братиями подумывал о том, чтобы перебраться на Принкипо. Кассия спросила, не хотел бы Дорофей с кем-нибудь из братий переехать на жительство в имение Феодота. Иеромонах обещал поговорить об этом с игуменом и, получив от Феодора благословение, через месяц перебрался во Фракию. К его приезду Исидора велела построить несколько келий недалеко от стоявшей возле ручья, в миле от ее особняка, небольшой часовни, где монахи и стали совершать богослужения. Поселившись на новом месте, студиты – в их числе были давние знакомые Кассии Симеон и Зосима – жили по прежнему монастырскому уставу, работали на огороде, а также занимались пошивом монашеских одежд, отправлявшихся игумену для раздачи братии, и перепиской книг, в основном псалтирей, которые Симеон раз в два месяца возил на продажу в столицу. Стратиг и все его родственники и домочадцы окормлялись у студитов, а раз в неделю отец Дорофей посещал и Марфин особняк, чтобы совершить литургию в домовой часовне.
Студиты, знавшие о намерении Кассии принять постриг, были немного удивлены, видя, что она до сих пор остается в миру, но не любопытствовали о причинах. А она никому не рассказывала о своих планах и только со Львом после занятий иногда обсуждала возможное устройство будущей обители.
– Знаешь, – сказала она один раз с легкой усмешкой, – я подумала, что, должно быть, немало хороших советов мне мог бы дать один человек, к которому я за ними никогда не обращусь.
– Почему? – удивился Лев. – И что это за человек?
– Иоанн, нынешний Сергие-Вакхов игумен, – Лев чуть вздрогнул, но Кассия не заметила этого и продолжала: – Судя по тому, что рассказывают о порядках в его обители, мне бы пригодился его опыт.
– Да, – сказал Лев, немного помолчав, – пожалуй… Я и сам бы не прочь с ним познакомиться.
– Мне один раз довелось с ним поговорить. Правда, тогда я не знала, что это он… Может, и хорошо, что не знала, а то наша беседа вышла бы, пожалуй, малоприятной.
– А она была приятной? – Лев с любопытством смотрел на девушку, но не решился спросить, при каких обстоятельствах она познакомилась с Иоанном.
– Да, и притом довольно поучительной… для меня. Кто бы мог подумать! До того я считала его… чуть ли не злым демоном!
– А на самом деле?
– На самом деле он… можно сказать, обаятелен, – улыбнулась девушка. – По крайней мере, со мной он был именно таким. Умен и к тому же очень проницателен…
Она вдруг погрустнела и умолкла.
– Я иногда думаю, – сказал Лев, – что, поскольку человек – существо мыслящее и разумное, то наиболее сильная симпатия… притяжение или как бы это ни назвать… возникает между людьми умными, причем поверх всех барьеров, в том числе разногласий в вере.
Кассия взглянула на него очень странно и тут же опустила взор.
– Да, – сказала она тихо, – это похоже на правду… И я даже не могу теперь сказать, прекрасно это или ужасно!
– А раньше могла? – Лев чуть заметно улыбнулся.
– Раньше?.. Раньше я не задумывалась об этом всерьез… Не было повода. Но мне казалось, что, раз ничего нет важнее догматов, то, конечно, ради них надо презирать всё прочее… То есть я и сейчас так думаю, но раньше мне казалось, что, стоит выбрать правильный путь, идти по нему будет… не то, чтобы легко, но как бы… бесповоротно, что ли. Я, наверное, непонятно выражаюсь?
– Нет, я понимаю. Не ожидаешь таких развилок, где вдруг начнешь сомневаться, что правильно выбрал путь изначально.
– Да! Жизнь… иногда преподносит сюрпризы, – Кассия помрачнела. – Прав был Соломон: «Во многом знании много печали»! Чем больше знаешь, тем больше различаешь оттенков… Жить бы проще, видеть только черное и белое, как легко! – она усмехнулась.
– Большие познания, конечно, создают некоторые сложности в жизни, – согласился Лев, – но и делают ее такой прекрасной, какой никогда не смогут увидеть ее невежды! Разве ты не согласишься, что «один день человека образованного дольше самого долгого века невежды»?
– Соглашусь, конечно, – улыбнулась девушка. – Иначе я давно бы уже была где-нибудь на Принкипо, а не изучала бы тут с тобой философию.
План устройства будущей обители постепенно складывался в ее уме, и она уже собиралась поделиться своими замыслами с игуменом Феодором, как вдруг случилась эта неприятная история!..
Стратиг Феодот время от времени бывал в столице и вращался при дворе, но никто из его родных и в мыслях не держал, что он состоит в церковном общении с иконоборцами – патрикий никогда не говорил об этом, а бывая у себя в имении, исповедовался и причащался у отца Дорофея. Правда открылась после того, как его знакомая Евфросина, игуменья Клувийской обители, случайно встретилась со стратигом на улице. Евфросина знала Феодота еще с тех пор, когда был жив ее отец, занимавший пост стратига сначала в Арменьяке, а потом в Элладе: Феодот тогда служил под его началом и был им любим как друг, хотя по возрасту был значительно моложе. После смерти мужа его супруга Ирина с дочерью ушли в монастырь, но изредка переписывались с Феодотом; Ирина много лет была настоятельницей обители и скончалась совсем недавно. Евфросина рассказала Феодоту, что они с матерью в апреле были в Вифинии у старца Иоанникия, и отшельник предсказал Ирине скорую кончину, а ее дочери – настоятельство. Так оно и случилось: Ирина умерла через месяц после посещения прозорливца, а сестры обители единодушно избрали Евфросину на игуменство.
– Слава Богу, что мама смогла перед кончиной принять православное причастие! – сказала игуменья. – Я написала отцу Феодору, и он прислал к нам одного из студийских отцов с Дарами. Успел приехать! А я так беспокоилась… мама уже была очень плоха, как-то внезапно болезнь ее схватила… Вот я и думала: неужели без причастия отойдет?
– Ну, – сказал стратиг, – в крайнем случае можно было бы пригласить кого-нибудь из здешних.
Евфросина ошарашено взглянула на него.
– Иконоборцев?! Да что ты говоришь, господин Феодот? У еретиков нет причастия! У них не причастие, а пища демонов! Как можно перед смертью так оскверниться? Упаси Господь!
– Э-э… – Феодот несколько растерялся. – Разве это такое уж прямо… осквернение? Мне кажется, что при тяжких обстоятельствах… Тем более, если человек верует православно, разве Господь его отвергнет? Ведь главное – как он в душе верует…
– Что ты такое говоришь, господин?! Апостол учит, что нет общения у верных с неверными. Какая может быть православная вера, если человек общается с врагами православия, с отвергшими Христову икону? – игуменья внимательно поглядела на смущенного стратига и спросила: – Да ты уж не причащаешься ли сам с ними?!
Она угадала: Феодот действительно, бывая в столице и участвуя в праздничных церемониях вместе с императором, приобщался в Святой Софии. Правда, сначала он не хотел этого делать, но эпарх предупредил его, что это может вызвать недовольство императора: Михаил, хоть относился к иконопочитателям терпимо, не любил, когда в его ближайшем окружении слишком явно проявляли приверженность к иконам – ведь всё, относящееся к иконам, должно было «погрузиться в великое молчание». Феодот был храбр на войне, но при этом всегда робел перед вышестоящими. Гонения на иконы при императоре Льве он благополучно пережил в провинции, но теперь, оказавшись на высоком посту и почтенный таким доверием василевса, опасался прогневать его. Итак, он уступил увещаниям эпарха и еще некоторых знакомых, уверявших его, что такое приобщение из рук иконоборцев – пустая видимость, ничего не значащая, коль скоро стратиг остается по вере иконопочитателем…
Евфросина принялась горячо убеждать Феодота, что он поступает дурно и, по сути, идет против Христа. Стратиг в замешательстве спросил, что же ему теперь делать. Игуменья сказала, что немедленно напишет отцу Феодору – она уже много лет состояла со Студитом в переписке, а в последнее время получила от него несколько писем с утешениями в скорби по почившей матери и наставлениями о том, как руководить сестрами и управлять обителью.
– Что отец Феодор напишет, то и надо сделать. Сделай это непременно, молю тебя, ради спасения твоей души!
Узнав от Евфросины о происшедшем, Студийский игумен тут же написал стратигу. «О, несчастье! – говорилось в письме. – Что это за невольное увлечение? Что это за принудительное причастие под страхом телесных страданий в случае отказа участвовать в иноверном хлебе?» Феодор призывал стратига «не увлекаться временем» и не бояться властей больше, чем нужно, и призывал к покаянию: «Может быть, почтенная душа твоя скажет: “Кто уязвил – Тот и уврачует нас”. Для этого именно и есть епитимия. Действительно, нет ничего неисцелимого, если оно врачуется».
Стратиг получил это письмо, когда был уже сильно болен: на другой день после встречи с Евфросиной у него внезапно случился приступ печени, такой острый, что Феодот сразу оказался прикованным к постели. Он послал сообщить об этом Кассии и одновременно отправил одного из слуг к жене во Фракию. Исидора сразу же приехала, а вслед за ней и Акила с Евфрасией; малыша оставили на попечении Марфы. Врачи не говорили ничего определенного, поили больного варевом из оригана с медом и другими целебными сиропами. Стратигу стало лучше, но боли продолжались. Однако никому не верилось, что он может умереть – ведь еще недавно он был вполне крепок, да и возрастом не старик…
Феодот рассердился, прочтя письмо Студита.
– Тут дышать тяжело от боли, а он о каких-то епитимиях говорит! – пробормотал стратиг, не сообразив, что игумен ничего не мог знать о его болезни, и сначала никому не рассказал о содержании письма.
Кассия, видя, что положение больного не особенно улучшается, предложила послать за отцом Дорофеем, чтобы он приехал причастить стратига. Но тут рассердилась Ефрасия:
– Ты что, думаешь, что он умрет, да?! Нет! Я не хочу, чтобы он умер! Этого не может быть! – она разрыдалась. – А вам только бы дай кого-нибудь на тот свет напутствовать!.. Не надо никакого отца Дорофея! Вот он поправится, и тогда мы все вернемся к нам и вместе причастимся!
Она не могла выразить это словами, но Кассия понимала: на самом деле сестра боялась, что у нее второй раз отберут отца, а ведь она с ним успела пообщаться так мало, мало!.. Исидора была сумрачна. Она сурово поговорила с врачами и выбила из них ответ: судя по тому, что существенных улучшений в болезни не наступает, следует в ближайшие дни ожидать кризиса, и тогда – или-или. Патрикия сказала Евфрасии и Кассии, что надо бы действительно пригласить отца Дорофея, и ради успокоения невестки целый вечер уверяла ее, что Господь через причастие укрепит больного, и Феодот, конечно же, быстрее поправится.
– Но ведь он не умрет, правда? Не умрет? – повторяла Евфрасия.
Акиле было так тяжело всё это слышать и видеть, что он осунулся, на него было просто жалко смотреть. Кассия отправила одного из слуг за Дорофеем. Когда Исидора сообщила об этом мужу и сказала, что Святые Тайны, конечно, укрепят его, Феодот вдруг помрачнел, какое-то время молчал, тяжело дыша и морщась от боли, а потом проговорил:
– Помру я, мать! Видно, наказал меня Господь…
– Помилуй Бог, о чем ты?! – воскликнула патрикия.
Стратиг велел ей достать из шкатулки письмо Студийского игумена. Прочтя, Исидора уронила руки на колени.
– Так ты и правда причащался с ними?
Феодот вкратце рассказал жене о разговоре с Евфросиной и о том, что он действительно неоднократно принимал причастие у иконоборцев, боясь прогневать императора, а всем своим и отцу Дорофею на исповеди не говорил об этом потому, что боялся упасть в их глазах. К тому же ему думалось, что он действительно совершает не очень страшное отступление, коль скоро продолжает почитать иконы и во всем остальном верить православно…
Дорофей опоздал: прибыв в столицу, он застал стратига уже несколько часов, как умершим. Евфрасия рыдала, Акила пытался ее успокоить, Кассия читала у тела Псалтирь, Исидора готовилась к похоронам. Иеромонах совершил отпевание усопшего, стратига похоронили, и только уже после поминального обеда Исидора показала Дорофею письмо Студийского игумена и сказала, что Феодот, конечно, покаялся бы в своем грехопадении, но увы, не успел… Так думали все, в том числе и Кассия, но Дорофей всё же был смущен и написал Феодору письмо с вопросом, как быть с дальнейшим поминовением почившего. Игумен ответил, что если «имевший прежде общение с ересью по страху человеческому» покается перед смертью, и умрет в общении с православными, то поминать его можно, если же покойный «не успел причаститься Тела и Крови Господних – ведь хлеб еретический не есть тело Христово, – то нельзя дерзать поминать его на литургии», поскольку «божественное не может быть обращаемо в шутку».
После этого Дорофей сказал, что, как это ни прискорбно, он не может поминать почившего стратига за богослужением. Это вызвало среди родных Феодота всплеск чувств, от печали до бурного возмущения. Марфа впала в уныние; Акила был чрезвычайно расстроен, хотя старался не показывать этого; Исидора, ошеломленная, решила сама написать Студиту, несколько раз начинала письмо, рвала, начинала снова и, наконец, разразилась посланием, исполненным жалоб и полуприкрытых укоризн. Евфрасия же и не думала скрывать свой гнев: она не только не пожелала понять логики Феодоровых рассуждений, но обвинила скопом и его, и всех студитов в немилосердии, сказала отцу Дорофею, что они «ради своих догматов и живых людей не щадят, не то что мертвых», ужасно плакала и, наконец, заявила, что больше не будет причащаться у студитов, потому что они «жестоки и несносны». Это, в свою очередь, привело в смущение Дорофея с братией, и они снова написали игумену, вопрошая, нельзя ли всё же уладить дело с поминовением, ведь Феодот, по словам его супруги, сожалел о сделанном и собирался покаяться. С письмом к игумену отправился Зосима и вскоре принес всё тот же ответ: «“Что общего у света с тьмою”? Не может быть поминаем среди православных не имевший общения с православием, – хотя бы в свой последний час. Ибо где он застигнут, там и будет судим, и с каким напутствием отошел в жизнь вечную, с тем и останется».
Акиле с трудом удалось успокоить жену, и через месяц она всё-таки смирилась, принесла сына на причастие, причастилась и сама, испросив прощения у студитов, и как будто успокоилась. Зато ее возмущение передалось сестре. Кассия поначалу крепилась, старалась быть спокойной и утешать других, но когда все, наконец, более или менее утихомирились и смирились с происшедшим, ее внутреннее напряжение разразилось грозой. Толчком послужило сообщение вернувшегося с Трифонова полуострова Зосимы: с некоторым смущением монах рассказал, что история с почившим стратигом вызвала толки среди студийской братии и некоторые укоряют Кассию в том, что она, живя в столице, не могла вовремя повлиять на Феодота, а когда он заболел, не позаботилась о том, чтобы он смог поскорей принять православное причастие; кое-кто даже поговаривал, будто Кассия и сама «поколебалась в православии» – ведь когда-то она претерпела бичевание за переписку с игуменом Феодором, а теперь уже готова оправдать то, что он осуждает, – общение стратига с иконоборцами… Это не только было далеко от истины, но еще усилило противоположность между взглядами на происшедшее студитов и Льва. Кассия рассказала учителю об истории с почившим стратигом, и Лев сказал, что не видит никакого особенного нарушения в том, чтобы поминать его за упокой, коль скоро он перед смертью сожалел о содеянном.
– По-моему, подходить тут с точки зрения буквы закона – просто фарисейство, – сказал Лев.
Кассия не выдержала и написала Студийскому игумену довольно резкое письмо, где подробно рассказывала об обстоятельствах, сопровождавших кончину стратига, и говорила, что Феодор мог бы всё же не огорчать так родных усопшего, ведь они были уверены, что он собирался покаяться в общении с еретиками, но просто не успел, и считать его совершенным отступником от веры было несправедливо. Девушка также выражала недоумение относительно того, что некоторые студиты пересуживают ее поведение, не имея никаких верных понятий о том, почему она поступает так, а не иначе… И вот, от Феодора пришел ответ.
«Чего же ты хочешь? – вопрошал игумен. – Того ли, чтобы мы, подобно торгующим, отвечали каждому в угоду ему? Или того, чтобы мы право правили слово истины? Итак, не гневайся же на нас, смиренных. Неуместно ни тебе самой, ни госпоже сестре, ни кому-либо другому решаться осмеивать и порицать нас». Он писал, что к покойному стратигу расположен благосклонно, но огорчен, что Кассия и ее родные, «отличающиеся знанием и преданные благочестию, при конце не были водимы истинной любовью к нему», не позаботившись прежде всего о том, чтобы он причастился у православных. «Так мы думаем и говорим, – заключал Феодор. – Если же иные говорят иное, то они властны в словах своих, а мы будем молчать». Кассия ничего не написала в ответ и не стала показывать это письмо никому из родных, а лишь сообщила, что Студит ответил ей то же самое, что и прочим.
– Ну, конечно! – насмешливо сказала Евфрасия. – Ведь он такой благочестивый, святой! Разве он мог бы иначе!
«Оттенки! – думала Кассия. – Игра света и тени… Быть может, святые… словно бы живут в мире, где над головой чистое небо, и солнце сияет так ярко, что между светом и тенью граница ясна. А наше небо затянуто тучами, границы размыты… А когда появляется солнце, оно светит сквозь листву, и в этих пятнах света и тени трудно разобраться…»
– Мне кажется, не стоит так огорчаться и гневаться, – сказала она сестре. – Отец Феодор подходит с точки зрения существующих правил, и это справедливо: если отменить правила, всё придет в беспорядок. Но Бог может любому оказать Свое милосердие помимо правил. В конце концов, молимся мы за усопших в храме или дома, Господь всё слышит, и помилование – в Его воле. Будем молиться, а уж что из этого выйдет… узнаем, когда умрем.
– Наверное, – вздохнула Евфрасия и, помолчав, внимательно посмотрела на сестру. – Ну, а ты… что?
– Я?.. Думаю, пора постригаться.
– И что? Неужели поедешь к нему… после всего этого?
– Нет, – Кассия покачала головой. – К нему не поеду, но не из-за этого, а потому, что я уже просила его когда-то, но он написал мне, что не будет постригать меня, а предоставляет это кому-нибудь более достойному.
– Да?.. И к кому же ты тогда поедешь?
– Думаю.
В тот вечер она поднялась к себе и долго сидела у окна, глядя, как в темнеющем небе загорались звезды. За последний месяц она поняла, что надо торопиться с постригом, потому что окружающая суета, как она ни старалась от нее отгородиться, всё-таки достигала до нее и опутывала лишними узами и зависимостями. «Ощутив пламень, беги, ибо не знаешь, когда он погаснет и оставит тебя во тьме», – это изречение Лествичника время от времени приходило ей на ум. Впрочем, вероятность, что пламень погаснет просто от замедления в миру, была невелика, ведь случаи, когда девицы или вдовы спасались в миру, живя по-монашески, но не принимая пострига, встречались не так уж редко. Но Кассия сама пообещала Богу принять монашество, а кроме того, и не хотела оставаться в миру. Хотя, конечно, это было заманчиво: жить у себя дома, продолжать заниматься науками со Львом, читать книги, исполнять молитвенное правило, благотворить монахам и неимущим – и ни от кого при этом не зависеть… Но Кассия понимала, что такое времяпровождение было хорошо только как подготовка к чему-то иному – к тому, что могло стать делом жизни: ей нужно было такое занятие, которое потребовало бы от нее напряжения всех сил – ума, души, тела, – заполнило бы ее жизнь так, чтобы в ней не осталось места для тоски по тому, от чего она отказалась на выборе невесты императору. А это могло осуществиться только в том случае, если б новую жизнь она сама для себя однозначно сочла лучшей, нежели потерянная. Итак, всё снова упиралось в создание собственного монастыря. И об этом надо было говорить не со Студийским игуменом.
Нет, Кассия не думала, что Студит не поймет ее или поймет неправильно, если б она попыталась объяснить, почему она не пожелала, к примеру, идти в монастырь на Принкипо, или поделиться мыслями о том, в какого рода обители ей хотелось бы жить, – ведь до истории с поминовением почившего стратига она собиралась рассказать игумену о своих планах. Он, конечно, понял бы ее, но… Оттенки! Теперь она начала осознавать, что, сколь бы ни было велико ее восхищение студитами и их подвигами, уважение к их монастырскому уставу и порядкам, это всё же было не совсем то, что нужно для нее самой. Хорошо быть образованным и знать философию, чтобы при случае опровергнуть ересь и не растеряться перед таким противником, как Иоанн Грамматик, но зачем монаху, – спросил бы тот же отец Дорофей, – «просто так, для себя», углубляться в какого-нибудь Платона или символически толковать Гомера? Хорошо знать метрику и вообще правила стихосложения и музыку, чтобы уметь составлять стихиры и каноны или писать эпиграммы благочестивого содержания, как это делал игумен Феодор, но зачем монаху писать стихи на светские темы или эпиграммы на такие произведения, как «Повесть о Левкиппе»?.. Человек мирской, как Лев, имел полное право этим заниматься, но монах, рассказав о таких занятиях, мог услышать вполне резонный вопрос: «А зачем тебе это?» Кассия не знала, как на него ответить, чтобы ее поняли. Что это дает для спасения души? Занимает ум, чтобы он не блуждал? Но для этого есть молитва. Трудно привыкнуть сразу так много молиться? Упражняйся и привыкнешь со временем. Можно было бы привести слова Василия Великого, что деятельность ума на пути постижения разных неясностей полезна, поскольку «нужно, чтобы занятый этим ум был отвлекаем от худшего», но на это могут возразить, что святой отец говорил здесь об изыскании точного смысла Писания, а вовсе не светских и языческих книг… Мирское – мирским, не монахам. Да, святые отцы умели извлекать пользу и из языческих сочинений и толковать их символически в православном смысле, но то было во времена, когда язычников было еще много и они были опасны, а зачем это теперь, когда «весь мир наполнился христианским учением»? Как объяснить эту внутреннюю жажду познания, осмысления? Феодор, сам получивший хорошее образование, в том числе философское, писал Кассии, что дар слова – лучшее ее украшение, он благословил ее не бросать изучение философии, он мог бы ее понять. Но что сказать о его окружении и особенно о тех монахах, что постоянно посещали его, среди которых было много насельников с Олимпа, где в чести был старец Иоанникий, в свое время не получивший вообще никакого образования?.. Не скажут ли они, что ее стремление к знаниям есть нечто, сходное с чревоугодием, только в отношении не желудка, а ума?.. Она знала – внутренне, для себя, – что ей это нужно, но объяснить это тем, кто не знает подобной жажды, она была не в состоянии. Как говорится, «если ты сам не ощущаешь таких вещей, я уже не в силах тебе объяснить»… Опять же, не станут ли потом осуждать отца Феодора, если он благословит ее на создание задуманной ею обители? Случай с покойным стратигом и так вызвал немалые толки; говорили, что игумену пришлось даже в одном из поучений упомянуть об этом и разъяснить свои взгляды… Кассия догадывалась, что его непреклонность в этой истории была связана отчасти с тем, что у него было слишком много завистников, которые только и ждали повода обвинить его в каком-нибудь «отступлении». Не хватало еще стать причиной для новых сплетен!..
– А почему бы тебе не поговорить с патриархом Никифором? – спросил Лев свою ученицу, когда она поделилась с ним своими мыслями. – Я знаю, что он получил прекрасное образование, долго служил в императорской канцелярии, а когда удалился на Босфор, то жил там, хоть и по-монашески, но не постригаясь, и занимался науками вместе с несколькими друзьями.
– Я думала об этом. Но ведь он меня совсем не знает… Ты думаешь, он поймет, чего именно мне хочется?
– А ты ему скажи, что, по слову божественного Григория, ты «была воспитана и получила образование, приличное своему происхождению и назначению», и назначение это полагаешь в том, чтобы «смирить кичливость эллинских философов», – Лев улыбнулся.
– Да, только где они теперь, эти философы? – рассмеялась Кассия. – Разве что Иоанна Грамматика к ним причислить? Кстати, это мысль! Скажу: хочу создать ученую обитель назло Ианнию!.. Впрочем, если серьезно, то, пожалуй, мне в любом случае надо ехать к патриарху. Если у кого и брать благословение на создание обители, то у него – чтобы меньше потом пересуживали…
– Да, именно. Что до любви к наукам, то, думаю, патриарх поймет тебя и не скажет, что это «гордыня».
– В конце концов, – пробормотала девушка, – святой Григорий Богослов не сомневался говорить во всеуслышание, что гордится своим даром слова, значит, мне есть, кому подражать… Хотя, пожалуй, кто-нибудь на это скажет: «Вот, вздумала сравнить себя с великим Григорием!»
– Так что ж, ведь противники нашего образа жизни тоже не прочь сравнить себя с какими-нибудь святыми пустынниками, не изучавшими философию! – усмехнулся Лев. – Во всяком деле, я думаю, нужно твердо знать, для чего ты его делаешь и что оно тебе дает, и тогда из чтения любых книг можно извлечь пользу. Если же не знать, зачем это тебе, так и Евангелие будешь без толку читать!
Когда учитель ушел, Кассия пошла в библиотечную комнату и, достав книгу со словами Григория Богослова, открыла «Слово в похвалу философу Ирону», прочла его от начала до конца, закрыла рукопись и какое-то время сидела в задумчивости, а потом обратила взор на икону Спасителя в углу и прошептала:
– Что ж, я, наверное, плохая невеста… Но Ты Сам такую выбрал!
…Женщина стояла вполоборота к нему, прислонясь спиной к колонне, и смотрела на открывавшийся перед ней великолепный вид на море. Несмотря на конец ноября, день выдался неожиданно теплым, солнечным и безветреным, и на женщине не было даже плаща. Мафорий она спустила с головы на плечи – видимо, думая, что здесь ее не настигнет посторонний взгляд. Нитка жемчуга блестела в иссиня-черных волосах, уложенных вокруг головы так, что несколько густых волнистых прядей спускались по спине почти до талии – поразительно тонкой, перетянутой широким золотым поясом. Огромные темные глаза, губы, похожие на розовый бутон, маленькая, будто выточенная из мрамора рука, белевшая на затканной красными цветами темной зелени туники, – всё это разом предстало взгляду Евдокима и ослепило его. Он глядел на нее так, как, должно быть, мог смотреть какой-нибудь язычник, если бы перед ним внезапно явилась Афродита. Он даже не задавался вопросом, кто эта женщина и насколько вообще прилично так поедать ее глазами, – он весь превратился в зрение.
Между тем женщина оторвала взгляд от морской глади, слегка нахмурилась, и по тени, омрачившей ее лоб, Евдоким понял с каким-то внутренним ясновидением, что она снедаема скорбью, настолько сильной, что он почти физически ощутил, как ей больно. Ему захотелось подойти к ней, сказать что-нибудь утешающее, ободряющее… Он бессознательно сделал шаг вперед – и вдруг под ногой хрустнула веточка. Женщина вздрогнула, повернулась в его сторону, и когда она, сделав несколько шагов, обошла подстриженные садовниками кусты самшита, Евдоким увидел на ее ногах красные башмачки. Императрица!
Пораженный юноша вышел из-за миртового куста, за которым укрывался, и распростерся перед августой. Когда он поднялся, не смея смотреть на нее, она подошла, уже закрыв голову мафорием.
– Здравствуй, господин! Кто ты и как попал сюда?
– Прости меня, государыня, – с трудом выговорил юноша. – Я тут с отцом, мы были на приеме у августейшего… А потом отец разговорился с господином эпархом, а мне разрешили немного погулять в саду… Но я, кажется… зашел, куда не должно…
– Ничего, это не страшно! Как тебя звать?
– Евдоким.
Он родился в Каппадокии и приехал в столицу с родителями в возрасте десяти лет. Его отец, патрикий Василий, служил в императорском казначействе, а Евдоким рос в основном на попечении матери. Евдокия была очень богобоязненна, сама научила сына читать по Псалтири и каждое утро ходила вместе с ним в церковь. После переезда в Константинополь его отдали в училище, и мальчик утром всегда отправлялся в храм на службу, а оттуда на занятия, если же день был праздничный, сразу возвращался домой. Хотя на уроках они разбирали разные эллинские произведения, дома Евдоким читал только Священное Писание и книги святых отцов. К пятнадцати годам он уже настолько преуспел в изучении разных предметов, что дядя посоветовал отдать его в школу права в Сфоракии. Юноша учился хорошо, учителя и сверстники любили его за тихий и спокойный, но в то же время твердый характер, честность и отвращение ко всякому злословию и осуждению. Он тоже ко всем относился тепло, но ни в каких увеселениях соучеников не участвовал, по-прежнему с утра ходил в храм, а после занятий сразу возвращался домой. Мать не могла нарадоваться на благочестие сына и была немного обеспокоена, когда ее муж решил записать его на придворную службу; но Василий решительно заявил, что «если уж его нравы до сих пор никто не испортил во всех этих школах, так уж, верно, и не испортит», – и повел Евдокима во дворец. Михаилу понравился юноша – высокий, стройный, кареглазый, с мужественным лицом, обрамленным темными кудрями, он словно сошел с изображения какого-нибудь античного героя, – и император тут же повелел зачислить Евдокима в отряд схолариев.
– Сколько тебе лет? – спросила императрица.
– Семнадцать, государыня, – ответил Евдоким и несмело поднял глаза на августу.
Вблизи она поразила его еще больше. Впервые в жизни он видел такую красивую женщину, к тому же совсем рядом. Она с любопытством рассматривала его… да, просто с мимолетным любопытством. А он ощущал, как от ее взгляда его бросает в жар, и вдруг его охватило страстное желание обнять ее, привлечь к себе – желание столь внезапное и сильное, что он испугался и отступил на шаг. Никогда в жизни не думавший так о женщинах, стыдившийся даже смотреть на них, Евдоким ужаснулся: о чем он смел подумать! Он возжелал женщину, и какую – супругу императора! Ведь это значит, по Евангелию, что он уже «прелюбодействовал с нею в сердце своем»!..
В глазах юноши как в зеркале отразилось всё, что он чувствовал, и Феодора словно увидела в нем себя четыре с половиной года назад, когда она точно так же смотрела на Феофила, стоявшего перед ней с золотым яблоком в руках… «Бедный мальчик!» – подумала она и сказала:
– Ну, ступай, Евдоким, а то отец потеряет тебя!
И, не дожидаясь от юноши поклона, августа быстро спустилась с террасы по боковой лестнице и скрылась между кустов мирта.
Евдоким несколько мгновений стоял, как столб, не шевелясь и даже почти не дыша. Наконец, он встряхнул головой, повернулся и стремительно пошел обратно по дорожке, приведшей его сюда, – скорей, скорей, словно стремясь убежать от только что представшего перед ним видения, которое зажгло в нем нестерпимый пламень…
Он уже не мог услышать, как в зарослях мирта, упав на мраморную скамью и уткнувшись лбом в ее высокую прохладную спинку, безудержно рыдала императрица.
22. Обитель
Есть вещи, которые надо делать самому, даже если не умеешь.
(Г. К. Честертон)
В Фомино воскресенье в Свято-Феодоровский монастырь на Босфоре собралось из разных мест до сотни исповедников – митрополиты, епископы, игумены, монахи. Прибыл с Принкипо и Студийский игумен с Навкратием, Николаем и еще несколькими братиями – они уже несколько месяцев назад перебрались на остров, где построили себе кельи, устроив некоторые из них, в том числе для Феодора, прямо в местных пещерах. Патриарх возглавил воскресную литургию, а по ее окончании все были приглашены к праздничной трапезе. Когда все стали занимать места, патриарх, сидевший во главе стола, нашел глазами Феодора Студита, подозвал и указал ему место на скамье рядом с собой, а затем, обратившись ко всем, сказал:
– Позвольте, братия, многострадальному отцу Феодору председательствовать наравне со мной – хотя он, мудрый, вовсе не желает этого, – чтобы нам обоим, сидя вместе, совершить преломление хлеба. Ведь кто больше явил знаков любви к общему Владыке, тому больше и воздастся, как изрек Господь в Евангелии. И как существует различие в жизни святых, так бывает оно и в почестях, и Бог соразмеряет награду с заслугами каждого. А если так у Бога, то да будет так и у нас, смиренных!
Игумен сел рядом с патриархом, улыбаясь чуть смущенно и в то же время так обезоруживающе, что никому из присутствовавших и в голову не пришло завидовать ему: все понимали, что если кто среди них и был достоин сидеть рядом с главой Церкви, то это, конечно, Феодор.
– Да, – тихо проговорил Петр, митрополит Никейский, обращаясь к сидевшему рядом с ним митрополиту Синадскому Михаилу, – это справедливо! Никто больше Феодора не понес трудов ради православия!
Михаил кивнул и ответил так же тихо:
– К тому же… если б не самовластие государя Никифора, Феодор стал бы патриархом… Как люди не стараются установить свою волю, а промысел Божий в конце концов всем воздает должное!
Николай с противоположного конца стола смотрел на своего игумена и не замечал, как слезы текут по его щекам.
После трапезы исповедники, не расходясь, еще долго беседовали. Когда патриарх, а за ним и остальные, наконец, поднялись и направились к выходу, к Никифору с поклоном подошел один из монастырских послушников и тихонько сказал:
– Святейший, там тебя уже часа три дожидается какая-то юная госпожа, из столицы приехала. Говорит, что у нее очень важное дело.
– Вот как? Что ж, до вечерни еще есть время… Скажи, что я сейчас приду поговорить с ней. Она в привратной келье?
– Да.
Кассия дожидалась патриарха в пристройке для приема женщин, находившейся у врат обители; сопровождавших ее Геласия и Маргариту она оставила в повозке. Ждать пришлось долго, поскольку она приехала в монастырь, когда только началась общая трапеза, и один из монахов сказал ей, что позвать сейчас святейшего нет никакой возможности:
– У него сегодня великое собрание честных отцов! Только что к трапезе пошли… Придется тебе обождать, госпожа.
– Конечно, я подожду, отче. А что… может быть, и Студийский игумен тоже здесь?
– Да, да! – радостно закивал монах. – Отец Феодор тут! Без него ни одно такое собрание не обходится! Святейший его перед всеми отличает! И не дивно: кто еще столько претерпел за веру, сколько он?!..
Кассия просидела в привратной келье три часа, как на иголках. Сначала она окрылялась надеждами, потом, напротив, ей стали представляться всякие ужасы. Вдруг патриарх не благословит ее замысел, а велит поступать в какой-нибудь определенный монастырь? Или посоветует отправляться за благословением к духовному отцу? А если она скажет, что это игумен Студийский, то не позовет ли он его и не спросит ли его мнения? А Феодор… ведь она так и не ответила ему на последнее письмо! Что он подумал о ней? Может быть, он теперь скажет патриарху, что она – девица своенравная, непокорная и гордая, и потому лучше всего ее отправить в такую обитель, где ее будут сурово испытывать на смирение?..
«Что ж, – думала она с печальной иронией, – может, мне действительно для спасение души нужно именно это… Только ведь я гордая, я на такое не пойду… Зачем я вообще приехала сюда? Смогу ли я объяснить святейшему, чего мне хочется?.. Объяснить святейшему, чего мне хочется! Цель обличает гордыню сама по себе!.. Не лучше ли убраться подобру-поздорову и не искушать судьбу? Я и так один раз ее искусила… Нет, никто, кроме Льва, не поймет меня! Кроме Льва и, должно быть, Ианния… Какая насмешка судьбы!.. Мартинакий сказал бы сейчас, что всё оттого, что я слишком много читала эллинские сочинения вместо Священного Писания! Слишком много, но всё же не больше, чем Грамматик!.. И не больше, чем…» – и она опять мысленно оказалась в Золотом триклине. «Не правду ли говорят, что “чрез женщину излилось зло на землю”?» Да, правда, – могла бы она ответить, и тогда всё сложилось бы совсем иначе… И если сейчас у нее ничего не выйдет с монастырем, значит… значит, она сделала неправильный выбор! Ну и что, призвание? Призвание на что? Шить хитоны или обрезать виноградные лозы вместо того, чтобы заниматься философией и писать стихиры и эпиграммы? Ах! Зато – послушание, смирение, спасение души! Ей вспомнилось из Еврипида:
«– Удел рабов – трусливо прятать мысли.
– А каково от грубости терпеть?
– Да, жить среди глупцов… какая пытка…»
Какая гордость! Какое превозношение над монахами, которые в простоте спасают свою душу, не заботясь о том, что там писали Аристотель или Платон!
– Что ж, Феофил, – прошептала Кассия, – если сейчас ничего не выйдет, значит, я ошиблась, когда отказала тебе! – и она сама испугалась произнесенных ею слов.
Тут дверь в келью отворилась, и вошел патриарх. Последний раз Кассия видела его больше одиннадцати лет назад, и с тех пор он не очень изменился, только стал совсем седым.
– Здравствуй, владыка! – она поклонилась и подошла под благословение.
Патриарх благословил ее, и вдруг всё смятение, обуревавшее девушку, совершенно ее оставило.
– Здравствуй, госпожа…
– Кассия.
– Кассия? Мне сказали, ты из Константинополя? Это не ты ли написала стихиру в честь Первоверховных? – улыбнулся патриарх и вдруг принялся напевать: – «Светильники великие Церкви, Петра и Павла восхвалим…»
Девушка растерялась от неожиданности. Она никак не думала, что ее первое сочинение дошло до самого святейшего.
– Да, владыка, – смущенно ответила она.
– Значит, чадо отца Феодора? Что ж, рад с тобой познакомиться, почтеннейшая! Присаживайся, – он указал ей на стул и сам сел напротив. – Что привело тебя к нашему смирению?
– Я… – Кассия вдруг забыла все приготовленные фразы. – Я хотела… – она набрала побольше воздуха и выдохнула, словно бы падая в пропасть: – Я хочу создать монастырь и приехала просить у тебя на это благословение, святейший.
– Вот как! – Никифор внимательно посмотрел на нее. – Что ж, это весьма похвальное намерение! Но сколько тебе лет, госпожа?
– В этом году будет двадцать два, – ответила она и вспыхнула, подумав: «Сейчас он, конечно, скажет, что я слишком молода, и посоветует отправляться куда-нибудь на Принкипо!»
Но патриарх ничего подобного не сказал.
– Ты сочиняла еще какие-нибудь гимны, кроме того в честь апостолов? – спросил он.
Кассия опять растерялась.
– Да, я… немного… вот, недавно – в честь святых Адриана и Наталии…
– Может быть, споешь нам? Арсений! – крикнул патриарх в сторону двери, которую, войдя, оставил приоткрытой. – Иди-ка сюда, послушай!
В комнату вошел дежурный монах и остановился у порога.
– Вот, наша гостья – госпожа Кассия, та самая, что сочинила гимн в честь Первоверховных, который тебе еще так понравился, помнишь?
– О, да, святейший! Дивно красивый! – монах воззрился на девушку. – Так это ты его сочинила, госпожа?
– Да, – ответил за нее патриарх. – А сейчас она нам споет еще одно свое сочинение. Просим, госпожа!
– Я… – Кассия встала, щеки ее горели. – Хорошо, владыка, я попробую…
Она глубоко вздохнула, собираясь с мыслями, помолчала и негромко запела:
- – О, супруже святой и избранный Господу!
- О, верста изрядная и блаженная Богу!
- О, вожделенная двоица и возлюбленная Христу!
- Кто не удивится о сем, услышав сих выше человека деяния?
- Как женский пол вмужился на горького мучителя
- и своего сверстника укрепил не вдаться лютым,
- но избрать за веру умереть скорей, чем жить?
- О, богоплетенные глаголы Наталии премудрой!
- О, поучения божественные, небеса прошедшие
- и к самому престолу Великого Царя
- Адриана славного знаема поставльшие!
- Но, о двоица святая, о нас Богу молитесь,
- любовию творящих память вашу,
- напастей избавить и всякой скорби.
– Прекрасно! Просто прекрасно! – воскликнул патриарх. – Не правда ли, брат? – восхищенный Арсений молча кивнул. – Бог действительно дал тебе великое дарование, госпожа. Смотри же, не зарой талант в землю!
– Я стараюсь, владыка.