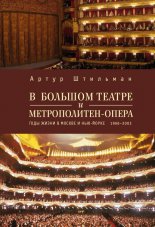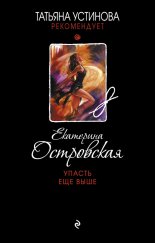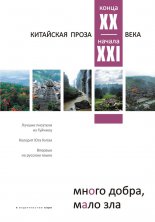Кассия Сенина Татьяна

– Думаю, польза хотя бы та, государыня, что становишься не так быстр на решительные суждения.
Императрица взглянула на Льва и, поколебавшись, сказала:
– Вот ты, Лев, такой умный… Ты, наверное, никогда не был влюблен.
Математик рассмеялся.
– Почему же? Был.
– Неужели? – Феодора поглядела на него с интересом. – Ты прости мое любопытство…
– О, это ничего, государыня!
– Значит, был… И взаимно?
– Нет.
– Поэтому ты и остался холостяком?
– Нет. Хотя, если б та девушка согласилась выйти за меня, я бы женился… Но вообще, я с ранней юности решил не вступать в брак, моими возлюбленными были науки и книги. Влюбленность… просто была внезапным срывом и довольно быстро прошла. Теперь, после некоторых событий, узнав разные вещи, я думаю, что, хотя в результате этой истории я тоже кое-что понял, на самом деле я оказался, скорее… орудием промысла… Да, наверное, так.
– Любопытно… Орудием промысла для чего и кого?
– Для той девушки.
– И в чем же был этот промысел?
– Отчасти в том, чтобы помочь ей лучше понять свое предназначение.
– Даже так?
– Возможно, это несколько дерзновенно сказано, но в общем отражает истину. У каждого человека есть в жизни свое предназначение, определенное для него Богом. Когда человек его исполняет, он находит путь спасения, который у каждого свой, и бывает счастлив. Одни легко находят этот путь, другие долго ищут… Но всё, что случается с человеком, посылается ему ради того, чтобы он понял и исполнил это предназначение. К сожалению, далеко не все понимают и часто исполняют совсем не то, что задумал о них Бог…
– Вот именно! – воскликнула императрица с некоторой горячностью. – Как я завидую людям, которые это поняли!
Она умолкла, отошла к окну, постояла там в раздумье и снова повернулась к Математику.
– А я вот, Лев, ничего не понимаю в своей жизни, и уже давно! Всё только запутывается! – императрица помолчала, собираясь с мыслями. – Ведь если со мной что-то случилось, я должна понять, зачем оно было! Но я не могу понять! А значит, не могу понять и предназначения… И вот, если ты не знаешь, в чем оно, то можно ли понять, как жить? Ходишь, как в тумане… С тобой что-нибудь случилось, а ты не понимаешь, ради чего или из-за чего это… Потому ли, что ты совершил какую-то ошибку? Но ведь не всегда… Вот хоть с той же философией: меня не учили ей, воспитывали совсем по-другому… Чем я виновата, что не знала всей этой премудрости, когда она мне вдруг понадобилась? Получается, если неприятности, возникшие из-за моего… невежества… это кара Божия, то Бог наказал меня за незнание того, чего я, по Его же промыслу обо мне, и не могла знать! Ведь это жестоко, несправедливо! Может ли Бог так поступить с человеком?.. А если не может, то значит, Он всё так устроил ввиду каких-то грядущих целей, нам неведомых?.. Но если ты ничего этого не понимаешь, то не можешь и выводов правильных сделать. А если не можешь сделать выводов, то не можешь и понять, как жить дальше… А значит, можешь сделать новые ошибки… за которые придется расплачиваться потом – так это порочный круг какой-то!
– Но ведь ты всё-таки можешь сделать хоть какие-то выводы из того, что произошло, государыня?
– Какие-то – да, могу, – она помолчала. – Да… особенно в последнее время я… кое-что осознала… и стала вести себя немного не так, как прежде… Но этого мало!.. Это меняет что-то мелкое, а в целом всё остается по-прежнему!
– Возможно, это только кажется, августейшая, что почти ничего не меняется. Но даже если и так, мелочи тоже бывают важны. Сейчас ты поняла что-то «мелкое» и сделала определенные выводы, а потом они помогут тебе понять что-то более важное. Маленькие капли воды пробивают твердые камни. Ручьи текут под землей, и вроде бы сверху ничего не заметно, но постепенно они размывают почву, она оседает, горы рушатся, и вся картина местности становится иной. Просто мы нетерпеливы, а нужно уметь ждать.
– Да, иногда мне кажется, что вот-вот… изменится что-то важное… И мне страшно, Лев! Я боюсь сделать лишнее движение, лишний шаг… потому что кажется, что опять совершу ошибку и всё испорчу… А с другой стороны, боюсь, что наоборот, может, надо сделать какой-нибудь шаг… А я не знаю, какой, не понимаю!.. А потом будет поздно… Это ужасно!.. Или я просто… слишком много думаю, о чем не надо? Может, надо просто следовать не тобой заведенным порядкам, от церемонии к церемонии, от богослужения к обеду, от чтения к вышиванию, от детской к прогулке по парку… Так и жизнь проходит, вроде… Но только иногда всё-таки задумываешься… и становится невыносимо! Да, наверное, надо просто не думать… Цветы благоухают, море искрится, небо безоблачно, а тебя каждый день величают «радостью мира»… Всё хорошо ведь, правда?!
Она умолкла и отвернулась к окну.
– Понять не всегда бывает легко, – тихо сказал Математик. – Иной раз путь очень долог и тернист. Но ты подожди, августейшая. Ведь жизнь еще не кончилась.
21. Вера и дела
Что пользы, братия мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? может ли эта вера спасти его?… Но скажет кто-нибудь: «ты имеешь веру, а я имею дела: покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру из дел моих».
(Послание апостола Иакова)
11 мая отмечался праздник основания Города, и, по обычаю, на Ипподроме были устроены «Овощные» бега. В перерыве после четырех забегов выступали мимы, а народ уже предвкушал раздачу овощей и сладостей, грудами разложенных на телегах, и рыбы с небольшого судна, привезенного на арену с помощью платформы на колесах, когда всеобщее внимание привлекло необычное представление перед императорской ложей. Два мима вывезли на сцену тележку с парусным суденышком, нагруженным самой мелкой рыбешкой, и один актер закричал другому:
– Ну, давай, проглоти его!
Второй, разинув рот и вытаращив глаза, обошел суденышко раз, другой, развел руками и захныкал:
– Не могу-у-у!
– Как?! – заорал первый. – Препозит Никифор проглотил груженое судно у вдовы и не подавился, а тебе не под силу это слопать?
Император, наблюдавший за сценкой, приподнял брови и, обернувшись, в упор взглянул на препозита священной спальни. В глазах у того плескался ужас.
– Разве в отношении госпожи Феофании справедливость все еще не восстановлена? – спросил василевс.
– О, государь! – раздался снизу женский голос. – Сжалься над моей бедой! Господин препозит не возвращает мне судно, сколько я ни молила его!
Феофания была вдовой купца и после смерти мужа продолжала вести его дела. Ей осталось от него хорошее судно вместимостью в тысячу модиев, на которое и позарился императорский препозит, попросту отобрав его у владелицы силой, в надежде остаться безнаказанным благодаря высокому положению – он был среди первенствующих в Синклите, а император весьма благоволил ему. Феофания, однако, не пала духом и, когда василевс совершал обычную поездку во Влахерны, бросилась к его ногам, жалуясь на обиду, нанесенную препозитом. Феофил пообещал разобраться и действительно приказал Никифору вернуть вдове ее собственность. Препозит обещал всё исполнить, но ничего не сделал, а когда вдовица пришла к нему, приказал слугам выгнать ее, не удостоив ни единым словом: требование Феофании пришлось очень некстати – Никифор уже снаряжал судно для отправки по торговым делам в Трапезунд, заключил несколько сделок и рассчитывал на немалую прибыль… Между тем приближался «Овощной ипподром», и вдове пришла в голову смелая мысль: она встретилась с мимами, которые готовили выступления к предстоящим скачкам, рассказала им о своей беде, и те обещали помочь ей. Разыгранная сценка достигла цели, и Феофания распростерлась перед императорской ложей, умоляя о справедливости.
– Господин Никифор, – снова обратился император к препозиту, – насколько я помню, ты сказал мне, что немедленно вернешь этой женщине ее судно, и разговор наш был уже больше двух недель назад. Итак, ты солгал?
– Государь, прости! Я завтра же всё верну! – дрожащим голосом проговорил препозит и упал к ногам императора.
– Завтра? – переспросил Феофил, гневно сверкнув глазами. – Эту фразу я от тебя уже слышал, господин Никифор! И у тебя было, по меньшей мере, пятнадцать «завтра». А теперь завтра для тебя больше не настанет, – он повернулся к эпарху. – Господин Феодор, возьми этого лжеца и грабителя и сегодня же предай его казни! Судно должно быть до захода солнца возвращено госпоже Феофании, также пусть ей будет отдана треть имущества ее обидчика.
На следующий день народ на константинопольских улицах уже слагал песни в честь императора – «защитника обиженных, сирот и вдовиц», а Феофания на радостях пожертвовала значительную часть доставшегося ей препозитова имущества в столичные богадельни.
Между тем, вздумай иконопочитатели слагать песни про василевса, они звучали бы иначе. Присоединение Льва к иконоборцам наделало шума и породило множество толков и беспокойства среди православных: потеря для Церкви столь ученого и добродетельного человека сама по себе была весьма печальна – никто не мог упрекнуть Математика в каких-либо пороках, напротив, у людей более или менее мыслящих он вызывал лишь восхищение, – а уж его переход в стан еретиков приводил почти в уныние. Некоторые болтали, что Льва «заколдовал Ианний», но другие прямо порицали священника и монахов Антипьевской общины за «дурость и тупость», а игумен Григорий, приехавший после Пасхи в Константинополь из Фессалоник вместе со своим учеником Иосифом и поселившийся при храме Святого Антипы, узнав подробности о последней беседе с Философом, сказал:
– Ничего удивительного! После такого разговора и я, хотя к иконоборцам, конечно, не ушел бы, сюда бы ходить точно перестал!
Григорий, уроженец Иринополя, много лет прожил в различных монастырях Декаполитской области, в последние годы был игуменом в обители Святого Мины в Фессалониках и, по совету тамошних православных, прибыл в столицу ради утверждения иконопочитателей, как раз застав самый разгар шумихи в связи с переходом Льва к еретикам. Его двадцатисемилетний ученик, родом с Сицилии, в юности постригся в одной из солунских обителей и жил там безвыходно, пока, по благословению игумена, не присоединился к Григорию. Попав в столицу, Иосиф, ошарашенный ее красотой, многолюдством и суетой, поначалу почти не покидал небольшую келью, выделенную ему при Антипьевском храме, молился, читал и иногда писал каноны и кондаки в честь святых. Когда ему доводилось присутствовать при беседах своего наставника с приходившими, он почти всегда слушал молча, не вступая в разговор, если только к нему не обращались с вопросом. Как-то раз, во время очередного спора по поводу «нечестивого Ианния» и «несчастного Льва», игумен Григорий обратился к своему ученику:
– А ты что думаешь, брат? Может ли еретик быть прозорливым, или это непременно колдовство?
– Думаю, колдовство тут не при чем, – ответил Иосиф и со смущенной улыбкой обвел собеседников взглядом, словно извиняясь, что он, еще столь молодой, взялся высказываться по такому важному вопросу перед старшими. – Конечно, это может быть и следствием прелести, знанием, которое подают бесы, но может быть, мне кажется, и настоящей прозорливостью. Мы столько спорим о знамениях и чудесах, как будто они – первое доказательство истинной веры, а ведь это не так… Может, Господь и попускает еретикам быть прозорливыми и творить чудеса, чтобы мы поняли, что это не главное и само по себе не доказывает истинности веры. Ведь в Евангелии говорится, что и антихрист будет творить великие знамения, а всякая ересь, восстающая на Церковь, в каком-то смысле есть образ последнего восстания на нее, грядущего в конце времен…
Студит Феоктист, приходивший служить литургию в Кассиину обитель, в Фомину неделю после службы и трапезы, выйдя с игуменьей на монастырский двор, тоже заговорил о Математике:
– Мать, ты же с ним общалась… Ты не пробовала увещевать его вернуться?
– Я и сейчас продолжаю переписываться с ним, отче. Только увещевать я его не буду. Он не какой-нибудь невежда или простец, и мое мнение ему хорошо известно. Он и опровержения отца Феодора против иконоборцев читал, и с ним самим был знаком. Поэтому, раз он сделал такой выбор, я не могу его ни в чем разубеждать. Это вполне сознательное решение, тут ничего не сделать. Остается только молиться.
– Но это ужасно! – воскликнул иеромонах.
– Ужасно не это, – тихо сказала Кассия, – а то, что наши единоверцы предпочитают объяснять непонятные им вещи глупейшими сплетнями и выдумками, вместо того, чтобы хоть немного подумать!
– Ты так уверена, что всё, что они говорили об Иоанне – выдумки?
– Вполне уверена. Более того, я знаю, что он действительно способен подавать прекрасные духовные советы, так что его слава в Городе растет вовсе не на пустом месте. Но хоть бы даже он и занимался какими-нибудь колдовскими опытами, был негодяем, блудником и вообще кем угодно, что нам за дело до того? Как люди любят простые объяснения! Ведь гораздо удобнее объяснить уход человека к еретикам чьим-то колдовством, чем взглянуть повнимательней на самих себя, не правда ли?
Феоктист пристально взглянул на игуменью.
– Ты очень изменилась за последнее время, мать, – сказал он. – Даже не могу решить, в хорошую сторону или в плохую… Прости!
– Я просто стала различать больше оттенков, – улыбнулась Кассия. – В этом есть свои хорошие стороны, но это сопряжено с трудностями. «Во многом знании много печали»… Знаешь, отче, давай больше не будем говорить об этом. Помнишь, отец Феодор писал, что Господь, долготерпя, ведет верных на испытание веры, а грешников на покаяние и что не надо торопиться видеть возмездие грешнику? Бог всех рассудит когда-нибудь!
Однако, большинству православных очень хотелось, если не увидеть возмездие еретикам, то, по крайней мере, отыграть партию – обратить в православие кого-нибудь «значительного» из иконоборцев. Особые надежды здесь возлагали на синкелла Иерусалимского патриарха, уже второй год сидевшего в подвальной камере Претория. Обнародовав эдикт против иконопочитания, император вызвал в столицу четверых палестинцев, которые после смерти Льва Армянина и освобождения всех исповедников жили в Вифинии, вопросил их о том, как они веруют, и, увидев, что они твердо стоят за иконы, сослал Феодора и Феофана на Афусию, а Михаила заключил в темницу, рассудив, что чужеземцам ни к чему давать слишком много свободы для «еретической проповеди», тем более что они считались официальными представителями Иерусалимской Церкви. Михаил, несмотря на строгий надзор и тяжелые условия жизни, умудрялся вести переписку со сподвижниками и некоторыми духовными детьми. Среди последних был и кое-кто из придворных, и исповедник из письма в письмо увещевал их порвать общение с иконоборцами. Но его адресаты колебались: страх перед потерей места при дворе был сильнее страха перед вечными мучениями, которыми пугал синкелл, ведь при открытом переходе на сторону иконопочитателей первая была весьма реальна, а вот вторые не представлялись столь же неизбежными… Евфросина, бывшая императрица, познакомившаяся с Михаилом еще в царствование Рангаве, узнав о новом заточении подвижника, стала носить ему в Преторий пищу и одежду; императору доложили об этом, но он лишь махнул рукой.
Иконопочитатели пытались перейти в наступление и иным путем: в столице и окрестностях стали усиленно распространять Житие архиепископа Сардского Евфимия, написанное игуменом Мефодием вскоре после кончины святителя. Поначалу оно разошлось не особенно широко, и в то время император, ознакомившись с доставленной ему копией, не придал значения этому сочинению. Но теперь, узнав, что Мефодий дополнил первый вариант Жития рассказами о новых чудесах и небольшим трактатом о поклонении иконам, а также ведет большую переписку с другими иконопочитателями, Феофил приказал перевести игумена в Константинополь и заключить в Преторий. Это произошло в середине июля, а незадолго до праздника Успения Богоматери император вызвал Мефодия во дворец.
Игумен думал, что его будут допрашивать в каком-нибудь тронном зале, в присутствии синклитиков и чиновников, но эпарх препроводил его в небольшое помещение возле Малой Консистории; император был там один, если не считать двух стражей у дверей. Мефодия привели со связанными за спиной руками, и ему пришлось, делая поклон василевсу, опуститься на колени и упасть лицом в пол, после чего эпарх довольно грубо помог узнику встать. Феофил приказал эпарху развязать монаху руки и удалиться. Некоторое время император молча оглядывал Мефодия, а тот потирал затекшие запястья.
– Я прочел твое вопрошание, господин Мефодий, – наконец, сказал василевс.
– Мое вопрошание, государь? – игумен удивленно взглянул на него.
– Да. «Подумал же он и рассудил, что поскольку первое и второе пророчества подтвердились, то и третье тоже неложно, и больше встревожился, хотя он, говорю я, должен был раскаяться, обратившись к примеру тех, кто получал такие же пророчества, подражая Езекии, стенаниями и слезами выкупившему свою жизнь, вместо того чтобы бродить по неверным путям, притесняя одного за другим, словно обезумевший и помешанный. Ведь если писавший открыл истину, невозможно ни тебе, ни ему изменить грядущее. Если же ложь, как ты думаешь, желаешь и безумнейше хвалишься, тогда что тебе беспокоиться о лжи, зачем горюешь о словах и исследуешь басни? Ибо если, как я сказал, он прав, тебе не миновать, если же он лжет и грезит, то будет посрамлен…» Ведь эти слова принадлежат тебе, Мефодий?
– Да, государь.
Игумен знал, что его сочинение известно при дворе, и потому не смутился, но был удивлен, что император наизусть цитирует написанное им Житие, и, глядя на Феофила, гадал, как и о чем тот собирается повести разговор.
– Риторики тебе не занимать, – сказал василевс. – Но, как видишь, пророчество действительно не сбылось.
– Значит, Господу угодно еще испытывать верных Ему.
– Вот как? Ты так уверен, что ваше дело правое, Мефодий… – медленно и несколько задумчиво проговорил император. – А хочешь ли знать, почему я в этом не уверен?
– Если государь соблаговолит высказать…
– Соблаговолю, – насмешливо ответил Феофил. – Ты, разумеется, помнишь, что сказано у апостола: вера познаётся по делам. Следовательно, логично предположить, что те, чья вера правильнее, должны и по делам быть достойнее тех, чья вера ложна. Не так ли?
– Да, государь, ты прав.
– Прекрасно. А теперь рассмотрим дела наши и ваши. Как говорил божественный Григорий, «ты изобрази мне свою кротость, а я изображу тебе свою дерзость». Я знаю, вы много обвиняли нас в разных грехах, в том, что мы гоним тех, кто не присоединился к нашему догмату, что мы жестоки и немилостивы, уничтожаем и подделываем священные книги, клевещем на «исповедников веры» и прочее. Допустим, что всё это так. Но даже если это правда, мы не совершили ничего нового и ужасного по сравнению с вами.
– Но, государь…
– Ты не согласен? Почему? Чтимый вами император Михаил в свое время покарал пустынника, расколовшего икону, – за что он казнил его, как не за другую веру? Мы же никому не отрезали языков, хотя, быть может, и стоило, а то некоторые из вас слишком болтливы!.. Не радовались ли вы убиению императора Льва? Не ожидаете ли вы даже до сего дня моей скорейшей смерти? Хотел бы я знать, кто из вас так же пламенно желает спасения моей души, как вы жаждете моей погибели! – император усмехнулся. – Что до клеветы, то, мне кажется, вы об одном только синкелле Иоанне за эти годы изобрели столько небылиц, что их с лихвой хватило бы покрыть все «клеветы», которыми оскорблял вас кто-либо из наших единоверцев! А ложные чудеса? Я лично разоблачил в одном дорилейском храме настоятеля, который собственноручно изготовил механизм, чтобы устроить «чудо» млекотечения от иконы!.. Что еще? «Порча книг»? Это очень интересный вопрос, и я сейчас расскажу тебе, господин Мефодий, одну занимательную историю, – император сел в кресло у окна и жестом указал игумену на скамью у стены. – На Никейском соборе, который вы зовете вселенским, читался отрывок из «Истории» Евагрия Схоластика, где говорится о так называемом «нерукотворном образе» Христа. Но откуда взялся этот рассказ? Евагрий использовал сочинения Прокопия Кесарийского, где об этом чуде не упомянуто вовсе. А главное, я сам видел древний список «Истории» Евагрия, где этого рассказа нет. Естественно, возникает вопрос, кто и зачем подделал список, читавшийся на соборе? Вопрос, надо думать, риторический, – Феофил насмешливо улыбнулся. – «Так чтите вы веру!» Или «большей части таких дел вы не помните», скажешь? «Тому и быть надлежало, потому что и дел такое множество, и в совершении их столько наслаждения!..» Итак, после всего этого мне хочется спросить тебя, господин Мефодий: вы, «исповедники веры», «золотой род мучеников», «святые»… Ты ведь не усомнился в жизнеописании Евфимия вложить в уста отца Константинакия именно такое определение в отношении тебя! Так вот, даже «святые» – чем вы отличаетесь от нас, «злейших еретиков», «иудействующих», «предтеч антихриста», «слуг дьявола»? Только вашим догматом о почитании икон?
Игумен растерялся. По дороге во дворец он предполагал, что император поведет речь об иконопочитании с богословской стороны, но никак не ожидал случившегося поворота беседы и совсем не думал, что Феофил столь внимательно изучил житие архиепископа Евфимия, а история с рассказом о Нерукотворном образе и вовсе была для него новостью. В то же время сам император оказался совершенно не таким, каким Мефодий воображал его все эти годы, особенно после смерти владыки Евфимия: в Феофиле чувствовалась утонченность, свойственная людям образованным и умным, и несмотря на то, что прочитанное им житие Евфимия было наполнено поношениями в адрес иконоборцев и даже лично императора, в его обращении с игуменом не ощущалось ни раздражения, ни гнева – только насмешливость, за которой, впрочем, различалось желание действительно понять взгляды противника…
– Да, государь, – наконец, проговорил Мефодий, – среди нас, действительно, немало людей грешных… и, возможно, не по разуму ревностных… Но всё же мы стараемся держаться истинных догматов так, как они переданы святыми отцами, не внося неподобающих новшеств. Конечно, «вера без дел мертва», но сказано и это: «без веры невозможно угодить Богу» – разумеется, без истинной веры.
– Однако, глядя на многих из вас, можно подумать, что вы нисколько не сомневаетесь в возможности спастись и «мертвой верой»… Но, чтобы не говорить о всех, я спрошу лично тебя: по-твоему, истинных догматов довольно для спасения?
– Не довольно, но истинные догматы дают возможность спастись.
– А у нас, «еретиков», даже и возможности такой нет? – усмехнулся император.
«Строго говоря, нет», – хотел было сказать игумен, но не сказал. Беседа неуловимо напоминала ему нечто уже бывшее, и в этот миг он, наконец, понял, что именно. Рим, жаркий июльский день, пруд с лебедями, девушка, насмешливо восклицающая: «Да у мирян не встретишь таких безобразий!.. Что ж, мы на то и миряне – так себе людишки… Не то, что ваше сословие, “свет миру”, “избранный род” и как еще там вы величаете себя!..» Мефодий даже вздрогнул, осознав, насколько он сейчас приблизился к тому, чтобы повторить ошибку почти двадцатилетней давности. Он несколько мгновений молчал, собираясь с мыслями, поднял глаза на императора и чуть заметно улыбнулся:
– Почему же, государь? Такая возможность есть – воспринять истинные догматы. И если среди твоих единоверцев многие, даже содержа ложную веру, по жизни благочестивее нас, как ты полагаешь, то, приняв православные догматы, они сразу станут гораздо ближе ко спасению, нежели мы, ведь с нас в этом отношении и спрос более строг… На месте твоих единоверцев, августейший, я бы не стал медлить. Ведь никто из нас не знает, какой срок земной жизни ему отпущен. Бог долготерпелив, но человеческая жизнь на этой земле всё же не вечна.
…В середине октября Феодора опять родила дочь – и почувствовала себя почти виноватой, зная, как огорчится Феофил, ожидавший сына. И в то же время она втайне радовалась, что обстоятельства по-прежнему не дают мужу простора для воздержания от супружеской жизни – августа не была уверена, что он оставил свою мысль о епитимии… Впрочем, она не была уверена и в обратном. Разговор с Математиком утешил ее, но семейная жизнь напоминала то ли хождение по тонкой доске над пропастью, то ли игру в прятки. Иногда Феодоре очень хотелось прямо спросить мужа, действительно ли она значит для него что-нибудь, кроме «удобной подстилки», но она теперь боялась таких прямых разговоров.
Особенно осторожной она стала после разговора об имени для новорожденной. Когда врачи сделали всё положенное и удалились, няньки запеленали девочку в пурпурный шелк и уложили в позолоченную колыбель, а императрица, усталая, но счастливая, лежала на высоком ложе в Порфире – палате, где стены были облицованы темно-красным с белыми прожилками порфиром, император пришел посмотреть на жену и ребенка. Феодора увидела, что он взволнован, хотя на первый взгляд этого не было заметно. Он уже знал, что снова стал отцом дочери, и, улыбнувшись жене, подошел к колыбели, несколько мгновений смотрел в сморщенное личико, а потом сел на край постели и взял Феодору за руку.
– Всё в порядке?
– Да, – с улыбкой ответила она. – Почти не было больно… От ребенка к ребенку всё легче, знаешь! Кажется, легко бы родила еще десяток…
– Ты наипрекраснейшая мать! – улыбнулся он.
«А жена?» – хотелось ей спросить, но вместо этого она взглянула на дочь и задала другой вопрос:
– Как мы назовем ее?
– Думаю, Анастасия,[1] – ответил Феофил, глядя жене в глаза и чуть сжал ее руку.
– Мне нравится, – проговорила Феодора.
– Я надеялся, что тебе понравится, – он склонился и коснулся губами ее лба.
Когда император ушел, августа велела кувикуларии принести Евангелие и читать от Иоанна, про воскрешение Лазаря.
– «…После этого Он сказал ученикам: пойдем опять в Иудею. Ученики сказали Ему: Равви! давно ли Иудеи искали побить Тебя камнями, и Ты опять идешь туда? Иисус отвечал: не двенадцать ли часов во дне? кто ходит днем, тот не спотыкается, потому что видит свет мира сего, а кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет света с ним…»
«Значит, не надо бояться проб овать снова, даже если тебя один раз побили камнями, – думала Феодора. – Ходить днем, а не ночью… Афродита небесная, а не пошлая!..»
– «…Иисус говорил о смерти его, а они думали, что Он говорит о сне обыкновенном. Тогда Иисус сказал им прямо: Лазарь умер, и радуюсь за вас, что Меня не было там, чтобы вы уверовали…»
«Умер, но это сон, даже если смерть… И Христа не было там, чтобы потом чудо было больше… “чтобы уверовали”… А ведь Лазарь умер, и сестры его несколько дней были в отчаянии!»
– «…Тогда Марфа сказала Иисусу: Господи! если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой. Но и теперь знаю, что чего Ты попросишь у Бога, даст Тебе Бог. Иисус говорит ей: воскреснет брат твой. Марфа сказала Ему: знаю, что воскреснет в воскресение, в последний день. Иисус сказал ей: Я есмь воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек. Веришь ли сему?..»
«Воскреснет!.. И “это только начало восхождения”… “Верующий в Меня, если и умрет, оживет”… Анастасия!.. “Я надеялся, что тебе понравитс я”… “Веришь ли сему?” Верю… “Верю, Господи, помоги моему неверию”!»
– «…И вышел умерший…»
На этом месте голос кувикуларии дрогнул, она остановилась, подняла глаза и увидела, что у императрицы всё лицо мокро от слез. Поймав испуганный взгляд девушки, Феодора улыбнулась:
– Это от радости.
Через несколько дней после рождения Анастасии из Кизика дошла весть, что патрикия Ирина, золовка Каломарии, умерла через две недели после своего мужа Сергия – обоих свалила какая-то лихорадка, разразившаяся на полуострове и унесшая немало народа. К счастью, никто из пятерых сыновей покойного патрикия не пострадал, и их дядя-логофет сразу же обратился к императрице с просьбой ходатайствовать перед василевсом о возвращении мальчиков в Город, под опеку родственников. Императора не пришлось уговаривать: Феофил тут же дал согласие и, вспомнив, что старший сын Сергия и Ирины некогда был лучшим учеником в училище Льва Философа, сказал, что молодого человека можно было бы сразу взять на службу в дворцовую канцелярию. И вот, по возвращении в Константинополь Фотий, которому уже исполнилось двадцать два, стал одним из императорских асикритов. В школу при храме Сорока мучеников он уже не вернулся, зато ему было разрешено пользоваться книгами из патриаршей и императорской библиотек, и всё свободное время, даже ночи, юноша проводил за чтением, делая выписки, а иногда даже переписывая для себя кое-какие сочинения. С обязанностями по службе он справлялся блестяще, со всеми сослуживцами и придворными был в высшей степени вежлив и доброжелателен, но близкой дружбы ни с кем не заводил, поэтому его считали, хотя и приятным молодым человеком, но себе на уме и несколько высокомерным. Впрочем, как родственника императорской семьи, его опасались делать мишенью для слишком смелых пересудов: ведь, несмотря на опалу, постигшую не так давно его родителей, Фотий не только воротился в столицу, но и оказался на придворной службе – а это что-нибудь да значило!
22. Начертанные
О, да погибнет вражда от богов и от смертных, и с нею Гнев ненавистный, который и мудрых в неистовство вводит!
(Гомер, «Илиада»)
В ноябре у Феофоба с Еленой родилась дочь, ее крестили на сороковой день, 29 декабря, и по этому поводу при дворе были устроены торжества, перетекшие в празднование январских календ. Во дворце 2 января, по обычаю, ожидался роскошный пир и так называемые «готские» представления, когда по двое танцоров от венетов и прасинов, наряженные в шкуры, исполняли перед пирующими особые танцы. Но горожане, по древнему обычаю, который не смогло искоренить даже запрещение шестого Вселенского собора, веселились в ночь с первого на второе, и обитатели дворца с балконов и из окон верхних этажей наблюдали за происходящим. Множество светильников и факелов озаряли улицы, гуляющие – в масках, переодетые кто в иноземцев, а кто в зверей, кто на лошадях или мулах, а кто и на ослах, но большинство пешком – пели, водили хороводы, танцевали, кривлялись, шутили, высмеивали всех и всё. Ипподром был полон веселящегося народа.
– Вот у ночной стражи сегодня хлопот! – воскликнула Мария, стоя рядом с отцом у одного из окон верхнего этажа дворца Дафны, откуда было хорошо видно гулянье во всем его размахе.
– Да, – улыбнулся Феофил. – Но зато в монастырях сейчас молятся, чтобы не было беспорядков.
– И осуждают злочестивое празднество! – Мария смешно надула щеки. – А мне, честно говоря, иногда хочется оказаться там, среди народа, тоже в какой-нибудь маске и этаком наряде…
– В твоем возрасте мне тоже этого хотелось.
– И ты никогда не пробовал? Ведь ты еще не был императором тогда?
– Не был, но мои друзья были императорскими детьми, и без них мне не хотелось, хотя я мог бы, конечно. Но мне и так не было скучно, мы устраивали свои забавы, я ведь рассказывал тебе.
– Да, помню, – Мария взяла отца под руку и положила голову ему на плечо. – А я впервые смотрю на эти гулянья без Елены…
– Это потому, что она сейчас слишком занята с дочкой.
– Нет, не только. У нее теперь другая жизнь… И сама она уже другая… Хорошая, еще лучше, чем была, но другая! – Мария помолчала и тихо добавила: – Я теперь тоже хочу замуж, папа.
– За кого же?
– За кого?.. Я еще не придумала! – она рассмеялась.
– Что ж, думай, – император улыбнулся. – Дело важное.
– На самом деле… – начала Мария, но умолкла.
– Да?
– На самом деле мне нравится… один человек… Только он, наверное, на меня и не посмотрит! Что я – девчонка, еще и четырнадцати нет, а он… герой!
– Кто же это?
– Алексей Кринит, – ответила Мария, краснея. – Мы встречались с ним несколько раз, когда я бывала в гостях у Нонны.
Муселе прослужил на Сицилии два года и навел на агарян страха: несмотря на падение Палермо, арабы после назначения Алексея стратигом, не одержали на острове сколько-нибудь значительных побед. Но внезапно умерла мать Кринита, вдова, и молодой человек с позволения императора вернулся в Константинополь – опекать несовершеннолетних сестер и брата. Старшей из сестер, Нонне, полгода назад исполнилось пятнадцать, и она была взята в кувикуларии к августе. Мария подружилась с ней и иногда заходила в гости в особняк Кринитов, стоявший у Акрополя. Алексей нашел для сестры жениха, и Феофил рассчитывал после этой свадьбы вновь отправить Муселе на Сицилию, поскольку младшую сестру и брата Алексей мог оставить на попечение старшей и ее мужа. Дела на острове в последние два года шли из рук вон плохо: после смены военачальника христиане терпели от агарян поражение за поражением, новый стратиг в одном из сражений едва не погиб, множество христиан попало в плен, арабы захватили несколько крепостей, жгли селения и опустошали остров. Правда, ромеи по-прежнему удерживали большую и почти неприступную крепость Кастроджованни, но как долго они еще смогут там держаться? Император собирался послать на Сицилию подкрепление во главе с Муселе, но услышанное от дочери могло изменить планы – если, конечно, за ее словами стоит что-то действительно серьезное…
«Ладно, посмотрим!» – подумал Феофил и спросил с улыбкой:
– Что ж, разве, когда вы с ним встречаетесь, твой герой сразу уходит, не взглянув на тебя?
– Нет, – Мария улыбнулась. – Он… он ужасно, ужасно вежлив! Мне просто даже неудобно становится, когда он говорит со мной! Так церемонно… Ну, понятно, я ведь императорская дочь… Но всё-таки лучше бы как-то попроще… Это не грех, что мне этого хочется? – она взглянула на отца.
– Нет, конечно.
– Вот, хорошо! Тогда в следующий раз я скажу ему, что…
– Скажи ему, чтобы он тебя не боялся, – улыбнулся император.
– Не боялся? – Мария засмеялась, потом задумалась. – А пожалуй, он и правда… как-то опасается… У него такое выражение лица иногда… как если человек несет до краев наполненную чашу и боится разлить… Понимаешь? – Феофил кивнул. – Но всё равно мне кажется, что он… привык, что Нонна еще маленькая…
– Ты думаешь, что и тебя он считает такой же, раз вы подруги?
– Да! Тем более, я даже младше ее… Впрочем, что ж, я ведь и правда еще маленькая…
– Ничего, ты и не заметишь, как вырастешь!
«Ты уже выросла, моя девочка», – подумал император и чуть заметно вздохнул. Видно, с отправкой Алексея Муселе на Сицилию придется повременить…
В середине Великого поста логофет дрома принес императору копию канона, составленного в честь покойного архиепископа Сардского Евфимия.
– Государь, – сказал Арсавир, – это нечестивое сочинение изъяли у того монаха Иова, что прислуживает иерусалимскому синкеллу, он пытался передать его Михаилу. Там много хулы на августейшего Льва и твое величество. Позволь мне зачитать эти места, я тут пометил… – Феофил кивнул. – В третьей песни говорится: «Твердостью ума и доблестью души обличил ты злочестивого Льва, неистовствовавшего против Спасителя». В четвертой песни… эм… говорится про бичевание: «Священства честности не устыдившись, нечестивцы и борители, преступлений делатели, старости твоей не воздавше чести, беззаконные немилостиво бичевали тебя».
– Вот видишь, – усмехнулся император, – вы с господином Феоктистом уже и воспеты даже! Что усердие о государственном благе-то делает!
Логофет смущенно закашлялся: он помнил, как император назвал его «безмозглым тупицей» за то «усердие»…
– Что ж, читай дальше! – сказал василевс. – Или это всё?
– Нет, к сожалению! Дальше еще хуже, августейший… Пятая песнь: «Ты погасил огонь ярости беззаконных, Евфимий, излиянием неправедно пролитой крови твоей, священнейший, преблаженный». В восьмой песни: «Светел и словом, и умом, ты стяжал светлую душу и лицо; ныне же светлее стал, Евфимий, до крови царям-богоненавистникам сопротивляяся…» Сказано: «царям», во множественном числе, то есть имеется в виду не только августейший Лев, но и…
– Понятно, давай дальше.
– Вот еще из той же песни: «Напали, блаженный, на тебя сильные земли, умертвить тебя, беззаконнейшее делая…» И еще в двух местах говорится о том, что Евфимий «положил душу за друзей своих». А в конце девятой песни он прославляется как «святитель и мученик», и составитель просит: «ныне от настоящей зимы церкви тишину испроси и согрешений оставление поющим тебя, всеблаженный».
– Про иконы что-нибудь сказано?
– Как ни странно, государь, почти ничего. Только в одном тропаре составитель обращается ко Христу и говорит… э… вот: «Тебе, Спасителю, приносится одушевленный образ, почтивший образ чистой плоти Твоей и изображение телесное».
– Что ж, написано вдохновенно! – с усмешкой сказал Феофил. – Чье это сочинение?
– Пока мы не смогли этого выяснить, государь. Иов допрошен, но запирается и на все вопросы отвечает, что не желает «говорить с антихристами». Думали его пытать, да он как тростинка – пожалуй, скорей душу выбьешь, а сказать ничего не скажет, упрям, как стадо баранов! Не делать же из него «мученика», тем более, что эти безумцы только того и жаждут!
– Разумеется, пытать его не надо.
– Но я предполагаю, августейший, что это сочинение братьев-палестинцев, учеников Михаила. Ведь младший из них, Феофан – поэт, много канонов написал. Они сейчас на Афусии, но вот, переписываются с этим…
– Ясно. Установите за ними слежку, выясните, с кем они еще ведут переписку и что за сочинения распространяют.
– Будет исполнено, августейший!
– А что там Михаил?
– Очень слаб и стал плохо видеть. Стражники говорят, что он с трудом разбирает читаемое, а недавно сказал госпоже Евфросине, чтоб она больше не приносила ему книг.
– Где он сидит, в нижней темнице, насколько я помню?
– Да, государь.
Феофил задумался на несколько мгновений.
– Вот что, – сказал он, – пусть его переведут в верхнюю, где посветлее, но на ноги наденьте колодки. И этому дураку Иову не запрещайте прислуживать ему, только следите, чтобы писем не носил. Мне тут асикрит Стефан каялся, что Михаил совращает его в иконопоклонство. Но Стефан богобоязнен: помнит заповедь «царя чтите», – по губам императора пробежала усмешка, – и не внимает песням иноземных сирен… Да, так ты понял насчет палестинцев… как там их? Феофан и…
– Феодор, государь.
– Сколько им лет?
– Около шестидесяти.
– Впереди гроб, а они всё никак угомониться не могут, монахи!.. Что им не сиделось в своей Палестине? Помнится, таких бродяг египетские отцы называли родом бесплодным и ни к чему не годным… Ладно, ступай. Как узнаешь что-нибудь, сразу докладывай.
Весна и лето принесли новые плачевные вести с Сицилии: хотя под Кастеллючио ромеи разбили агарян, но в области Этны арабы захватили множество пленных, а другие отряды грабили Эолийские острова и взяли крепость Тиндаро. Между тем с востока доходили известия, что силы мятежных персов окончательно выдохлись, и возникли опасения, что Мутасим, расправившись с Бабеком, не упустит случая выступить против ромеев, а это было бы так некстати… Император хмурился, часто бывал задумчив и много молился ночами. Патриарх болел, и синкеллу снова пришлось заняться делами церковного управления. Императрица опять ждала ребенка и возилась с дочерьми. Фекле шел четвертый год, она болтала без умолку, задавала самые странные и неожиданные вопросы – например, «почему море не закипает, когда солнце в него садится», – капризничала и вообще была весьма своенравна. Феодора иногда уставала от нее, но, с другой стороны, ее веселая болтовня служила матери развлечением. Мария вечерами под разными предлогами пропадала в гостях у Нонны и почти каждый раз возвращалась оттуда с сияющим лицом…
В конце июня спафарий Каллона и асикрит Стефан заявили, что разрывают общение с иконоборцами – увещания синкелла Михаила, наконец, подействовали. Новоявленные иконопочитатели назвали патриарха Антония «еретиком, состарившимся в нечестии» и «обманщиком благочестивых людей», но про императора не осмелились говорить что-либо в порицание, только сказали, что готовы «стоять за веру до пролития крови и отнятия имущества». Это обращение вызвало скандал: хотя некоторые придворные были тайными иконопочитателями и кое-кто из них не причащался с иконоборцами, однако никто не выражал своих воззрений на иконы публично, как это сделали Каллона и Стефан. Император не стал долго церемониться и приказал сослать обоих на остров Антигону под надзор в один из тамошних монастырей, а их имущество пока опечатать, если же они не переменят взглядов, забрать в казну: Феофил готов был терпеть иконопочитателей и на придворной службе, но нарочитое выставление ими своего «благочестия» его раздражало. У Каллоны в доме устроили обыск и нашли несколько посланий синкелла Михаила, а также письмо с Афусии от палестинцев Феодора и Феофана. Последнее содержало ямбы против покойного Льва Армянина:
- «Подобно людям, что гадают по полету птиц,
- Неверья Богу царь исполнен, злобы злой сосуд,
- Негодных, мерзких, злых людей послушав,
- Иконы зло низверг, безбожник и глупец,
- Поверив, будто царства крепость даст ему
- Господь, – однако всуе жалкий обманул себя:
- Поруган в образе Своем, Христос наш Бог
- Венчал злодея в правом гневе поруганьем.
- Зло злой свою извергнув душу, в ад сошел
- В день славный Рождества Спасителя и Бога,
- Лишившись царства на земле злославный
- И потеряв, несчастный, вечное навек».
Стихи эти были давно знакомы императору – они распространялись в списках еще в царствование его отца. Михаил смотрел на это сквозь пальцы, но Феофил после издания эдикта против иконопочитания приказал выяснить, кто написал эти ямбы, однако сделать это до сих пор не удавалось. В письме же палестинцев к Каллоне прямо говорилось, что они посылают ему свои стихи – итак, авторство было выяснено, и при дворе все понимали, что обоим братьям не поздоровится. Василевс не любил подобных сочинений, а теперь был к тому же раздражен из-за выходки Каллоны и Стефана и потому решил примерно наказать монахов, тем более, что они были иноземцами: если даже чужакам будет позволено безнаказанно оскорблять августейших особ, то какого почтения тогда ждать от собственных граждан?!
Феофил немедленно послал на Афусию чиновника, приказав доставить палестинцев в столицу. Одновременно он вызвал к себе Христодула, молодого асикрита, двоюродного племянника Варды, недавно начавшего служить в императорской канцелярии. Этот юноша был очень усерден, протоасикрит Лизикс неоднократно хвалил его перед императором и однажды обмолвился, что Христодул к тому же сочиняет неплохие ямбы.
– Господин Христодул, – сказал василевс, – я знаю, ты пишешь стихи?
– Да, государь, – ответил тот смущенно. – Правда, это только так, опыты… До древних образцов им далеко!
– Ничего, сейчас пока и не нужно, чтобы ты гонялся за древними образцами. Вот, взгляни! – император протянул молодому человеку листок с сочинением афусийских изгнанников. – Нравятся тебе эти стихи?
– Но это ужасно! – испуганно воскликнул Христодул, прочтя.
– Ужасно по содержанию, согласен. А по форме?
– По форме?.. – асикрит немного растерялся, перечел ямбы и нерешительно проговорил: – По форме они неплохи, августейший.
– Да, – кивнул император. – Так вот тебе задание: сочини ямбы наподобие этих, но похуже в смысле формы. Лучше даже нарочно сделать ошибки в размере.
– А каково должно быть их содержание, августейший?
– Они должны говорить о том, что двое преступников пришли в Иерусалим, наделали там много постыдных дел и, будучи изгнаны, прибыли в наш Город, но и тут продолжали беззаконничать, а потому изгоняются отсюда с начертанным лицом.
– С начертанным лицом, государь?
– Да. Твои стихи будут начертаны на лицах сочинителей вот этих ужасных ямбов. Поскольку эти люди мнят себя, как видно, великими поэтами, то носить на лице стихи с ошибками им будет еще менее приятно. Понимаешь?
– О да, государь! Я постараюсь, – улыбнулся Христодул.
– Прекрасно. Если выполнишь задание хорошо, быть тебе первым помощником господина Лизикса!
Мысль о столь своеобразном наказании для «палестинских стихоплетов» пришла императору в голову по ходу чтения Геродота. Прочтя в книге «Терпсихора» рассказ о том, как Гистией передал Аристогору послание, наколов его на голове своего верного слуги, Феофил подумал: «Что ж, бичи и тюрьмы это старо, и для любителей обличительных стихов и канонов, – месяц назад уже окончательно выяснилось, что автором канона в честь Евфимия Сардского был Феофан, – не худо придумать что-нибудь повеселее… Почему бы и нет? Заодно и другим, может, впредь будет неповадно… Им, верно, доставляет радость мысль, что их противники сойдут в ад… Они хотят поскорей увидеть возмездие, судный день!.. Не потому ли и Феодор Студит поспешил объявить нашу веру предвестием антихриста? Ха! Конечно, вот-вот конец света, “доколе, Владыка святой и истинный, не судишь и не мстишь за кровь нашу?..” Интересно, многим ли из них так желанен конец мира потому, что они хотят узреть Христа? Не ждет ли большинство из них конца потому, что хочет увидеть, как противников поглотит огненная река?.. “Поборники благочестия”, дьявол бы их забрал!»
Феодор и Феофан были доставлены с Афусии в Город 8 июля и заключены в Преторий, а через шесть дней вызваны к императору; их сопровождал во дворец эпарх. При дворе все уже знали об их истории, и пока братья ожидали в Лавсиаке приглашения предстать перед василевсом, бывшие там придворные и стражники вдоволь наиздевались над ними: одни грозили жестокими карами и призывали покориться повелениям императора «немедленно и без всяких возражений», другие обзывали бесноватыми и безумцами… Наконец, около четвертого часа пополудни, эпарх ввел палестинцев в Золотой триклин. Император восседал на троне с грозным видом, вокруг стояло множество стражи, синклитиков и придворных. Эпарх довел монахов до середины зала и, отступив, оставил их одних перед василевсом. Палестинцы, как полагалось, поклонились в землю, а когда поднялись, Феофил оглядел их с головы до ног и приказал приблизиться. Они подошли к самому подножию трона, откуда начинались ступени.
– Из какой страны вы родом? – спросил император сурово.
– Из Моавитиды, – ответил Феодор.
– Зачем вы пришли сюда?
Палестинцы молчали, глядя в пол. Не дождавшись ответа, Феофил дал знак, и двое из предстоявших ему спафариев, подойдя к монахам, стали наносить им с размаху удары по лицу. После десятка пощечин у них стала кружиться голова и подкашиваться ноги, и если бы Феодор не ухватился за хитон на груди бившего его чиновника, то, пожалуй, упал бы прямо к ногам императора. Василевс приказал бившим остановиться и снова спросил:
– Чего ради вы пришли сюда?
Феофан поднял было глаза и хотел что-то ответить, но Феодор чуть заметно дернул его за рукав, и тот промолчал; оба стояли, опустив голову. «Бараны баранами! – раздраженно подумал император. – А я еще думал, не пожалеть ли их… Нет, пусть получат свое!» Он обратился к эпарху и сказал:
– Уведи их и начертай им лица, написав на них ямбы. А потом передай обоих сарацинам, и пусть те отведут их в свою землю.
Феофил повернулся к стоявшему тут же Христодулу и приказал зачитать приготовленные ямбы, добавив с усмешкой:
– Если они и не хороши, пусть тебя это не заботит!
Всё это «представление» было подготовлено заранее, и проэдр Синклита тут же сказал, пренебрежительно кивнув в сторону монахов:
– Да они и не достойны, владыка, чтобы ямбы были лучше! Хороши и те, что есть!
Все присутствовавшие закивали, посмеиваясь, а Христодул выступил вперед и прочел свое сочинение:
- – Поскольку все желают в град придти,
- Где ради устроения вселенной ноги
- Всечистые ступали Слова Божия,
- Они пришли в священные места,
- Сосуд порока, безобразной и бесовской льсти,
- И нечестивомысленно в безбожии свершили
- Там множество постыдных страшных дел.
- Оттуда, как отступников, изгнали их,
- Они же в царственный сбежали Град,
- От беззаконного безумья не отстав.
- И потому с лицом начертанным они,
- Вновь как злодеи на изгнание осуждены.
– По стихотворцам и стихи! – сказал император и повернулся к эпарху. – Уведи их обратно в Преторий.
Палестинцы не совсем поняли, что означало «начертать ямбы», и были несколько удивлены, что их допрос оказался столь кратким и никак не коснулся иконопочитания.
– Кажется, мы легко отделались! – шепнул Феофан брату, когда их вывели из триклина.
– Видишь, хорошо, что мы промолчали, – ответил тот, – а то сказали бы что-нибудь, так он бы только еще больше озлился… Ведь ясно же, что они заранее решили осудить нас – подготовили и стихи, и всё…
Но они еще не успели покинуть дворец и дошли только до Термастры, когда из боковой двери вышел чиновник и сказал, что император велит возвращаться. Приняв палестинцев от эпарха, он поспешно повел их обратно в Золотой триклин. Братья недоуменно переглянулись. Когда их вновь привели пред лицо василевса, тот сказал:
– Возможно, вы, уйдя, станете говорить там: «Мы поглумились над императором». Но я первый посмеюсь над вами, а потом отошлю, – он кивнул предстоявшим тут же слугам. – Раздевайте их!
– О, Господи! – только и успел проговорить Феофан.
В следующий миг их схватили и начали срывать с них одежды, а окружающие смотрели на это как на вполне обычное дело. Монахи пытались уловить хоть в чьем-нибудь взгляде сочувствие или сожаление – тщетно! Если кому-нибудь и было жаль их, он, конечно, старался это скрыть, поскольку император был разгневан.
Феофил сам не мог понять, почему эти палестинцы так раздражали его. С виду монахи как монахи, уже пожилые, изможденные, в изношенной одежде, почти совсем седые – скорее, они должны были вызывать если не жалость, то презрение. Пожалуй, его больше всего разгневало то, что они даже не удостоили его ответом; он заметил, как Феофан хотел заговорить и как брат одернул его. «Разумеется! – саркастически думал император, пока Христодул читал свои ямбы. – Я для них – злейший еретик, антихрист, разговаривать со мной – осквернение… Они думают, что я буду их мучить за иконопоклонство, глупцы! Да хоть бы они лоб расшибли об свои иконы, что мне за дело! Но нет, они все – любители лезть в политику, поносить императоров, судить направо и налево, кого отправить в ад, кого помиловать… Пришли сюда, их приняли, обласкали, дали место для житья, но им нужно выставить себя, показаться героями, борцами за веру… Мы для них еретики и безбожники, и они даже не думают, что если б не мы, они бы, может, уже давно костями лежали в своей Палестине… а не каноны да стишки тут сочиняли, поэты! Отправить их обратно к агарянам, и дело с концом!»
Однако, когда палестинцев уже вывели из триклина, император вдруг подумал, что теперь они, должно быть, радуются, что дешево отделались, а может, еще будут и смеяться над ним и говорить, как Мефодий в житии Евфимия, что иконоборцы просто тупы и глупы, неспособны вести богословские дискуссии, а потому задают «посторонние» вопросы, вроде «откуда вы пришли» или «кто к вам приходил»… «Что ж, – подумал Феофил, – не сыграть ли мне хоть раз в жизни “тупого и невежественного тирана”, “немилостивого”, “нечестивого борителя”? Кто чего ожидает, тот то и должен получить, не так ли?» И он приказал вернуть монахов обратно.