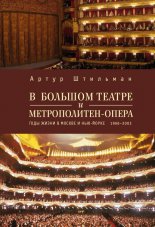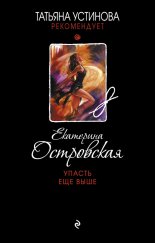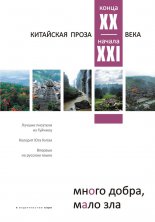Кассия Сенина Татьяна

- – «Разумом щедро ее одарила Афина: не только
- В разных она рукодельях искусна, но также и много
- Хитростей знает, неслыханных в древние дни…»
Когда вошел отец, девочка бросилась к нему с радостным криком:
– Папа! Смотри, папа, я тут дяде Варде «Одиссею» уже читаю!
– О! – улыбнулся Феофил. – Молодец!
– Да, государь, – сказал Варда, – она у вас тоже разумом щедро одарена! Читает уже очень хорошо, а ведь не так давно учиться начала!
– Ну, с таким учителем немудрено! – заметила Ирина.
Когда Марии пошел шестой год, Феофил поручил Сергие-Вакхову игумену учить ее грамоте, и теперь она уже умела читать и считать. Грамматик говорил, что девочка очень смышленая, и улыбался: «Вся в августейшего отца!»
Феофил с дочерью ушли, а Феодора с братом и сестрами еще посидела немного, а потом предложила тоже прогуляться, пока не стемнело. Они немного прошлись по парку и уселись на скамью у пруда. Издалека слышался звонкий смех Марии – очевидно, они с отцом вовсю веселились.
– Всё-таки до чего Мария похожа на свою бабку! – сказала Ирина.
– Да, – отозвалась София, – а если она и по характеру будет на нее похожа, то чего лучшего и желать!
– Да, покойная августа была во всех отношениях прекрасной! – сказал Варда. – Удивительная женщина! Совершенно не кичилась, так просто вела себя со всеми…
– А ведь мы ей, можно сказать, все обязаны по гроб жизни! – сказала София.
– Чем это? – удивилась Феодора.
– Так ведь это она решила устроить такую церемонию с выбором невесты. И потом, она сама говорила мне, что из всех девушек ты понравилась ей больше всех, и она сказала об этом Феофилу накануне выбора, – Фекла действительно, в пылу «налаживания отношений» с новыми родственниками в первые дни после смотрин, проговорилась об этом Софии. – Августейшая уверяла, что нисколько не давила на сына, и я ей верю. Видимо, их вкусы просто совпали. И вот, мы все здесь!
– Вот как, – тихо сказала Феодора, бледнея. – А я думала… – она не договорила и внезапно встала. – Простите, я должна вас покинуть!
Когда она скрылась за поворотом дорожки, София с Ириной переглянулись. Варда поглядел вслед императрице, перевел глаза на Софию и, усмехнувшись, проговорил:
– Не знаю, сестрица, обругать тебя или не стоит. Ты, кажется, окончательно развеяла туман самообольщения в душе нашей августейшей сестры.
Феодора почти бегом добралась до своих покоев и, запершись в спальне, ничком упала на кровать. «Их вкусы совпали»!.. О, нет, ведь она-то помнила, кого хотел выбрать Феофил на самом деле! И значит… Она до сих пор думала, что всё-таки понравилась ему… может, и не так, как та, но всё же понравилась… А оказывается… оказывается, он всего лишь последовал совету матери – от безысходности! Так вот откуда все эти его странности, насмешливость, холодное обращение!.. И эта страстность по ночам, когда он сводил ее с ума своими ласками и одновременно повергал в недоумение – настолько разительную противоположность этот пыл составлял с поведением мужа во всё остальное время… Значит, это всего лишь способ утолить вожделение – и только! Неужели так?! А если… спросить его самого?..
Но она не решалась спросить, и сейчас ей опять стало страшно: она боялась того, что могла услышать в ответ. И в то же время… нет, так всё-таки дальше невозможно!
– Феофил!
– Да? – он повернулся к ней. – Ты что не спишь? Такая рань!
Он немного раздвинул занавеси на окне, подошел к большому зеркалу, взял со столика золотой гребень и стал причесываться. «Нет, не надо спрашивать, не надо!» – мелькнуло у нее. Но она всё же спросила:
– Феофил, ты… ты меня любишь?
Он даже не обернулся, только на мгновение перестал причесываться и сказал:
– Вот так вопрос с утра! Да еще после такой ночи.
Он зачесал волосы на висках назад, бросил гребень на столик и повернулся к жене.
– Ты плохо спала?
– Перестань издеваться! – вспылила Феодора.
– Разве я издеваюсь? – казалось, он был искренне удивлен.
– Ты смеешься надо мной!
– А ты надо мной нет? Вопросы о любви обычно задают до свадьбы, но в то время ты их не задавала – значит, то, что ты знала, тебя устраивало. А с тех пор ведь ничего не изменилось.
Она села на постели, прикрыв грудь одеялом. «То, что ты знала». До свадьбы она знала… что он потрясающе целуется и красиво читает стихи… Он и сейчас потрясающе целовался и иногда читал ей стихи. Правда, иной раз ей казалось, что он при этом словно иронизирует – не то над ней, не то над самим собой… «Тебя устраивало». Но разве она могла думать, что это всё?! Разве она думала, что его поведение тогда, на первом обеде, говорило о чем-то действительно серьезном? Ведь потом он всё же был другим – гулял с ней, разговаривал, рассказывал всякие вещи… Значит, это было… только данью вежливости?!..
– Ты меня не любишь!
– Еще того не легче. А из чего ты это заключила, позволь узнать?
– Я это чувствую!
– Вот как? Любопытно, – несколько мгновений он в раздумье смотрел на нее. – Как по-твоему, любовь к Богу, например, это чувство?
– Н-нет, – ответила она не очень уверенно.
– Почему так робко? Ответ верен. Не чувство. А любовь к ближнему?
Она молчала, сердито глядя на мужа.
– Не знаешь? Ладно, я тебе скажу: она тоже не чувство. Любовь к Богу состоит в соблюдении Его заповедей. «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди», – это ты помнишь, надеюсь? Равно как и любовь к ближнему заключается в исполнении заповедей по отношению к ближнему. А сама любовь к Богу и ближнему есть Бог, действующий в нас. «Бог есть любовь, и пребывающий в любви в Боге пребывает, и Бог в нем пребывает». Поняла?
– Вроде бы. Но при чем тут…
– Сейчас увидишь. Соответственно, отсутствие любви выражается в несоблюдении заповедей, в пренебрежении обязанностями в отношении ближних. Так какими из них я пренебрег по отношению к тебе, что ты обвиняешь меня в нелюбви?
Его рассуждение так ошеломило ее, что она молчала, не зная, что сказать. А он продолжал:
– Рассудим логически. Мы с тобой живем… уже восемь лет. Нажили детей, в том числе наследника. Так?
– Так…
– Была ли ты когда-нибудь мною недовольна с телесной стороны?
– Нет, – ответила она, слегка краснея: что Феофил, по выражению Варды, «ночью был на высоте любовной науки», Феодора отрицать не могла.
– С вещественной, в смысле средств к существованию и прочее?
– Нет. Но послушай!..
– Погоди, не будь так нетерпелива, – он слегка улыбнулся. – А с нравственной стороны как?
– С нравственной?..
– Изменял ли я тебе, был ли я с тобой груб? Или, может быть, я плохо обращался с детьми или с твоими родственниками?
– Да нет…
– Есть ли во вселенной хоть одна женщина, у которой положение выше твоего?
– Нет…
– Так чего тебе еще нужно?
Феодора смотрела на мужа и ощущала свое полное бессилие перед ним – таким прекрасным и таким непонятным, которого она так любила и при этом до сих пор знала, если не брать в расчет плотскую близость, не намного больше, чем в тот день, когда он вручил ей золотое яблоко! Чего ей еще нужно? Вот, в самом деле, вопрос!..
– Но ты говоришь вообще о любви к ближним! – вскричала она. – Как ты тут расписал, можно любить кого угодно, даже совсем чужих людей! А мы муж и жена!
– И что? – спросил он спокойно. – В браке люди перестают быть ближними друг другу? Чем, по-твоему, отличается любовь в христианском браке от христианской любви вообще? Чем отличаются муж и жена от всех прочих людей? Они точно так же должны соблюдать заповеди в отношении друг друга, как и в отношении посторонних людей. Отличие только в том, что они еще спят вместе, но могут и не спать, если не хотят, рожают детей, если Бог пошлет, и воспитывают их. Кажется, против этих условий я тоже не погрешил, что и прошедшая ночь показывает, – он подошел к окну, несколько мгновений смотрел в сад и снова повернулся к жене, но теперь он стоял спиной к свету, и она почти не могла разглядеть выражение его лица. – Правда, к любви это отношения уже не имеет.
– То есть как не имеет? – удивилась Феодора.
– Так ведь настоящая любовь одна – христианская, и только против нее грешить нехорошо. Но ночные развлечения и чадородие к ней не относятся, а не то надо было бы христианам всем спать со всеми и рожать детей, чтоб заповедь о любви исполнить. Не так ли?
Она растерянно помолчала и воскликнула:
– Тьфу, да я ведь не о том! Я о любви мужчины и женщины, мужа и жены!
– О нет, тут надо разделять. Любовь мужчины и женщины это одно, а любовь мужа и жены в христианском браке – совсем другое.
– Как?!
– Первая есть страсть, и если я, так сказать, чем-то против нее «согрешаю», то это, скорее, добродетель. А вторая есть исполнение заповедей, о чем я уже говорил. Итак, какую заповедь я не исполнил по отношению к тебе или к нашим детям?
Феодора безмолвно смотрела на мужа. Она, быть может, впервые в жизни столкнулась с таким логичным построением, и совсем не понимала, как и что тут можно возразить. Она не привыкла раскладывать свою жизнь по логическим полочкам и связывать такими цепями рассуждений. «Он надо мной смеется!» – но доказать это не представлялось возможным: внешне Феофил был вполне серьезен.
– Или ты жаждешь именно любви как любви мужчины и женщины? – спросил он.
– Да, – ответила она тихо.
– Для этого у нас есть ночь, и она только что была.
– Разве эта любовь сводится лишь к постели?! – возмутилась Феодора. – А общение? А дружба, единодушие? Общаешься ведь ты с другими, например, со своим Иоанном! А со мной… мне иногда кажется, что ты меня презираешь! Ни о чем поговорить не хочешь! Разве это любовь?!
– Да, Аристотель действительно говорил, что «влюбленность тяготеет к своего рода чрезмерной дружбе», тут ты права. Но для дружбы нужны общие интересы. Ты говоришь, я тебя презираю, а мне кажется, что я тебя жалею. Вряд ли ты обрадовалась бы, если б я стал рассуждать с тобой о «Диалогах» Платона…
– Как будто единодушие невозможно помимо любви к Платону! По-моему, не обязательно иметь во всем одинаковые вкусы, чтоб оно было!
– Не обязательно, согласен. Единодушие, о котором ты говоришь, происходит из некоего созвучия душ… Одной общности знаний и склонностей, конечно, недостаточно, чтобы создать его, но если этой общности почти нет, то очень маловероятно, что мелодия зазвучит. По тому же Аристотелю, недостаток общения убивает дружбу, но чтобы было общение, нужны общие интересы, и если их нет, общаться по необходимости будет не о чем, а значит, не будет и дружбы. И в любом случае созвучие душ… не берется человеческими усилиями. Это даруется свыше… или не даруется, – он умолк и отвернулся к окну.
– А без созвучия, значит, только постель и жалость! Вот это твоя любовь? – сказала Феодора почти враждебно.
Он обернулся, бледный, но она не могла разглядеть этого.
– Если и так, каким заповедям это противоречит? В Писании сказано, что жену надо «питать и греть», как «немощный сосуд», и про постель там говорится: «чтобы не искушал сатана невоздержанием»… Но где там сказано о том, что муж должен вести с женой беседы и вообще проводить с ней много времени?
Феодора закусила губу, помолчала и выпалила:
– Была бы на моем месте другая, ты не задавал бы таких вопросов!
«Вот как! – подумал Феофил. – Ревность? С чего бы вдруг? Что это с ней случилось… после стольких лет замужества?»
– Возможно, – сказал он с некоторой холодностью. – Хотя я не понимаю, чего ради ты заговорила об этом, ведь мы уже выяснили, что я тебе не изменял. Но ты, кажется, опять не совсем поняла. Вести с женой беседы – не есть ни грех, ни добродетель. Может быть, ты и не заметила, но до и отчасти после свадьбы я потратил некоторое время на то, чтобы выяснить твои вкусы и склонности и понять, что мы с тобой мало найдем тем для разговоров… Впрочем, дело не в этом, а в том, что, говорю я с тобой о прочитанных книгах или не говорю, гуляю я с тобой по парку или нет, я ничем не погрешаю против заповеди о любви в христианском ее понимании. Даже напротив: если б я такими беседами и прогулками чрезмерно и без нужды увлекался, это был бы признак пристрастного отношения и греховной жизни. Пожалуй, это был бы еще и соблазн ближних, а именно – тебя. Христианин ведь должен при всех своих делах помнить о Боге. А ты вспоминаешь о Нем, когда говоришь со мной? Я еще до свадьбы заметил, когда мы с тобой гуляли по вечерам, что ты слушаешь меня как сирену, совершенно забывая обо всем окружающем. Уж не говорю о ночных развлечениях – тут и вовсе не до памяти Божией. А ведь так не должно быть. Златоуст, например, считал, что возможно и при этом молиться, но только менее сосредоточенно. Мы же с тобой, если кому и приносим жертвы по ночам, то никак не Христу умом, а Афродите душой и телом. Надо заметить, что это совсем не аскетично.
Феодора растерялась. «Не аскетично»? Да, получается, то, чего ей хочется, ни в какую аскетику не вписывается… А должно вписываться? Получается, должно… Значит, Феофил прав? Как всегда! Всегда он «прав», хотя она точно знает, что он не прав!..
– Иоанн хорошо обучил тебя… софистике! – наконец, проговорила она.
– Софистике – возможно, но философом я стать всё-таки не смог. Впрочем, это не имеет отношения к нашему разговору. Как видишь, я, напротив, поступаю с тобой по любви – помогаю не увлекаться слишком тем, что мешает спасению души. А ты не только этого не ценишь, но даже вообще об этом не думаешь. Но довольно. Полагаю, я ясно высказался… А что до любви мужчины и женщины, то один философ сказал, что это «расстройство ума, пленение души и безумие тела»… Поэтому, с христианской точки зрения, чем меньше мы будем подвержены такой любви, тем лучше. Ведь ты, кажется, хочешь еще и добродетельной быть? – и, усмехнувшись, он вышел из спальни.
Феодора вскочила с постели. Ей хотелось догнать мужа и со всей силы влепить ему пощечину. «Добродетельной»? Нет, в этот миг она не хотела быть добродетельной. Впрочем, так ли уж она хотела этого и раньше?.. И что есть добродетель? Смиряться, когда любимый человек вот так издевается над тобой?! Когда ощущаешь, что тот, кто должен быть самым близким, оказывается дальше далеких земель, далеких звезд… несмотря на то, что бывает ночью! Плоть соединяется с плотью, плоть доставляет удовольствие плоти… Но где его душа? Где душевная близость, где внутреннее единение? Никогда, никогда этого не было! Он – словно запертая башня, и не найти ни входа, ни даже щели, чтобы заглянуть внутрь… И если она все эти годы надеялась, что это может измениться со временем, то теперь он сам дал понять, что ничего другого, кроме того, что есть, уже не будет… Феодора до боли закусила губу. Добродетель!.. Что же, терпеть всё это… как ниспосланное Богом испытание? Не жаловаться, не противоречить… быть просто гетерой, с которой хорошо проводить время ночью… и чем-то вроде Агари, использованной Авраамом только для рождения ребенка… И всё потому… всё потому, что он хотел выбрать другую, а не выбрал потому… потому, конечно, что она прилюдно посмела возразить ему, и гордость не позволяла настаивать!.. А она – зачем она тогда возразила ему, эта вздорная девица? Не захотела смириться с принижением женщин? Значит, и у нее гордость, и у него, никто не захотел уступить… Зато теперь Феодора должна смиренно служить… чем-то вроде блудницы! О, да, он хорошо ей платит! Целая Империя – разве малая плата за ночи страсти, но без любви?.. Но в Песне Песней сказано, что «если отдаст муж все имение свое за любовь, уничижением уничижат его»… Любым имением, даже целым царством не откупиться!.. А что там тогда говорил Никомидийский отшельник – что вознесет ее Бог за смирение? Вот так вознес! Лучше б она осталась в Эвиссе, чем это возвышение – о да, великое, но обретенное такой ценой!..
Феодора взяла с полки у зеркала серебряный ларец, украшенный лазуритом и янтарем, открыла его, достала оттуда золотое яблоко и хмуро принялась его разглядывать. Больше всего ей сейчас хотелось запустить этим яблоком в Феофила или, на худой конец, выбросить его куда-нибудь подальше… А может, отдать в переплавку на монеты? Вот было бы символично!.. Она положила яблоко в небольшой мешочек из пурпурного шелка, расшитый жемчугом, закрыла ларец и поежилась: она и не замечала, что до сих пор раздета, а сейчас ей стало холодно. Феодора надела нижнюю тунику, шагнула было к окну, но внезапно повернулась, бросилась на кровать и зарыдала. Самым ужасным было вовсе не то, что Феофил выбрал ее от безысходности и потому не любил и не хотел внутренней близости с ней, а то, что, несмотря на всё свое возмущение «гордостью», из-за которой, как думалось Феодоре, Кассия и Феофил так странно разошлись на смотринах и в результате заставили ее «мучиться», несмотря на внутренние вопли, что лучше было бы ей остаться в Эвиссе, она ни за что не уступила бы свое место сопернице, потому что любила мужа, хотела быть с ним и принадлежать ему, хотя бы даже ценой «мучений». Значит, по сути, она соглашалась на такую цену – и в то же время не хотела ее платить…
После разговора с Феофилом она несколько дней раздумывала над его словами, пытаясь найти какое-нибудь достойное возражение, но безуспешно. Она вновь и вновь перебирала высказанные мужем доводы и, наконец, однажды вечером, когда император пришел к ней в спальню, с вызовом посмотрела на него и спросила:
– Что, дорогой, опять пришел приносить жертвы Афродите?
– Да, дорогая, – в тон ей ответил Феофил, снимая плащ и вешая его на крючок у двери. – Боги жаждут жертвоприношений, к счастью, пока не кровавых.
– Вот странно, – голос Феодоры зазвучал насмешливо, – что ты, такой умный, любитель философии, соглашаешься на такое неаскетичное времяпровождение! Ведь ты же считаешь любовь неблагочестивым занятием?
– Да, такую любовь, какая связывает нас с тобой, Феодора, – Феофил подошел и, глядя ей в глаза, провел кончиками пальцев по ее шее от уха до ключицы. – Но в ней есть немало весьма приятного, не так ли? Думаю, ты не обрадуешься, если я решу отказаться от нее в пользу более аскетичной жизни, – его руки обвились вокруг ее талии, и Феодора затрепетала, как это бывало всегда: стоило мужу прикоснуться к ней, как она почти переставала владеть собой. – Хотя, конечно, такое занятие нельзя назвать философским… Впрочем, – он усмехнулся, – иные философы знавали толк и в нем, хотя и считают это расстройством ума. А ученик, как говорится, не больше учителя…
Он умолк и поцеловал Феодору тем долгим поцелуем, который всегда лишал ее воли, а потом мягко повалил на кровать.
– Постой! – проговорила Феодора, когда он стал снимать с нее тунику. – Какие философы? Какого учителя?.. Ты что, имеешь в виду Иоанна?!
– Именно, – ответил Феофил, раздеваясь сам. – Ты, кстати, можешь поговорить с ним о том, каким образом можно совмещать философию и нефилософские занятия, не оставляя при этом дела спасения души, – в его голосе послышались саркастические нотки. – А с меня что взять? Я далеко не так благочестив, как монахи! Роскошествую, «питаюсь пространно», плоть воюет на дух, а дух слаб и не в силах противиться… Так что, дорогая, приходится пока угождать и Афродите, – он заключил жену в объятия, и Феодора забыла о своих вопросах.
Но совет поговорить с Грамматиком о совмещении философии и любви она не забыла, хотя он показался ей довольно неожиданным. «Что может этот аскет понимать в любовных делах? – думала она. – Да еще в том, как совмещать их с философией? На что это намекал Феофил?.. Может, он просто решил подшутить надо мной?..» Феодоре казалось весьма странным и даже неприличным заводить с игуменом подобный разговор, однако к ней пришла другая мысль: Иоанн беседовал со всеми девицами, бывшими на смотринах, – интересно, что же он подумал о них? Кого этот философ счел более подходящей парой для будущего императора? Никого или… тоже ту, как и сам Феофил?..
Феодора редко общалась с Сергие-Вакховым игуменом и в глубине души побаивалась его. Он всегда был с ней почтителен, но она ощущала, что вокруг него словно очерчен некий невидимый круг, и за эту линию лучше не заходить… Впрочем, кажется, покойная свекровь была допущена внутрь этого круга: Феодора помнила, что Грамматик много общался с Феклой, и та находила в этих беседах, судя по всему, большое удовольствие. Юной августе, однако, не приходило в голову, что у императрицы-матери мог быть к Иоанну личный интерес: игумен не блистал красотой и в глазах Феодоры не обладал обаянием, а его холодность, ощущавшаяся за дежурной почтительностью, отталкивала ее. Правда, в последние годы Грамматик уже не производил такого впечатления, как поначалу: Феодора по-прежнему считала его слишком гордым, но не могла не заметить, что от него уже не веяло той презрительной надменностью, которая чувствовалась в нем в первые два-три года жизни юной августы во дворце, – теперь было всё же не так страшно поговорить с ним, и она решилась. Спустя несколько дней, как бы случайно оказавшись в том дворцовом переходе, которым игумен обычно уходил после занятий с Марией или Еленой, и столкнувшись с Иоанном, она задержала его и сказала, что хотела бы с ним побеседовать. Грамматик остро взглянул на нее и, слегка поклонившись, сказал, что он «всегда к услугам августейшей государыни». Они поднялись на второй этаж портика и там, облокотившись на перила и глядя на террасу с фонтаном, разбитую перед переходом Сорока мучеников, Феодора, немного помолчав, сказала:
– Может быть, тебе мой вопрос покажется неожиданным, но мне нужно кое-что выяснить для понимания… некоторых вещей, и потому приходится обращаться к прошлому… Ты помнишь, отец игумен, как ты беседовал с девушками накануне выбора невесты Феофилу?
– Да, августейшая.
– Потом, когда мы уже ожидали в Золотом триклине перед смотринами, некоторые девицы говорили, будто о результатах тех бесед было доложено жениху и его родителям, но одна девушка… забыла, как ее звали… Она сказала, что это не так, поскольку ты сам заверил ее, что на Феофила никто не будет влиять, и выбор невест будет непредвзятым. Это правда?
– Да, государыня. Я действительно сказал об этом госпоже Софии, ее звали так.
Иоанн казалось, нисколько не удивился тому, что молодая императрица решила поговорить с ним на такую тему.
– Точно, София, – кивнула она. – Хотя какая разница… Значит, Феофилу ничего заранее не сообщали, кто что читал и о чем говорил с тобой?
– Нет. Думаю, он и сам не пожелал бы этого.
– Вот как!.. Но ты, господин Иоанн, верно, ожидал, что выбор… я имею в виду первый выбор Феофила… будет именно таков, каким он был?
– Почему я должен был этого ожидать, августейшая?
– Ну, как же? Ведь ты наверняка знал, кто из двенадцати… всех умнее?
Игумен бросил на Феодору пристальный взгляд.
– Я-то знал. Но государь Феофил – нет.
– Не знал, а всё равно выбрал так, будто знал! – пробормотала Феодора. – Но ты, – она в упор взглянула на Грамматика, – конечно, был за первый выбор?
– Не могу сказать, что я был за какой-то определенный выбор. Конечно, первый представлялся мне более подходящим…
– То есть, – перебила его императрица, – по-твоему, она ему больше подошла бы, чем я?
– По-видимому, да.
– Ты не боишься говорить правду! – усмехнулась Феодора.
– Но ведь ты, государыня, хочешь услышать именно правду, не так ли? – по губам игумена пробежала улыбка.
«Это как посмотреть, – подумала императрица. – Хочу услышать правду, но… предпочла бы ее не слышать…» – а вслух сказала:
– Почему же ты тогда не был за определенный выбор, например, за первый?
– Мои предпочтения в этой области, августейшая, всё равно не имели в то время значения, да и сейчас его не имеют, – ответил Иоанн несколько холодно. – Ведь не я избирал невесту государю Феофилу, а он сам. Вкусы его относительно женщин были мне в точности неизвестны. Думаю, они и ему самому тогда были неизвестны в точности, поскольку до женитьбы он вообще не интересовался женщинами. Моим делом было проследить, чтобы среди возможных невест не было малообразованных и тупоумных в своем благочестии девиц.
– О! – воскликнула Феодора. – Это интересно! Как же ты определял степень нашего тупоумия?
– Степенью начитанности и склонностью к науке вообще и к чтению мирских книг в частности. Впрочем, должен признаться, что лично я удалил бы со смотрин еще больше девиц, чем их было удалено.
– Почему же их не было удалено больше?
– Видишь ли, августейшая… Я думал, что женщина неспособна стать истинным другом, а потому, как мне представлялось, следовало избегать только, так сказать, наиболее заметных выражений того, что я считаю тупоумием.
– Ты и сейчас так думаешь?
– Мы говорим о том, что было тогда, государыня.
Феодора кинула на игумена любопытный взгляд.
– Выходит, – сказала она, – никто ничего заранее точно не знал и ничего не подсказывал Феофилу? Я имею в виду результат выбора.
– Лично я не подсказывал ничего. За остальных не поручусь. В любом случае было ясно, что в деле выбора должно сыграть роль нечто, действующее помимо соображений рассудка.
– Что же именно?
– Что? – Грамматик слегка пожал плечами. – Любовь.
– То есть «расстройство ума»? Говорят, ты именно так называешь ее?
– Да. Ведь если мы говорим о чем-то, действующем помимо рассудка, то без расстройства ума тут не обойтись.
– Вы с государем очень логично рассуждаете! – в голосе Феодоры прозвучало раздражение. – Значит, всякая любовь… всякая любовь мужчины и женщины, – она слегка покраснела, – непременно сопровождается расстройством ума и, как выражается мой августейший супруг, принесением жертв Афродите, и потому христианину, если он благочестив, следует ее всячески избегать?
– Безусловно.
– И ты сам всегда поступал именно так? – Феодора в упор взглянула на Грамматика.
Иоанн чуть приподнял бровь.
– Как бы кто ни поступал на практике, августейшая, это не отменяет теории, если она верна.
«Так он и сказал! – подумала императрица. – Глупо было и спрашивать… Но, видно, Феофил прав: у этого аскета тоже… что-то было… не сходящееся со всеми этими прекрасными теориями!»
– Так всё-таки способна женщина стать для мужчины другом, а не просто… – Феодора остановилась на мгновение, – любовницей… или не способна?
– Способна. Но для этого нужна совокупность определенных условий, которая редко встречается в жизни и во многом зависит от прихоти судьбы. Заранее предугадать такие отношения и тем более взять их силой человек не может.
– «Взять их силой»… Феофил недавно сказал мне, что бывает, мол, некое «созвучие душ», а оно дар и силой не берется…
– Да, «созвучие душ» – подходящее выражение, – сказал игумен и умолк, хотя Феодора ждала, что он продолжит.
– Хотела бы я знать, – проговорила она с досадой, – на каком основании эта самая судьба одним посылает такие условия для «созвучия душ», а другим не посылает!
Иоанн посмотрел на императрицу так остро, что она вздрогнула: ей почудилось, что в этот миг Грамматик видел ее насквозь, вместе со всеми ее помыслами, вожделениями, сомнениями и обидами…
– Я могу высказать только собственное мнение об этом, августейшая, которое, разумеется, не притязает на совершенную истину. Знаешь ли ты, государыня, такую поговорку: «Сбудется, если кто пожелает»? У меня есть подозрение, что судьба, в конечном итоге, посылает каждому именно то, к чему он сознательно, а иногда и бессознательно, но сильнее всего стремится. Ведь есть разница, когда человек желает некоторой вещи изначально, или когда он начинает желать ее лишь после того, как поймет, что этой вещи у него нет, но она гораздо лучше, нежели то, что он имеет.
Феодора снова вздрогнула.
– То есть… ты хочешь сказать…
– Я хочу сказать, – игумен чуть заметно улыбнулся, – что многие женщины изначально хотят мужчину как такового, хотят того, что сопряжено с плотскими усладами, хотят, чтобы мужчина угождал им, защищал их, заботился о них. К такой страсти всегда примешивается и тщеславие: женщина хочет через своего мужа возвыситься в глазах других, если он, скажем, красив и мужествен, или обладает высоким положением и тому подобное. Надо заметить, что такое же поведение свойственно животным. Но очень мало встречается таких женщин, которые стремятся найти в мужчине прежде всего друга и более удовлетворения «похоти плоти, похоти очей и гордости житейской» ценят внутреннюю красоту, внутреннюю близость и сродство душ. Многие, конечно, могут начать это ценить, но только тогда, когда поймут, что лишены этого и лишение доставляет им страдание. Удивительно ли, что такая близость при распределении жизненных даров обходит их стороной? Ведь это дар столь же драгоценный, сколь редко встречающийся.
Феодора слушала Иоанна, чуть закусив губу, и сознавала, что он очень точно описал ее положение: действительно, не владели ли ею тщеславие и плотская похоть, когда она мечтала о муже-«Гекторе», и не отмахивалась ли она от Варды, когда брат говорил ей, в сущности, о необходимости той самой внутренней близости с будущим мужем, которой она теперь так жаждет? Тогда ей думалось, что всё должно сложиться хорошо как бы «само собой», а сейчас…
– Так что же, это рок? – спросила она. – Ничего нельзя исправить?
– Это зависит от привходящих обстоятельств, государыня. Если человек изменит свою жизнь, свои занятия, привычки и интересы, тогда внутренняя близость может появиться. Но это вовсе не обязательно. Конечный итог зависит еще от очень разных, порой трудноуловимых обстоятельств. Обсуждаемая нами материя, августейшая, весьма тонка.
– То есть всё равно такое внутреннее сродство есть исключительно дар судьбы… точнее, дар Божий?
– Или искушение.
– Искушение?
– Да, если смотреть с христианской точки зрения.
– Почему?
Игумен помолчал несколько мгновений, устремив вдаль отсутствующий взгляд.
– Потому что нет вещи более непреодолимой, нежели любовная страсть, замешанная не просто на влечении к телесной красоте, но на душевной и умственной близости и внутреннем сродстве. Правда, такое искушение становится даром, если человек в результате сумеет понять нечто важное. Искушения для того и попускаются людям. Кто их сумеет использовать правильно, для того они становятся даром, а кто не сумеет, тот сам будет виноват, поскольку не старался понять то, что должен был понять. В любом случае, государыня, подобные вопросы каждый должен решать сам с собой, здесь нет советников, да и быть их не может, по самой сущности явления. Ведь «никто не знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем». Как говорил святой Марк Подвижник, советы ближних бывают полезны, но для каждого нет ничего пригоднее собственного рассуждения.
Разговор с Грамматиком дал Феодоре кое-какие объяснения, много пищи для размышлений, но ясности в ее жизнь не внес. Между тем дело шло к тому, что скоро она должна была из младшей августы превратиться в первую и единственную: Михаил, очевидно, доживал последние дни, а после его смерти Евфросина удалится обратно в монастырь и вернется к прежней жизни – об этом никто не говорил, но обе императрицы прекрасно понимали, что именно таково желание молодого василевса. Феодоре так хотелось, чтобы с этой переменой произошло изменение к лучшему и в ее отношениях с мужем!.. Но, вновь и вновь перебирая в уме сказанное Феофилом и его учителем, она убеждалась, что надежды ее тщетны: игумен выразился весьма обтекаемо насчет того, что, даже изменив свою жизнь и интересы, Феодора совсем не обязательно станет мужу ближе, но сама императрица подозревала, что истинная причина того, что никакой близости не появится, состоит в том, что Феофил любит другую, – любит с той самой страстью, о которой Иоанн сказал, что нет ничего ее непреодолимее…
«Этот философ, видно, не из одних книг почерпнул свои познания о любви! Интересно, откуда же еще? – думала Феодора, стоя сентябрьским вечером на балконе дворца Вуколеон возле одной из мраморных колонн и наблюдая, как бледно-желтое солнце посылало на землю прощальные лучи, готовясь погрузиться в розовато-серые воды Пропонтиды. – Душевная близость и умственное сродство…» Внезапно августа вздрогнула: она вспомнила, как много времени когда-то проводили вместе ее свекровь и игумен… Но уже в следующий миг эта догадка показалась ей совершенно невозможной и была отброшена, тем более что Феофил, очевидно, должен был знать об истории Граматика, потому и послал Феодору «поучиться» у него, – а разве мог бы он это сделать да и вообще продолжать общаться с Иоанном, как ни в чем не бывало, если б тут была замешана его мать!.. «Но не затем ли он меня к нему послал, чтобы Иоанн еще раз объяснил мне, только более философски, что ли, то же самое – что ничего не было и не будет?..»
Холодный ветер налетал порывами, покрикивали чайки, императрица куталась в пурпурный плащ и думала, что вот-вот останется единственной богоизбранной августой, владычицей Империи ромеев, прекраснейшей из женщин, матерью порфирородного наследника, супругой блистательного василевса… Ей было двадцать пять лет, ее окружала неслыханная роскошь, десятки слуг в любой момент были готовы бежать со всех ног, чтобы исполнить ее самое ничтожное пожелание, – а императрице казалось, что во всем свете нет женщины более несчастной, чем она. Если можно было сравнить человеческую жизнь с игрой в кости, то Феодора сделала ставку на единственное желание – быть любимой тем, кого она полюбит, – и проиграла. Кости судьбы упали так, что именно этого – и только этого – не было в ее жизни, и это обесценивало всё остальное. Можно было теперь сколько угодно рассуждать о том, что это случилось с ней из-за «неправильного» понимания любви, из-за тщеславия и малого интереса к ученым занятиям, но все эти объяснения не утешали и не избавляли от страданий.
«“Собственное рассуждение”! – думала Феодора, глядя на лиловевшее море. – Как всё хорошо и как будто бы понятно, когда читаешь в книгах или слушаешь умных людей, и как всё становится непонятно, как только пробуешь приложить прочитанное и услышанное к собственной жизни! Что мне делать? Смириться с тем, что есть, ничего не требовать и не ждать более того, что есть? Феофил прав: у меня есть всё, чего только можно пожелать… “Чего тебе еще нужно?” Действительно: любовь – такая мелочь! Да еще “расстройство ума”, мешает спасению души… Пожалуй, я должна радоваться, что Господь так вразумляет меня… так помогает спасаться!..»
Она закрыла глаза и прислонилась плечом к колонне. Солнце, уже готовое окончательно скрыться в фиолетовом облаке на горизонте, вызолотило влажные полоски на щеках императрицы. Становилось холодно. «Простудиться и умереть! – мелькнула у нее мысль. – И тогда конец всем мучениям, недоумениям… Дети!.. Ничего, Феофил нашел бы им мачеху… Ее? – Феодора открыла глаза. – А ведь и правда: неизвестно, что стало с той девицей… Может, она не замужем… Хотя нет, это вряд ли, с ее-то внешностью! Ну, могла уже и овдоветь… А если и нет, императору всё позволено, может расторгнуть чужой брак, жениться… Вон, свекор вообще на монахине женился, и ничего! Что Феофилу теперь помешает? Тогда ему гордость не позволила выбрать ту, потому что она посмела возразить ему на виду у всех, а теперь ничто не будет препятствовать… Ну, нет! Этого не будет! Никогда!» Губы Феодоры сжались в тонкую линию. Если золотое яблоко и не принесло ей того, о чем она грезила в юности, то другой оно всё равно не достанется!
Императрица решительно развязала пурпурный мешочек, висевший у нее на поясе, вынула оттуда злополучный знак избрания, несколько мгновений разглядывала его, а потом подняла руку и размахнулась, что было сил. Через несколько мгновений «яблоко Афродиты», описав дугу и сверкнув в последних лучах заходящего солнца, опустилось на морское дно, и воды Пропонтиды сомкнулись над ним навсегда.
…Михаил лежал, откинувшись на гору подушек, прикрытый до пояса шерстяным одеялом. Феофил, войдя, поздоровался с отцом и сидевшей у его изголовья мачехой, приказал кувикулариям и врачу выйти, и подошел к императорскому ложу. Евфросина поднялась и бесшумно покинула комнату, Феофил сел на ее место. Император окинул сына внимательным взглядом и хрипло проговорил:
– Ну что, Феофил, пришел прощаться? Да, пора! Наши эскулапы, как и положено, выражаются туманно, – он усмехнулся, – да я-то знаю, что долго не протяну… Сегодня с утра так прихватило, думал, уж и патриарха с причастием не дождусь… Но Бог милостив, дождался и его, и тебя вот… Ну, напутствий я тебе долгих говорить не стану… Ты и сам всё лучше меня знаешь, а чего не знаешь, – он снова усмехнулся, – в книгах прочтешь, или жизнь научит. Надеюсь, ты будешь править лучше меня и, как говорится, сохранишь и преумножишь оставленное… А что плохо сделано, исправишь…
Феофил знал, что имеет в виду отец. Крит по-прежнему оставался в руках агарян, несмотря на то, что посланному туда с большим флотом Оорифе удалось освободить многие мелкие острова. Сицилийские дела тоже всё еще были не улажены: хотя присланный на Сицилию дисипат Феодот повел военные действия довольно успешно, а арабы, из-за разразившихся в их войске голода и эпидемии, значительно ослабели и удерживали только города Минео и Мазару, но… Бог знает, удастся ли до конца справится с этими варварами!..
Михаил помолчал, собираясь с силами.
– Прости меня, если можешь, – проговорил он.
Феофил вздрогнул и на несколько мгновений закрыл глаза, перед ним чередой понеслись картины прошлого. Император Лев и его сыновья… Прогулки верхом, игры, разговоры… Утро Рождества, игумен, обнимающий его, рыдающего, за плечи… Мать у его постели с темными кругами под глазами… Выбор невесты… Кассия!.. Свадьба с Феодорой, коронация… «Ты счастлив?» – вопрос, на который он не мог ответить прямо… Смерть матери… Разговор с отцом о матери и Иоанне… Евфросина… Недавний разговор с женой… И вот, скоро он станет единоличным правителем Империи… Ценой крови крестного, изуродованных друзей… и с нелюбимой женщиной рядом! Да, не во всем этом, конечно, вина отца… Отец даже поддержал его тогда, после выбора невесты… Да и много ли отец видел сыновней любви, еще прежде того, как получил царство?.. Теперь Феофил понимал, что отец вовсе не был так груб и бесчувствен, как они с матерью привыкли думать. Да, он был необразован, не умел тонко выражаться, часто бравировал своей «неотесанностью»… Но сейчас, вспоминая разные мелкие случаи, мимолетные фразы из своего детства и юности, вспыхивавшие перед его мысленным взором друг за другом, будто молнии, Феофил осознавал, что отец любил и его, и по-своему даже мать… что бы там ни было… А мать? Мать не только его не любила, но и… И ведь отец простил ее! «Мы, быть может, могли бы понять друг друга! – подумал Феофил. – Но теперь уже поздно…»
Он открыл глаза и встретил взгляд императора – страдальческий и почти угасший… Феофил провел рукой по лицу и сказал очень тихо:
– Бог да простит тебя, отец, а я тебя прощаю.
Он опустил голову, а потом опять посмотрел в глаза отцу и сказал дрогнувшим голосом:
– И ты прости меня!
Лицо умиравшего просветлело. Поморщившись – каждое движение причиняло ему боль, – он приподнялся на постели, перекрестил сына и сказал:
– Да благословит тебя Бог, да продлит Он твое царство, да приведет тебя в Царствие Свое! Хорошо, что ты… отпустил мне… Теперь можно и умереть. Прощай, сынок!
Михаил опять откинулся на подушки и закрыл глаза – силы совсем, видимо, оставили его. У Феофила предательски задрожали губы.
– Прощай, отец! – прошептал он, встал и почти бегом вышел из комнаты, опустив голову, чтобы схоларии у входа не заметили слез, блестевших в его глазах.
Часть IV. Игуменья и император
Лилия Виноградова
- Для нашей невозможнейшей любви
- Среди людей нам как бы нет пространства.
- Но видит Бог, и грешникам Своим
- Он посылает муки постоянства.
- Мы любим через тысячи «нельзя»,
- Через границы, годы и признанья.
- Ты улетишь, с собою унося
- Мое «люблю» сквозь вечное прощанье.
- Я с этим умиранием сживаюсь.
- На двух недостижимых полюсах
- Расселись черный дрозд и белый аист.
- Мы встретимся с тобой на небесах.
1. День отмщения
(Виктор Цой)
- Я ждал это время – и вот, это время пришло:
- Те, кто молчал, перестали молчать.
Император Михаил умер 2 октября восьмого индикта и был похоронен в саркофаге из зеленого фессалийского мрамора в Юстиниановой усыпальнице, рядом с Феклой. «Вот и вся жизнь! – думал Феофил, глядя, как закрывают тяжелую крышку саркофага. – Когда-нибудь и меня так же… А что потом?.. Ведь никто этого не знает! Добродетельно ты жил или не очень, совершал ли ты явно греховные поступки или, напротив, праведные, это ни о чем не говорит! Можно долго грешить, а перед смертью покаяться… Или, напротив, совершить под конец что-нибудь, что перечеркнет всё хорошее, что ты сделал… И “все правды его не вспомнятся”… Можно иметь тайную добродетель, которая спасет, даже если ты грешник… Как с тем монахом, что никого не осуждал… Или, наоборот, один тайный порок обесценит все твои добродетели… Патриарх сейчас скажет слово о том, каким хорошим императором был отец… Может, и не очень далек будет от истины. Но что в том пользы? Разве можем мы знать, как нас будут судить и за что осудят или, наоборот, оправдают?..»
После смерти Михаила при дворе царило выжидательное настроение: все гадали, что нового принесет единоличное правление молодого императора. На то, что обойдется без перемен, никто не надеялся – слишком разными были характеры и вкусы отца и сына. Однако в первое время после смерти отца Феофил ничего особенного не предпринимал, только выделил большую сумму денег для раздачи нищим, а также в больницы, богадельни и странноприимницы на помин души покойного.
Спустя неделю после похорон Феофил приказал, чтобы на монетном дворе готовились к чеканке новых монет, и встретился с художником, который рисовал изображения для печатей. Когда ему доложили, что готов образец новой номисмы, император, в сопровождении эпарха и нескольких синклитиков, отправился на монетный двор.
– Вот, государь, – поклонившись, сказал Артемий, начальник мастерской. – Такая она вышла.
Он протянул императору блюдо из кроваво-красной яшмы, где лежала только что отчеканенная пробная номисма. Феофил взял монету, подошел к окну и стал внимательно рассматривать свой портрет, крест на обороте, надписи. Обернулся к эпарху и кивнул ему, тот подошел.
– Как тебе? – спросил император. – Нравится?
– По-моему, прекрасно, августейший! – эпарх всмотрелся в монету. – Да, сходство схвачено удивительно!
– Думаешь? – Феофил слегка улыбнулся. – Мне кажется, такой стиль не позволяет говорить об истинном сходстве.
Ромейские монеты, действительно, уже много веков назад утратили тонкость выделки и настоящее портретное сходство изображений, свойственные чеканке времен расцвета Древнего Рима. Конечно, изображения разных императоров отличались друг от друга, но не настолько, чтобы можно было всерьез говорить об «удивительном» сходстве изображения с первообразом. Однако Феофил видел, что в портрете на новой монете, действительно схвачено нечто, позволявшее говорить о сходстве, и ему было интересно, как эпарх определит, что же это такое.
– Истинное искусство, державный государь, – сказал эпарх, – состоит в умении изобразить тело так, чтобы сквозь него видна была душа! Передать телесное сходство могут многие, а вот внутренний, так сказать, портрет…
– Полагаешь, здесь передан мой внутренний портрет? – и, не дожидаясь ответа, император обратился к Артемию. – А ты что думаешь?
– О чем, трижды августейший?
– Да вот, господин эпарх говорит, что главное в искусстве – передать не внешнее сходство, а внутреннее. Как по-твоему, передано тут внутреннее сходство?
– Да, государь! Еще когда Филарет сделал рисунок, многие говорили, что ему удалось ухватить…
– Что ж… – Феофил продолжал вертеть в пальцах монету, рассматривая ее. – Будь по-вашему, – он взглянул на Артемия и улыбнулся. – Мне она тоже понравилась.
Белокурый бородач так и просиял.
– Значит, начинаем чеканку, августейший?
– Начинаем! А господину Филарету я жалую литру золота. Истинное искусство надо поощрять! Не правда ли? – обернулся он к эпарху.
– Да, государь, да благословит небо твою премудрость и щедроты!
Феофил опять вгляделся в свой портрет на монете. Или Филарет и впрямь душеведец, или… Император на мгновение чуть нахмурился. Или он так и не научился скрывать?.. Или просто именно это так сильно, что трудно скрыть? Хотя и не все замечают, конечно… Но Филарет заметил. Император вспомнил, как беседовал с ним в саду у пруда… Да и о чем беседовал? В общем-то ни о чем… Но мастер сумел уловить тайную печаль, которая и сейчас опять сжимала Феофилу сердце.
«А ведь она увидит! – подумал он. – Деньгами пользуются все…»
Он подкинул в воздух монету, поймал, сжал в кулаке и, попрощавшись с Артемием, вышел из мастерской.
На сороковой день по кончине отца император утром объявил, что в воскресенье, на память апостола Филиппа, состоятся бега на Ипподроме, чтобы повеселить народ как после происшедшего печального события, так и перед наступающим Рождественским постом. Над большими вратами Ипподрома водрузили знамя, возвещавшее грядущие скачки, началась подготовка лошадей, и Город пришел в движение: обсуждали возниц и коней, делали ставки, гадали, что нового покажут мимы между забегами… Вечером того же дня император послал сообщить Евфросине, что хотел бы поговорить с ней и просит зайти к нему в приемную. Вдова пришла, одетая в простые темно-синие тунику и мафорий, которые не снимала после смерти мужа, и Феофил, пригласив ее сесть, прошелся по комнате и, остановившись перед мачехой, сказал: