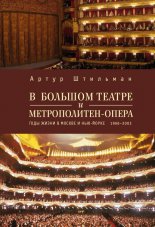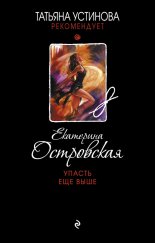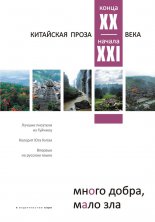Кассия Сенина Татьяна

– Мама! – он сжал ее руку.
– Видно, так Богу угодно… Когда я умру, молись за меня…
Он опять сжал ее пальцы, губы его дрогнули; он хотел что-нибудь сказать, но не находил слов. Они помолчали.
– А помнишь, – тихо сказала Фекла, – когда ты был маленький, ты раз спросил у меня, как стать императором?
Феофил ненадолго задумался.
– Да… помню.
– Удивительно, правда? Вот как сбываются детские мечты…
– Да, – Феофил помолчал. – И мечты, и пророчества, всё сбылось… Только непонятно, что теперь со всем этим делать!
Мечты! Все его мечты, как ни странно, сбылись. Стать императором, судить по правде… Воевать с врагами… «Найти свою половину»… Но счастья это ему не принесло!
– Бывает, мама, – сказал он тихо, – что одна мечта, сбывшаяся не совсем так, как думалось, сводит на нет всё прочее!
Лицо его потемнело. Фекла протянула руку и погладила сына по колену.
– Не сводит, Феофил. Да, не всё получается так, как мы хотим. Но, должно быть, так нужно для нас. Ты говоришь: что делать? Жить. Что же еще можно делать? Жить и стараться понять, зачем всё получилось именно так.
Он взглянул на мать.
– Да разве это всегда можно понять?! Послушай, мама… Я ведь знаю, что ты никогда не была в восторге от твоего замужества… И вот, ты понимаешь, зачем тебе было послано такое испытание?
– Конечно, – она улыбнулась. – Ради того, чтобы появился ты, мой мальчик. Я старалась вырастить тебя таким, чтобы я могла гордиться тобой. И ты таким вырос! Даже более того… Не только я, любая мать могла бы гордиться таким сыном! А испытание… что ж, оно было, но было и утешение. Сейчас, когда я вспоминаю бывшее, то помню только хорошее, оно такое ясное! А что было горького – как туман застлал, словно и не было этого… Но греховного много… – она помолчала. – Хорошо, что Господь еще дал мне время помолиться перед смертью, не внезапно забрал… Теперь я лишь благодарю Бога за всё… и за тебя – в первую очередь! И я бы хотела, чтобы ты в конце жизни мог так же быть благодарным Богу за всё – и за то, что сейчас кажется тебе горьким. И чтобы ты уже не задавал никаких вопросов, «зачем» и «за что»… Помнишь, в Евангелии Господь говорит апостолам: «И в тот день вы не спросите Меня ни о чем»? Мне кажется, здесь как раз об этом… Но я верю, Феофил, что ты еще обретешь свое счастье!
«Земная жизнь – пыль! – думал Феофил, уходя от матери. – Земное счастье – блажь… Точнее, если верить философам и святым, оно – в добродетели… Значит, я неспособен к такому счастью, – он горько усмехнулся. – Мама!.. У нее был я… Она может, умирая, гордиться мною… Чем смогу гордиться я, когда буду умирать? Если я не могу быть добродетельным, то, по крайней мере, надо позаботиться о том, что называют земной славой!.. Мудрецы говорят, что чем добродетельней человек, тем счастливее, а я, чем больше стараюсь вести себя добродетельно, тем несчастней становлюсь! Должно быть, потому, что стараюсь только внешне, а внутренне не в силах… И земного счастья лишен, и к высшему неспособен! Если это наказание, то за что? А если испытание… то ради чего?!..»
В воскресенье оба императора после литургии пришли проведать Феклу. Михаил рассказал о том, как прошла служба и как Феофил сам руководил хором и пел так, что даже самые болтливые из патрикиев смолкли и слушали с восхищением. Императрица смотрела на сына с улыбкой, и Феофил тоже улыбался ей в ответ, хотя его сердце терзалось скорбью. Наконец, отец с сыном поднялись, и молодой император, поцеловав мать в щеку, пошел к двери. Михаил последовал за ним, но уже у самого выхода вдруг остановился, вернулся и, посмотрев на жену пронизывающим взором, тихо спросил:
– Ну что, игумена-то позвать?
Фекла вздрогнула, и румянец выступил на ее бледных щеках. Она опустила ресницы, помолчала и ответила еле слышно:
– Если возможно.
– Разве для ромейской августы есть что-то невозможное? – сказал Михаил с чуть заметной усмешкой.
«Что ж, – подумала она, глядя вслед мужу, – я не просила, он сам предложил… Воля Божия!»
У Грамматика мучительной болью сжалось сердце, когда, подойдя к ложу императрицы, он увидел, как Фекла бледна – почти до прозрачности. Он понял, что она, скорее всего, не доживет и до следующего дня.
– Здравствуй, Иоанн, – тихо сказала она, взглядом приказала дежурившей у нее в тот день Афанасии отойти к двери, и продолжала еще тише. – Я очень хотела тебя видеть, но не звала… Думала, что хотя бы теперь… нужно покончить с этим, – она убрала руки под одеяло.
– Я так и понял, поэтому не пытался навестить.
– Я знаю, поэтому не ждала тебя. Просфору съела, – она улыбнулась, – и думала, что вот и прощание. Но сегодня Михаил сам предложил позвать тебя… и я решила, что значит – воля Божия…
– Государь великодушен до конца!
– Да… Он всё-таки оказался более… чутким… чем я думала всю жизнь… Иоанн!
– Да?
– Я хочу исповедаться патриарху. Я должна сказать про то, что было… конечно, без имен, но ведь он наверняка догадается…
– Мне это не повредит, не тревожься об этом.
Афанасия кинула на них взгляд и вышла из спальни, оставив августу наедине с игуменом. Когда за кувикуларией опустилась завеса, Фекла улыбнулась.
– Иоанн! Благодарю тебя за всё, что ты мне дал! Я была так счастлива! За эти три года я прожила жизнь… несравнимо лучшую, чем всё, что у меня было раньше! Пока я тут лежала эти дни, я молилась, каялась, но… Всё равно то, что было у нас с тобой, хоть и грех, я считаю даром судьбы, и я за этот дар тоже благодарила Бога… хотя это, наверное, очень дерзко и совсем неправильно. Но ты теперь молись за меня, чтобы Господь простил мне… Всё равно ты монах… и будешь жить, как прежде… Всё-таки на мне грех, что я… соблазнила тебя… Прости! Иногда мне думается, что ты пожалел меня, дав мне всё это… то, что другим не досталось.
– Я хотел посмотреть, смогу ли хоть одну женщину сделать счастливой. Кажется, смог, – нежная улыбка тронула его губы и отозвалась сиянием в ее глазах. – Потому что ты – это ты. То, что тебе досталось, и могло достаться только тебе. И мне тоже есть за что быть тебе благодарным. Но прости меня! Я повинен в этом соблазне больше тебя… Конечно, я буду молиться.
Они немного помолчали, глядя друг на друга. Наконец, губы императрицы дрогнули, и она чуть слышно произнесла:
– Ну, всё. Прощай, мой философ! Или… до встречи – там?
Игумен поднялся, почти такой же бледный, как она.
– До встречи, моя августа!
Когда Иоанн ушел, Фекла велела сообщить патриарху, что она желает исповедаться, и Антоний пришел с Дарами. Императрица сомневалась, станет ли он ее причащать, узнав о прелюбодеянии, но патриарх, выслушав ее исповедь, ничего не сказал, благословил августу и причастил ее. Фекла приняла Святые Тайны и, испив теплого вина, растворенного водой, вновь откинулась на подушки; в глазах ее стояли слезы. Она взглянула на патриарха и тихо проговорила:
– Благодарю, владыка. Я еще… хочу сказать тебе несколько слов.
Патриарх кивнул архидиакону и иподиаконам, чтобы те отошли. Антоний приблизился к изголовью умирающей.
– Думаю, я сегодня отойду, святейший… Молись за меня, чтоб Господь избавил мою душу от вечных мучений!
– Господь да помилует тебя, чадо, – так же тихо ответил Антоний.
– У меня к тебе последняя просьба, владыка.
– Я исполню всё, что в моих силах, государыня.
– Прошу тебя, не наказывай никого… за то, что я сделала.
Несколько мгновений они смотрели в глаза друг другу.
– Хорошо, августейшая, – сказал патриарх.
– Обещаешь, владыка?
– Обещаю.
Император пришел к жене после вечерни. В покоях стоял полумрак, уютно мерцали светильники. Сидевшая в изножии постели императрицы Афанасия вскочила при виде Михаила и с поклоном отошла к дверям. Симеон, придворный врач, шепнул василевсу на ухо, что августа может преставиться в любой момент. Михаил подошел и сел у изголовья. Умирающая открыла глаза.
– Всё в порядке? – спросил император.
– Да, – ответила Фекла еле слышно, посмотрела на мужа долгим взглядом и прошептала: – Прости меня!
– Глупости! – сказал Михаил. – Не бери в голову.
Он взял ее за руку, тихонько пожал, наклонился и поцеловал императрицу в лоб. Фекла закрыла глаза и глубоко вздохнула. Император выпрямился, взглянул на жену, вдруг быстро поднялся и повернулся к врачу:
– Симеон!
Тот подошел, посмотрел в лицо августы, склонился, пощупал пульс, перекрестился и тихо проговорил:
– Августейшая государыня скончалась.
Наутро тело почившей после заупокойной литии во дворце, было на золотом одре торжественно перенесено в храм Святых Апостолов для отпевания. По его завершении, магистр оффиций возгласил:
– Войди, царица, зовет тебя Царь царствующих и Господь господствующих! – он повторил это трижды и прибавил: – Отложи венец от главы твоей!
Препозит приблизился к одру, снял с головы усопшей диадему, а вместе нее возложил порфировую повязку, и тело с пением «Святый Боже» положили в саркофаг из белого мрамора в Юстиниановой усыпальнице.
Перед поминальным обедом Феофил, найдя среди приглашенных клириков Сергие-Вакхова игумена, сказал ему, что их уроки отменяются на неделю, и про себя поразился, как Грамматик побледнел и осунулся. У Феофила впервые мелькнула мысль, что мать и учителя связывало, что-то более глубокое, чем просто дружеские отношения между любознательной августой и ученым игуменом. Впрочем, относительно матери он давно подозревал, что она питает к Грамматику определенное пристрастие, но теперь подумал, что, возможно, философ тоже относился к императрице не совершенно философски… «Видно, не бывает на свете чистой философии! Во всех сидит одна и та же персть, в одних больше, в других меньше… но никто не избавлен!..» Наутро Феофил, встретив в одном из переходов дворца эконома Сергие-Вакхова монастыря, поинтересовался, чем занят Иоанн.
– Отец игумен после литургии уехал на Босфор к брату, – ответил монах. – Устал, видно: бледный, как мертвец… Сказать честно, я его таким никогда еще не видел!
«А мне куда уехать?» – думал Феофил, через четверть часа садясь на коня. В сопровождении кандидатов он выехал через Скилы на Ипподром, а оттуда проследовал к Книжному портику. Посмотрев там книги и немного поговорив с торговцами, он вышел, раздал милостыню собравшимся у портика нищим и беднякам, и хотел ехать дальше, когда ему в ноги бросилась плачущая женщина. Один из кандидатов поднял ее и спросил, чего она хочет. Захлебываясь слезами, она рассказала, что ее муж, долгое время проработав со старшим сыном в помощниках у одного пошивщика обуви, решил открыть собственную мастерскую и для этого ссудил большую сумму денег, но спустя полгода скоропостижно умер, не успев отдать всего долга, и теперь заимодавцы требовали денег, угрожая отобрать мастерскую. Если б они согласились подождать, сын, уже ставший хорошим мастером, смог бы отдать долг сполна, но они не хотели… Император сделал знак рукой кандидату, у которого на поясе висел мешок с милиарисиями. Тот подошел, и Феофил взял три горсти серебряных монет, положил в развернутый тут же кандидатом льняной плат, собственноручно завязал и протянул узелок вдовице. Она упала ему в ноги, величая «благодетелем и спасителем», эти крики тут же были подхвачены собравшимся вокруг народом.
«Куда же от них уедешь? – грустно подумал Феофил. – Раз уж такой крест возложил Бог, надо нести! Впрочем, чем я недоволен? – усмехнулся он про себя, вновь вскакивая на коня. – У меня есть всё, чего только может пожелать человек на земле… всё, кроме одного! Стагирит был прав: “Не получать того, к чему стремишься, – всё равно что ничего не получать”… Только перестану ли я когда-нибудь стремиться к тому, чего не получил? Разве что сделаюсь самодостаточным, по тому же Аристотелю… Добродетельным и самодостаточным… Только ведь и они нуждаются в друзьях! В друзьях, да, но не в женах… – он стиснул зубы. – Когда же это кончится?!..»
«Вот и кончился… опыт», – думал Грамматик, поднимаясь по главной лестнице на второй этаж Арсавирова особняка.
– Один приехал? – спросил брат, оглядывая игумена, когда они вдвоем очутились на террасе и Иоанн сразу же опустился в любимое плетеное кресло. – Я всё ждал, что ты приедешь или хоть напишешь, убираться у тебя там или нет… Да какой ты бледный! Ты не болел? – Грамматик молча качнул головой. – Что, рассорился… с твоей женщиной?
– Нет. Мою женщину вчера похоронили в храме Апостолов.
– Что?!.. – Арсавир на несколько мгновений потерял дар речи; Иоанн смотрел мимо него на расстилавшийся впереди Босфор. – Ты… шутишь, должно быть?
– Ничуть.
Арсавир отошел к периллам террасы, облокотился и долго стоял, следя за чайками. Было довольно прохладно, но ни один из братьев не замечал этого. Наконец, старший с усмешкой повернулся к младшему.
– Да, это в твоем духе: если что брать, то уж не мелочиться! Если власть, то такая, чтобы заставить последовать за собой целую Империю… Если женщина, то…
– Давай не будем об этом, – Иоанн слегка нахмурился. – Дело в другом, но объяснять я ничего не намерен.
Он умолк и закрыл глаза. Арсавир пристально взглянул на него и внезапно, подойдя, присел на корточки рядом с креслом и положил руку на плечо Грамматику.
– Прости, брат!
– Пустяки, – сказал Иоанн, не открывая глаз. – Пройдет. Лучше прикажи принести вина.
Вернувшись от Арсавира два дня спустя, игумен, не заходя в монастырь, отправился к патриарху и передал через келейника просьбу принять его по личному делу. Когда он вошел, Антоний окинул его внимательным взглядом и спросил:
– Что, отче, пришел каяться?
– Да, пора.
– А ты знаешь, – сказал патриарх, надевая омофор, – что горячо любимые нами иконопоклонники распустили слух, будто ты устраиваешь на Босфоре оргии?
Иоанн приподнял бровь.
– Еретик, умею читать мысли, ищу философский камень, волхвую да еще и оргии устраиваю… Завидная слава!
– Ты всё шутишь, а ведь тебе бы следовало быть поосторожнее… Тебя видели в лодке, якобы вместе с монашкой, и тут, и там, когда вы подплывали, видимо. Вот и пошел слух, что ты водишь к себе красивых монахинь и устраиваешь оргии…
– Что-то от оргий в этом было, – задумчиво сказал Грамматик.
– Всё шутишь! – покачал головой патриарх.
– Владыка, меня еще твой предшественник пытался убедить, что в моем положении надо вести себя осторожнее, и ему я ответил тогда то же, что сейчас скажу тебе: я никогда не просил ставить меня в такое положение и не собираюсь ради него отказываться от тех опытов, которые мне интересны. А моя репутация в известных кругах всё равно уже так испорчена, что заботиться о ее улучшении, тем более в этих кругах, было бы весьма глупо.
– Разумеется, хотя «никого нельзя заставить отчитываться в бездействии», глупо было бы подражать Гальбе… Но знаешь, иногда кажется, что ты нарочно делаешь то или иное, чтобы лишиться твоего положения.
– Нет, святейший. Но теперь я действительно должен его лишиться.
– Посмотрим… Что ж, помолимся!
Когда исповедь окончилась, они какое-то время молчали.
– Вот что я скажу тебе, отец игумен, – наконец, заговорил патриарх, – епитимию ты, безусловно, заслужил, но я предоставляю тебе назначить ее самому.
– Как, всё-таки «отец игумен»? – с усмешкой спросил Иоанн.
– А чего ты ждал? – Антоний снял омофор. – Если я тебя смещу, твои монахи меня съедят с потрохами! Затевать такое было бы неразумно. Не суд же над тобой прикажешь устраивать? Оба государя этому отнюдь не обрадовались бы. И толку от этого всё равно никакого не будет, только шум, соблазн, да еще иконопоклонникам повод для торжества. Ты знал, что делал, так теперь сам и наказывай себя! Но сан и всё прочее я за тобой оставляю.
– Думаешь, повторится патериковая история про елеонского монаха, который требовал у правителя покарать его за грехи, а тот отказался?
– Ха!.. Ну, а почему бы и нет, собственно? Но надеюсь, ты не станешь заковывать себя в железо и говорить всем, что тебя заковал патриарх?
– О, нет! – ответил игумен с коротким смешком. – Есть и другие способы покарать себя.
– Вот и ладно… И потом, сам посуди: наказание должно быть неприятным для наказуемого, а если б я устроил над тобой суд с лишением сана, это принесло бы гораздо больше неприятностей нам, чем тебе.
Грамматик усмехнулся. Они с патриархом хорошо понимали друг друга, и немудрено: сын священника, бывшего некогда сапожником и рукоположенного в пресвитера за свою благочестивую жизнь, Антоний, в миру звавшийся Константином, благодаря покровительству кое-кого из богатых прихожан, очень уважавших его отца, получил прекрасное образование и в молодости давал детям частные уроки грамматики, читал в Сфоракии лекции по праву и, вероятно, занимался бы этим до сих пор, если б не шум, поднятый родителями одного из его учеников: тот обвинил учителя в развращении его сестры. Существовали две версии причин этого скандала: не то там действительно имела место любовная история, не то девица пыталась совратить Константина, но, не преуспев, со злости поступила, как некогда египтянка с Иосифом Прекрасным. Сам учитель не любил вспоминать тот случай, вынудивший его принять постриг с именем Антоний в так называемом Митрополичьем монастыре, который он и возглавил через несколько лет, после смерти настоятеля, по общему желанию братии. Новый игумен любил пошутить и часто по разным случаям монастырской жизни цитировал античные комедии и трагедии; братия души в нем не чаяли, зато монахи из других обителей нередко порицали его и называли «баснословом». Впрочем, это нимало не заботило Антония и нисколько не помешало его последующему назначению на Силейскую кафедру. Со времени работы в группе «антикенсоров» при Льве Армянине у Антония с Иоанном завязалось что-то вроде дружбы: нельзя сказать, чтобы они пускались друг с другом в откровенности, но при случае любили поговорить, пошутить и пофилософствовать.
– Посему, – продолжал патриарх, – изобретай себе неприятности сам, отче. Тем более, что я обещал не карать тебя в связи с этой историей.
– Обещал? Кому?
– Ей.
– Вот как!..
Опять на некоторое время повисла тишина.
– По-твоему, я слишком снисходителен? – спросил патриарх с усмешкой.
– Возможно, что не слишком. Хотя большинство не согласилось бы с этим.
– Большинство!.. Большинство всегда интересуется сплетнями и никогда – истиной.
– Вот именно, владыка. Как говорил Аврелий, «если вообще есть что-нибудь в жизни, что влекло бы к ней и в ней удерживало, то лишь одно: возможность жить в общении с людьми, усвоившими те же основоположения, что и мы». А таких людей мало, и всегда жаль упускать возможность подобного общения. Иногда ради этого приходится несколько отступать от добродетели, что поделать! В этом, конечно, есть некое противоречие с философской точки зрения… Но у каждого свои слабости, в том числе у философов, – Иоанн слегка улыбнулся, хотя понимал, что вряд ли обманет этим патриарха: впервые в жизни он не смог потопить свою боль в Босфоре и, даже не глядя в зеркало, мог сказать, что вид у него неважный. – Впрочем, Аристипп считал, что нужно не столько воздерживаться от наслаждений, сколько «властвовать над ними, не подчиняясь им». А я думаю, главное, чтобы не притуплялись умственные способности. Если ум на месте, всё прочее поправимо.
– Поразительный ты всё-таки человек! – патриарх пристально взглянул на игумена. – Но ты что-то бледен, почтеннейший, – Антоний подошел к шкафчику из черного дерева и достал с верхней полки стеклянный кувшин с вином и два кубка. – Выпьешь?
– Пожалуй.
…Как только прошли сорок дней после смерти императрицы, Михаил, внешне довольно успешно изображавший должную скорбь – впрочем, ему по-своему было жаль покойную, однако не слишком, – призвал к себе великого папию и сказал ему наедине:
– Вот что, брат, я хочу жениться. О, только не надо так таращить глаза, дорогой мой! Таково мое желание – полагаю, этого объяснения достаточно. Молчи и слушай внимательно. Ты ведь знаешь, я люблю представления, и теперь на очереди еще одно. Побудить меня к женитьбе должен Синклит. Я еще поговорю об этом с препозитом и логофетом, но первому говорю тебе. Господа синклитики должны будут в ближайшее время всячески склонять меня к новой женитьбе. Естественно, я буду отказываться, уверяя, что свято и незабвенно чту память моей покойной супруги. Но господа синклитики будут настаивать, говоря примерно так: «Не подобает августейшему императору жить без жены и оставлять наших жен без госпожи и императрицы!» Тогда я, как бы нехотя, соглашусь. Впрочем, – он хитровато улыбнулся, – я не стану долго противиться, к середине декабря уступлю. А там и до свадьбы недалеко будет! Всё понял, брат?
– Понял, государь, – проговорил папия, слушавший императора с возрастающим изумлением. – Э-э… А что, невеста…
– Невеста уже выбрана. Но кто она, я объявлю, когда уступлю уговорам Синклита.
Уговоры эти начались спустя неделю и продолжались до 18 декабря. Синклитики припадали перед Михаилом и то просили, то увещевали, а то и настаивали на том, что императору необходимо «вновь обязать себя законом супружества, чтобы сохранялось благочиние в ромейском государстве, и чтобы служительницы его величества не оставались без августейшей госпожи». При этом, однако, почти у всех в глазах сквозило недоумение: если само по себе желание вторично жениться еще можно было понять, то никто не понимал, почему император так спешит с этим делом. Наконец, в воскресенье Михаил объявил собравшимся на прием чинам:
– Обдумав всесторонне ваши просьбы и настояния, я склоняюсь к тому, чтобы уступить вашим увещаниям. Но, поразмыслив хорошенько, я рассудил, что мой новый брак должен быть полезным не только тем, что доставит удовольствие вашим почтенным супругам, вновь даровав им госпожу и августу, но и тем, что укрепит наше государство и будет способствовать миру и порядку в нем. Все вы знаете, за кого выдавал себя проклятый мятежник Фома, и как успешно своей богомерзкой выдумкой он поначалу соблазнял простой народ. Желая раз и навсегда прекратить саму возможность для подобных толков, я намерен породниться с той, в ком действительно течет кровь августейшего Константина, а именно – с его дочерью Евфросиной, которая в настоящее время проживает в Свято-Троицком монастыре, что у Силиврийских ворот.
В тот же день в обитель были отправлены двое патрикиев. Они сообщили Евфросине о решении императора и Синклита, и сказали, что на следующее утро за ней будет прислана повозка, чтобы доставить ее в Священный дворец. Император находился у себя в покоях, отдыхая после литургии, когда ему сообщили о том, что невеста привезена и ожидает в приемной.
– Приведите ее! – велел Михаил, вставая с кресла.
Когда препозит ввел монахиню, она поклонилась и, поднявшись, продолжала стоять, не поднимая взора, очень бледная. Михаил заметил темные круги у нее под глазами и подумал, что она, должно быть, не спала в эту ночь. Император велел препозиту и страже выйти, запер за ними дверь и подошел к Евфросине. Она по-прежнему смотрела в пол, и в ней ощущалось сдерживаемое напряжение. А Михаил, увидев ее, был охвачен столь сильным волнением, что приготовленные речи вылетели у него из головы, и он совершенно потерялся.
– Ты, верно, сегодня плохо спала, Евфросина? – наконец, спросил он, понимая, что вопрос выглядит чрезвычайно глупо.
Она вздрогнула и тихо ответила, не поднимая глаз:
– Да, государь.
Он помолчал, прошелся из одного конца комнаты в другой и снова остановился перед монахиней.
– Что ж, ты… не рада, я вижу? А помнишь, ты сказала, что у тебя нет и никогда не будет выбора? Как видишь, ты ошиблась.
Она опустила голову и ничего не ответила. У него так билось сердце, что кровь шумела в ушах.
– Мне казалось, – продолжал он, – что ты… не очень-то счастлива жизнью в монастыре… Я думал, ты будешь рада перемене участи… тому, что появится выбор… Но, кажется… я ошибся, – он с трудом выговорил последнее слово.
– Разве у меня появился выбор, государь? – проговорила Евфросина чуть слышно, не поднимая головы. – Не по твоему ли приказу меня доставили сюда?
Император побледнел, несколько мгновений молча смотрел на нее и сказал:
– Ты права, – голос его был глух. – В таком случае выбирай. Если ты не хочешь остаться здесь, я немедленно прикажу вернуть тебя в обитель и отменю все распоряжения относительно женитьбы. Мне ведь не впервой… разыгрывать представления! – усмехнулся он и побледнел еще больше.
Щеки Евфросины окрасились румянцем. Она взглянула на Михаила, тут же опустила взор, глубоко вздохнула, медленно подняла руки к горлу – и шерстяная мантия соскользнула с ее плеч и упала на пол. Так же медленно Евфросина сняла куколь, кинула его на стул, вытащила из волос несколько шпилек, и тяжелые волны пшеничного цвета рассыпались по ее плечам. Она подняла глаза и улыбнулась.
– С того дня, как ты приходил к нам в обитель, я перестала стричься. Подумала, что раз у меня… немонашеские мысли, то нечего и стричься по-монашески… пока не поборю помысел. Но так и не поборола. Видишь, они как раз успели отрасти…
– Чтобы ты стала самой красивой в мире невестой! – сказал император, заключая ее в объятия.
20. Софисты
…Во всем, что связано с поступками и их пользой, нет ничего раз и навсегда установленного… Частные случаи не может предусмотреть ни одно искусство…; напротив, те, кто совершает поступки, всегда должны сами иметь в виду их уместность и своевременность, так же как это требуется от искусства врача или кормчего.
(Аристотель, «Никомахова этика»)
На следующее утро во время приема чинов император объявил, что свадьба состоится через две недели после Богоявления. Ближе к вечеру Феофил, найдя отца в Консистории, решительно выслал всех посторонних и закрыл дверь. Михаил насмешливо наблюдал за сыном.
– Что ты хочешь мне сказать, дорогой?
– Не притворяйся невинностью, отец! – резко ответил молодой император. – Признаться, я весьма… удивлен, мягко говоря. Мне, конечно, хорошо известно, что между тобой и матерью не было того, что называют любовью… Но неужели ты не мог подождать хотя бы год после ее смерти, прежде чем ввести сюда другую женщину? Я уж не говорю о том, откуда эта женщина и кто она…
– О! о! – взгляд императора стал еще насмешливее. – Какие мы чувствительные и целомудренные! «Другую женщину»! «Откуда и кто она»! Вот именно: откуда и кто она! Надеюсь, ты понимаешь смысл предстоящего события как политического хода?
– Понимаю, – нахмурился Феофил, – но…
– Понимаешь, – прервал его Михаил. – Прекрасно! Кажется, подобный ход сам по себе не возмущает тебя. Что же тебя возмущает, сын мой? Что после смерти моей дражайшей супруги прошло слишком мало времени, и что я решил ради политических целей растлить монашку? Так? Именно это тебя не устраивает?
– Да, это. И я не вижу, почему это должно меня устраивать!
– За тебя я не могу решать, дорогой, но вот лично я очень хорошо вижу, почему это вполне должно устраивать меня. Отчего бы, скажи на милость, мне, потеряв жену, не жениться вновь, если мне хочется? Думаешь, твоя мать перевернется в гробу от такого непочтения к ее памяти? Ну, а я, напротив, полагаю, что она не будет на меня в обиде, коль скоро сама она при жизни мужа, только лишь ради своего удовольствия, частенько развлекалась с вашим любимым игуменом прямо в этом дворце!
– Что?!!..
Феофил сжал кулаки и сделал шаг к отцу, но вдруг остановился, словно оглушенный ударом по голове, и медленно опустился на стул.
– Ага, я вижу, ты понял, мой мальчик. Мне, право, весьма прискорбно, что я вынужден сообщать тебе такие вещи, но ты сам напросился. Впрочем, я, признаться, не думал, что увлечение твоей матери является для тебя тайной.
– Я… – Феофил внезапно охрип, – думал, что они…
– Ты думал, что их связывает только, так сказать, умственно-духовная дружба? О да, сначала оно так и было, конечно! Но возвышенные увлечения – вещь коварная!.. Впрочем, я твою мать нимало не порицаю, я всё-таки был неподходящим мужем для нее, что ни говори. А вот игумен меня, признаться, удивил! Вроде на женолюба не походил… Но не устоял и наш философ! Правда, боролся, как и положено, ведь долгонько он ее не брал, хоть я и дал понять, что нож ревнивца с моей стороны ему не угрожает…
Феофил ошарашено смотрел на отца. Слова Михаила падали на него, как удары молота, он не сразу осознавал их смысл, а осознавая, ощущал, как перед ним всё застилает какой-то туман. Его учитель и мать! Значит, они всё это время… Или сколько там времени это длилось?.. Теперь он вспоминал, что мать в последние, по крайней мере, года два далеко не так часто появлялась на вечерних и утренних службах в Фарском храме, как раньше… Значит, они в это время… Мать, конечно, женщина, поддалась слабости, страсти… Но Иоанн – как он мог?!!.. И отец всё знал?! Отец «дал понять» Иоанну?!..
– Ну, что ты так смотришь, дорогой? Ты, кажется, опять меня осуждаешь. Странно! Ты ведь всегда жалел мать, что она всю жизнь была связана с таким невежественным пнем, как я, а когда я и сам ее, наконец, пожалел и позволил ей взять от жизни то, чего ей не хватало, ты опять считаешь меня виноватым? Ты ж вроде философию изучал… – Михаил сделал неопределенный жест рукой по направлению к потолку, – логику, там… Чему тебя философ-то учил, любимый ваш? Философ, надо отдать ему должное, умен, а вот тебе-то он, похоже, свой ум так и не передал до сих пор. Видно, неспособный ученик попался… А может, философ в последнее время слишком увлекся… философией страсти? Но его можно простить: мать-то твоя была красавица, что ни говори! А как у них дело пошло, так ого! Пожалуй, философа, как любителя химических опытов, такое превращение должно было занимать! Не у каждого в руках женщина так расцветет! Мне иной раз прямо завидно становилось. Но я им не мешал, заметь! И они это оценили. А ты вот не ценишь. Хотя всё это было ради счастья твоих любимых матери и учителя, не так ли? Видишь, я и говорю: не доучил тебя философ логике-то…
Феофил встал.
– Прости, отец… Я должен идти.
– Пойдешь философу счет предъявлять? – усмехнулся император. – Смотри, не вздумай его калечить, он нам еще пригодится!
– Да нет, бить его я не собираюсь, – медленно ответил Феофил и покинул Консисторию.
Когда он пришел в Сергие-Вакхов монастырь, в храме только что началась вечерня, служили игумен и два диакона. Феофил не пошел на императорское место на галереях, а встал сразу при входе, у самых дверей. Он очень любил торжественно-строгое, «пустынное» пение здешнего хора, но сегодня эта красота, равно как и вообще служба его не трогали: он почти не сознавал, что читают и поют, и машинально крестился на «Господи, помилуй». Когда вечерня кончилась, игумен вышел говорить поучение братии, заметил Феофила, и слово Иоанна было кратким.
– Братия и отцы! – сказал он. – Древний философ Нилоксен однажды сказал: «Сколько вздора принимаем мы на веру, и с какой радостью измышляют и выслушивают иные люди неподобные слухи о мудрых мужах!» Я же скажу, что мы не только о мудром, но и о любом человеке рады измышлять вздор только на основании того, что нам кажется, будто из тех или иных известных нам событий, поведения, слов, неизбежно следуют определенные выводы. Между тем мы почти никогда не можем знать о человеке не только всего того, что необходимо для правильного суждения о нем, но даже и ничтожной доли этого – и, тем не менее, дерзаем судить и осуждать всех и вся, несмотря на то, что это прямо запрещено Спасителем. Почему же мы оказываемся в таком плачевном и нелепом положении? Потому, что мы слишком высокого мнения о собственной проницательности и о своем знании жизни. Если мы постигли несколько закономерностей, то уже думаем, что знаем все. Если нам известны причины чего-либо из случающегося, то мы уже думаем, что легко можем понять причины и всего прочего. А ведь даже одинаковые на вид события могут иметь причины самые разные, а одна и та же причина вести к разным следствиям, в зависимости от привходящих обстоятельств. Мы же, не дав себе труда изучить, как подобает, жизнь и людей, судим о них так, словно имеем обо всем непосредственное откровение от Бога. Что же нам делать, чтобы не попасть в такое смешное положение? Прежде всего, никогда не надо торопиться делать выводы. Поспешность в выводах – признак невежества. Лишь в редких людях это бывает признаком глубокого знания сущего, которое позволяет быстро выносить суждения. Человеку необходимо много учиться, много читать, немало прожить, узнать самых разных людей, прежде чем его суждения приобретут точность и верность, да и то далеко не во всех случаях, ибо жизнь сложна и иной раз ставит нас в такие обстоятельства, где все наши прежние знания оказываются непригодными. Итак, не будем никогда спешить с суждением о ком бы то ни было, если только речь не идет о еретиках, открыто попирающих соборно установленные догматы веры в Господа Бога, во Святой Троице поклоняемого – Отца, и Сына, и Святого Духа, Ему же слава во веки веков, аминь! Я был сегодня краток, братия, поскольку к нам пожаловал августейший государь Феофил, поприветствуем же его! – и, взяв поданное диаконом кадило, игумен сошел с амвона и направился к императору.
Когда все монахи поклонились Феофилу по чину и стали расходиться, Грамматик, вновь подойдя к своему царственному ученику, пристально взглянул на него и сказал:
– Как видно, государь, тебя привел сюда важный вопрос.
– И весьма важный. Не можем ли мы побеседовать наедине?
Они прошли в «гостевую» келью, Феофил сел в кресло у окна, а Грамматик – на стул чуть наискось от него.
– Итак, ты считаешь, я пришел потому, что принял на веру какой-то вздор? – спросил молодой император с долей сарказма.
– Возможно и такое, но ведь я для начала должен узнать, что именно привело тебя сюда, государь.
– Охотно скажу! – Феофил, не выдержав, встал, прошелся по келье до двери и обратно и повернулся к игумену, который тоже поднялся и стоял, слегка опершись рукой о спинку стула. – Сегодня у меня был разговор с отцом по поводу его новой женитьбы. И он изволил сообщить мне… что моя мать – как он уверял, с его ведома и согласия – в последнее время… не знаю, правда, какое именно, но думаю, что, по крайней мере, около двух лет… что она… была твоей любовницей!
Иоанн не изменился в лице, только в глазах его появился металлический блеск.
– Не лучше ли тебе сесть, государь? – сказал он. – Право же, бегать по комнате – занятие, не подходящее для императора и философа.
Феофил в упор посмотрел на игумена.
– А блудить с замужней женщиной – занятие, для философа подходящее? Для монаха в особенности?
– Думаю, что нет, – спокойно ответил Грамматик. – Но полагаю, для толкового продолжения беседы государю следует определиться: хочет ли он поговорить о том, подобает ли вообще монаху или философу блудить с женщиной, или он хочет обсудить случай, о котором ему поведал августейший отец?
– Нет, я, пожалуй, не хочу обсуждать ни того, ни другого, – Феофил сел. – Первое и так понятно, а второе… В конце концов, это не мое дело. Вряд ли уместно… заглядывать в чужую постель!
– Весьма похвальное решение. Но о чем же, в таком случае, государь хотел бы поговорить со мной?
– О чем? – император смерил игумена взглядом. – О том, что всему есть предел, даже софистике! Или ты станешь утверждать, что есть такой блуд, который не является проступком, и что блуд возможно совершать с кем следует, когда следует, как следует?
– О, нет, опровергать тут Аристотеля мне не по силам, не говоря о том, что это было бы неразумно.
– Всё-таки не по силам? Ты умеешь смиряться! – сказал Феофил с едкой усмешкой. – Что ж, отлично! Так вот, мне стало интересно: как это человек, такой умный, образованный, всё знающий и понимающий, от земных предметов до божественных, каким являешься ты… человек, взявшийся учить других, как жить, принявший роль истолкователя догматов, учителя добродетели… как он может при этом совершать такие вещи, которые даже у невежд заслуженно считаются предосудительными и греховными?! И, кажется, даже нисколько не сожалеть о содеянном?
– Вопрос относительно сожаления о содеянном я предлагаю оставить, – сказал игумен с некоторой жесткостью. – Что до остального, августейший, то я, конечно, польщен такой характеристикой, но мне не совсем понятно, почему ты считаешь меня учителем добродетели.
– То есть как – почему? А что ты делал, например, сейчас в храме, когда говорил поучение братии? Не учил ли ты добродетели неосуждения? Или, если перейти ближе к теме… Вот, скажем, придет к тебе один из твоих монахов каяться в блудных помыслах… в том, что он хочет обладать такой-то женщиной… Что ты ему скажешь? Что если тяжело сопротивляться, то можно грешить?
– Нет, конечно. Я скажу, что нужно противиться похоти, во что бы то ни стало. Кстати, похожий разговор с одним монахом был у меня как раз на днях.
– Почему же ты самому себе этого не сказал?
– Потому что у меня и у этого монаха разные пути достижения одной и той же цели. Человеку, проходящему мимо клетки с разъяренным зверем, достаточно просто не подходить близко, чтобы избежать когтей. А человек, который находится со зверем в одной клетке, должен заботиться, прежде всего, не о том, чтобы не быть подранным когтями, а о том, чтобы не быть съеденным.
– При чем здесь то, о чем мы говорим?
– Я объясню. Брату, о котором речь, ничто не мешает достигать своей цели – спасения души, – действуя обычным путем. Поэтому я дал ему обычный для такого случая совет. Я не являюсь учителем добродетели. Я даю каждому советы относительно того, как ему удобнее достичь цели с наименьшими потерями. Но люди бывают разные. Для иных обычный и, так сказать, прямой путь не подходит, и им нужно использовать обходные маневры. Духовная война в этом смысле не отличается от телесной.
– Интересно, что же это может так мешать монаху достигать спасения души прямым путем, – сказал Феофил ядовито, – чтобы ему пришлось в качестве обходного маневра блудить с замужней женщиной? «Дело, достойное настоящего софиста, защищающего свои пороки и силой слова закрывающего истину!»
Иоанн скрестил руки на груди.
– Конечно, подобные определения вполне правомерны. Но если государь и дальше желает обсуждать вопрос в таких выражениях, то никакого проку из нашей беседы не выйдет, и я предлагаю ее завершить. Если государю угодно было дать мне понять, что я человек порочный, поправший монашество и священство, блудник и развратитель, то он это уже сделал. Я согласен, что я человек порочный, развратитель, который, заметив в женщине преступную слабость, не только позволил ей развиться, но даже отчасти посодействовал этому и потом без зазрения совести этим воспользовался, блудник, недостойный ни священного сана, ни игуменства, – и я самым честным образом предлагал патриарху меня их лишить. На что святейший по разным соображениям не пошел – это его дело, а я в данном случае подчиняюсь суждению своего епископа. Конечно, нимало от этого не переставая быть человеком порочным, развратителем и прочее. Если государь именно это хотел мне сказать, то, думаю, мы можем окончить нашу беседу.
Иоанн понимал, что после такой дерзкой речи последует или вспышка гнева, или согласие разобраться. Глядя на молчавшего Феофила, игумен видел, что в нем происходит внутренняя борьба.
– Скажи мне, зачем тебе понадобился… такой маневр, – тихо проговорил император, наконец, не глядя на Грамматика. – Я больше не буду тебя… ругать.
– Думаю, для каждого человека можно найти некое определение, которое описывает его по чертам характера и стремлениям, наиболее ясно и сильно выражающим его сущность. Правда, это не всегда бывает легко, но для самого себя я такое определение могу дать сразу: я – исследователь. Я провожу опыты, чтобы познать нечто новое, что поможет мне понять сущность тех или иных вещей и явлений, составляющих этот мир, равно как и познать самого себя. Это стремление сидит во мне с раннего детства, оно было всегда. «Болезнь» великого афинянина состояла в том, что он «не отпускал пришельца, пока не заставлял его померяться с ним силой в рассуждениях», а моя – в том, что я не упускаю возможности поставить некий новый опыт и, подобно Сократу, «хотя здорово бывал бит, никогда не отступал – столь страшная любовь обуяла меня к подобным занятиям». Поэтому каждую возможность сделать то или другое я рассматриваю, прежде всего, с точки зрения того, что мне принесет этот опыт: чего я добьюсь, совершив его? Что открою нового для себя? Что познаю нового в себе самом? Если я сочту, что я могу через данный опыт познать и понять нечто новое, я сделаю этот опыт, и ничто меня не остановит.
– И если этот опыт… будет противен заповедям, ты всё равно его совершишь?
– Да.
– Но это по сути безбожие! Получается, ты способен хладнокровно принести заповеди в жертву опытам, чтобы что-нибудь познать! Зачем ты пошел в монахи, если легко можешь попрать обеты ради какого-нибудь опыта? Как ты можешь вообще считать себя христианином, если интересы исследователя для тебя стоят выше Евангелия?
– Это не так. Выше Евангелия для меня ничто не стоит. Но в Евангелии сказано, что, прежде чем строить здание, следует рассчитать, хватит ли средств, чтобы его окончить, и прежде чем идти на бой с превосходящим войском противника, следует подумать, хватит ли у тебя сил победить его. Древние философы недаром говорили, что надо познать самого себя. Так вот, я знаю, что страсть к опытам во мне настолько сильна, что бороться с ней – по крайней мере, на данной ступеньке моей жизни – занятие совершенно бессмысленное. Поэтому если на меня вдруг находит соблазн совершить нечто против заповедей, я прежде всего пытаюсь понять, что мною движет – просто похоть, например, или та самая страсть исследователя. С обычными страстями я буду бороться, как бы сильно они ни нападали. Но если я пойму, что мною движет страсть к опытам, я не противлюсь ей, потому что это враг, идущий с сотней тысяч войска против моего десятка, и сопротивление приведет лишь к тому, что он всё равно меня преодолеет, рано или поздно, но при этом разбив всё мое войско, так что я лишусь возможности противиться и тем врагам, с которыми раньше успешно боролся. Поэтому если я борюсь, то борюсь ради заповедей, и если я сдаюсь, то в некотором смысле ради них же – чтобы не расточить и то, что удалось собрать.
– Ты хочешь сказать, что когда ты исполняешь добродетели, то твоя цель – спасение души, а когда ты совершаешь грех ради очередного опыта, то и тогда твоя цель – спасение души, через отступление для сохранения войска?
– По крайней мере, я стараюсь, чтобы это было так. Замечу, что Аристотель не назвал бы меня распущенным. Если ты помнишь: «Человек, который ищет излишеств в удовольствиях или излишне, или по сознательному выбору ради самих излишеств, но отнюдь не ради чего-то другого, что из этого получается, – такой человек и есть распущенный». Но, разумеется, это ни в коей мере не является оправданием.
– А тебе не приходило в голову, что страсть, если она сильна, может убедить тебя в том, что влечет именно к новому опыту, а не просто ко греховному наслаждению?
– Конечно, такая опасность есть. Но на то мне даны ум и способность к рассуждению – и, смею надеяться, далеко не малой силы, – чтобы я мог определять это правильно. Хотя, конечно, я не огражден от ошибок, как и все люди. Но и тот путь, которым я иду, тоже не для всех. Бог наделил меня способностью к рассуждению, возможно, соразмерной страсти к опытам; а людей с такой силой этой страсти я, сказать честно, в жизни не встречал. Людей с жаждой познания, совершенствования – да. Но это всё же другого рода одержимость, нежели та, которой «болен» я, – Иоанн улыбнулся.
– Значит, то, что было у тебя с моей матерью…
– Тоже было определенным опытом.
– А она об этом знала?
– Да.
Феофил несколько мгновений молча смотрел на Иоанна, потом встал, прошелся по келье, остановился перед картой на стене, спиной к игумену, и сказал с иронией:
– Что-то мне вспомнилась история с Аполлонием Косским и Амитис… Правда там она, можно сказать, совершала «опыты», заботясь о своем здоровье, а он был одержим страстью. Ну, а тут наоборот: она любила, а ты утолял страсть к опытам!
Грамматик некоторое время молчал, а потом тихо сказал:
– Государь, ты, кажется, плохо знал свою мать.