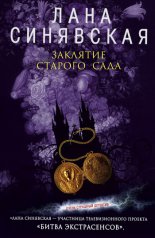Невинный сон Перри Карен

Голос его прозвучал устало, словно у него уже не было сил бороться. Я ожидал, что он начнет со мной ссориться, но он лишь смотрел на меня с грустью и разочарованием. Уж лучше бы он меня ударил. Он отвернулся, открыл дверь пошире и впустил меня в дом. Я вошел внутрь, откашлялся и спросил:
– А где Робин?
При упоминании имени дочери и моих на нее притязаний Джим вздрогнул, но тут же расправил плечи и собрался с духом.
– Гарри, мы всегда хорошо понимали друг друга. По крайней мере мне так казалось.
– Где она?
Рядом со мной на стене устрашающе красовалась голова газели – одного из охотничьих трофеев Джима.
– Гарри, я к тебе питаю глубокую симпатию. Мне нравится то, что ты преуспел в своем деле. Но я хочу, чтобы Робин ты оставил в покое…
– Оставил ее в покое? Она моя жена!
Джим снова ссутулился. Видно было, как он перебирает в мозгу все возможные последствия.
– Гарри, я думаю, тебе сейчас лучше уехать. Она не хочет тебя сегодня видеть.
– Но мне нужно с ней повидаться.
Он медленно кивнул, но не решился посмотреть мне в глаза.
– Мне просто нужно с ней объясниться.
– Гарри, отложи это на день или два. Поезжай домой. Отдохни. Судя по твоему виду, тебе это необходимо.
Джим не собирался сдаваться. Он встретился со мной взглядом и около минуты смотрел на меня в упор. Но тут что-то меня дернуло и будто потянуло куда-то в сторону. У меня был адрес. Надо было торопиться.
– Скажите Робин… Скажите ей: что бы ни случилось, я хочу, чтобы она знала… я прошу у нее прощения.
Я направился к машине, а Джим закрыл за мной дверь и погасил на крыльце свет.
Ночь была непроглядная. На дорогах ни души. Я пустился по М50 в сторону Уиклоу. Казалось, я был последним жителем Земли. На пассажирском сиденье лежала карта. Я изучал ее по пути, мысленно проговаривая: поезжай по М50, пока она не перейдет в Н11, мимо Арклоу на запад, в сторону Огрим. Мой путь в основном проходил по темной пустынной местности. Шоссе Н11 было довольно сухим и чистым, но, когда я свернул с него на узкую пустынную дорогу, она оказалась скользкой и весьма коварной, и мой пикап раз-другой забуксовал. Я до того устал, что глаза то и дело закрывались. Этому дню, похоже, не было конца. Дворники сметали с ветрового стекла свежевыпавший снег. Вдалеке дрожали и гасли в домах огни: рождественский вечер подходил к концу.
Доехав до нужного мне перекрестка, я свернул с главной дороги и очутился на проселочной, которая, похоже, вела в долину. Это был вовсе не комплекс однотипных домов, как я ожидал увидеть, а один-единственный дом, одинокое строение. Я мог бы догадаться об этом по адресу. На самом деле, если честно, я мог бы догадаться и кое о чем другом. Этот дом стоял недалеко от дома, который принадлежал моим родителям, когда я был еще ребенком. Мы прожили там всего года три или четыре, но дом этот мне хорошо запомнился, и потому моя поездка в какой-то мере была возвращением в места моего детства. «До чего же это странно», – подумалось мне. Я вспомнил свой красный велосипед и натертую правую лодыжку: я без конца корябался ею о цепь. Я вспомнил, как в воздухе летали пушинки одуванчиков, вспомнил, как однажды летним днем я сбежал из дома. Убегая, я запихнул в какой-то черный мешок свитера и бутерброды. Мать стояла во дворе, беседовала с соседкой и курила сигарету. И вдруг она заметила меня. Я прятался в кустах и все еще надеялся, что она меня не обнаружит. Мать наклонилась, заглянула в мое убежище и сказала: «Ну, дружок, пора идти домой».
При подъезде к дому пикап соскользнул в канаву. Я нажал на акселератор, мотор взревел. Колеса закрутились, но машина не сдвинулась с места. Я попытался еще и еще, но все без толку. Правда, теперь это не имело значения. Я уже почти добрался до места.
В последний раз вцепившись в руль, я выглянул в окно: со всех сторон темнота, в которой с трудом можно было различить очертания кустов и деревьев. За ними тонули во мраке горы Уиклоу, и где-то вдалеке мелькал свет фар проезжающих машин. Окружающая тьма словно стремилась поглотить и меня. Дрожа от озноба и едва держась на ногах, я вылез из пикапа и прошел по тропинке около полумили. Тропинка уткнулась в деревянные ворота, за которыми длинная дорожка тянулась к дому, наполовину скрытому густыми деревьями. В саду перед домом стояла ель, обвитая гирляндой красных лампочек. В одной из передних комнат – совсем темной – светился экран телевизора. В конце дорожки стояла машина. Мне не видно было ни ее цвета, ни номеров, поэтому я пробрался мимо ворот к забору, осторожно, чтобы он не скрипел, перевалился на другую сторону и опустился на четвереньки.
Я медленно пополз по затвердевшему снегу. Лицо и руки намокли. Вдалеке слышались голоса соседей. Кто-то желал спокойной ночи, кто-то смеялся. На небе появились звезды. Мириады звезд. Меня снова пробрала дрожь. Я уже был недалеко от машины, но разглядеть номера никак не удавалось. Наконец я пересек газон и ступил на гравийную дорожку. Как можно тише я приблизился к заднему бамперу. Силы были на исходе, а голова гудела так, как будто кто-то с размаху по ней врезал. Меня никто не видел. Скорчившись на коленях в темноте, я пытался сосредоточиться. Машина была той самой марки, и, почувствовав облегчение, я поднес к ее номерам светящийся экран телефона. Медленно, одну за другой, я проверил каждую букву и каждую цифру. Да, они самые. Та самая машина. Я откинулся назад и облегченно вздохнул.
Открылась входная дверь, и из нее вышел мужчина.
Глава 14. Робин
«Ты от меня уходишь?»
Я лежала с телефоном в руке, а в голове все еще эхом отдавался голос Гарри. У меня не было больше сил бороться. Лучше бы он не задавал этого вопроса. И лучше бы я не ответила ему то, что ответила. Эта мерзкая азартная игра после всего, что мы пережили вместе: после стольких лет любви и нежности, после тоски, горя и боли. Конец. Что еще можно сделать? Моя голова распухала от вопросов. Но искать на них ответы не было ни духу, ни сил.
Но и уснуть никак не удавалось. Я лежала на спине и водила взглядом по потолку. Мне хотелось встать с постели, спуститься вниз на кухню, посидеть там в тишине и попробовать во всем разобраться. Но под дверью виднелась полоска света: значит, несмотря на такой поздний час, родители еще не легли. До меня доносились их приглушенные голоса. Они говорили совсем тихо, едва слышно. Я представила себе их встревоженные лица и вообразила, как они задают друг другу лихорадочные вопросы: «Разве мы могли предугадать, что такое случится? Как же так? Как могла наша дочь, которую мы растили с такой заботой и такой любовью, дочь, в которую мы вложили столько сил и на которую возлагали столько надежд, как она могла до такого докатиться?» Я представила себе этот разговор и вся съежилась.
Чуть позже я услышала, как мать отправилась в спальню, а отец остался внизу: он мерил комнату тревожными шагами и никак не уходил спать. В тот вечер мне больше не хотелось с ним видеться. Почему-то его молчаливое неодобрение ранило еще сильнее, чем резкий разговор с Гарри. Во всем теле была такая усталость, что казалось, будто ноги меня уже больше не носят. Я лежала в постели, уставившись в потолок, и задавалась вопросом: как же такое со мной случилось?
На меня нахлынули воспоминания. Я вспомнила вечер в этой самой комнате много лет назад, когда я впервые привела домой Гарри. У меня, девятнадцатилетней девушки, это был первый настоящий любовный роман, и мне все было нипочем. Я тайком вела Гарри по лестнице, мы оба были навеселе, и оба хихикали. Он повалился на кровать, а я стояла, прислонившись к двери, и задыхалась от смеха. Гарри лежал на спине, скрестив ноги, закинув руки за голову, и улыбался во весь рот, словно уже чувствовал себя здесь хозяином. В двери моей комнаты не было замка – мать замков не одобряла, – и я подставила под ручку двери стул. Когда я обернулась к Гарри, он по-прежнему улыбался, но улыбка эта уже не была дурашливой, и в глазах его появилась серьезность.
– А теперь сними всю свою одежду, – сказал он.
Я помню, каким было в ту ночь его тело – длинным, стройным и упругим. Под гладкой кожей крепкие рельефные мускулы, а вниз от пупка черная ниточка волос. И твердые, сильные бедра. А когда он лег на меня, я помню, каким неожиданно тяжелым оказалось его тело, какими острыми кости таза, когда он скользил по моему телу, а потом входил в него – сначала медленно, а потом все неистовее и неистовее.
Я предавалась любви немного нервозно, я замечала каждый громкий вздох и стон, каждый скрип кровати, ни на минуту не забывая о том, что по другую сторону коридора спят родители. Гарри же был полон дерзости и озорства. Он был уверен в себе, и для него секс был развлечением, которым надо было наслаждаться и которое не стоило принимать слишком серьезно. Ему нравилось ласкаться, лизаться и щекотать, и мой смех возбуждал его еще сильнее. Но так было в прежние времена. С годами его шаловливость иссякла. После того как погиб Диллон, мы уже не предавались любви. Долгое время мы друг к другу даже не прикасались. Горе удерживало нас врозь, а может быть, что-то другое? Обида? Не высказанные вслух обвинения?
Возвращаясь мыслями к той ночи, я вспоминаю, как потом, прежде чем мы оторвались друг от друга и откинулись на подушки, он осторожно, нежно поцеловал меня в шею и лопатки. В этом жесте уже не было прежней веселости и фривольности – в нем было уважение и была нежность. Именно в эту минуту я почувствовала его открытость и уязвимость и поняла, что он ко мне относится всерьез. Именно тогда меня вдруг к нему потянуло и словно привязало невидимой нитью, и я поняла, что это не скоротечный роман и что рвать наши отношения будет болезненно. Именно тогда я вдруг осознала, какую могу причинить ему боль.
Посреди ночи хлопнула дверца машины, и я проснулась. Сначала я растерялась, а потом удивилась тому, что мне вообще удалось уснуть. Я лежала и прислушивалась к звукам родительского дома: потрескиванию в трубах, к стону платана, тяжко сгорбившегося во дворе под снежной ношей. Я еще раз попыталась дозвониться Гарри, но включился его автоответчик. Я понятия не имела, где он сейчас находится, и не очень понимала, о чем стану с ним говорить. Наверное, я должна сказать, что скучаю по нему, что я вовсе не хотела его обидеть и хочу, чтобы он вернулся – но не нынешний незнакомый, свихнувшийся, скрытный Гарри, а прежний Гарри, занимательный и щедрый, искрящийся жизнелюбием и весельем, тот, которого все любили. Тот, которого я любила. Однако я так и не оставила ему никаких сообщений. Я просто повесила трубку. И сразу уснула.
Я проснулась, когда было еще темно, в незнакомой комнате. Я посмотрела на телефон – ни одного сообщения. Я лежала, и неясные силуэты в комнате постепенно приобретали очертания платяного шкафа, комода, длинного зеркала. Из комнаты давным-давно убрали плакаты и игрушки – всю дребедень, накопленную за многие годы, и комната стала пустой и как бы уменьшилась в размере. Я разглядывала обои с розочками, пупырчатое изголовье кровати, вафельное постельное белье – совершенно незнакомые мне вещи. От моего пребывания в этой комнате не осталось и следа. Это уже не был мой дом, теперь уже это был вовсе не мой дом. Я подумала о доме, из которого уехала: после того, что вчера случилось, он тоже стал мне чужим. Я вдруг почувствовала себя одинокой и неприкаянной.
Я встала с кровати, раздвинула занавески и выглянула в окно на пустую пригородную улицу; слабый мерцающий свет, слегка позолотив ночное небо, осветил снежную порошу и обнаженные деревья, дремавшие в призрачной тени. События предыдущего дня казались такими далекими, такими нереальными, что в них трудно было поверить. Я вспомнила, что Гарри ушел из дома, вспомнила лицо отца, сердитое и растерянное, застывшую от ужаса мать.
– Ты должна поехать домой вместе с нами, – твердо сказал отец.
В свете кухонной лампы щеки его казались припухлыми, а глаза старыми.
– Пап, что ты говоришь.
– Я не могу тебя здесь оставить, – резко добавил он.
Только тогда я заметила, какой он взвинченный, и поняла, как тяжело ему от того, что между мною и Гарри разверзлась неодолимая пропасть. Глядя на грустное лицо отца, я вспомнила слова матери о том, как она скучала по Диллону, но никогда не решалась мне в этом признаться. Интересно, что еще мои родители от меня скрывают? Сколько своих собственных несчастий и утрат, своих собственных тревог и печалей?
Я спустилась вниз. Из кухни уже доносился шум. Не было и шести часов утра, а мать, как я догадывалась, в поисках отдушины своим тревогам уже была на кухне и чистила духовку или размораживала холодильник. На нижней ступени лестницы я приостановилась: я вдруг почувствовала себя маленьким ребенком, девочкой, разочаровавшей старших, девочкой, которая, вызвав неодобрение своих родителей, теперь должна приложить все усилия, чтобы вернуть их любовь.
Я открыла дверь и увидела, как мать накладывает тесто в формочки для кексов. Она посмотрела на меня и улыбнулась. В утреннем полумраке ее яркий халат казался аляповатым. Ее прическа потеряла форму, а под глазами видны были следы туши. Она выглядела старой, усталой и маленькой. Плечи ее ссутулились, и я впервые заметила, что спина у нее сгорблена. Я на миг представила ее старой женщиной – по-прежнему привлекательной, в кашемировом свитере, с брошью, с ярко-красной помадой на губах, но сухонькой и сгорбленной, с узловатыми пальцами и морщинками возле глаз.
– Робин, как ты спала?
– Нормально.
– Кровать удобная?
– М-м-м.
– Хорошо, что в канун Рождества я поменяла белье.
– Словно вы меня ждали, – сухо заметила я.
Мать бросила на меня настороженный взгляд, а потом уверительно улыбнулась.
– Садись, моя радость, и я сварю нам с тобой кофе.
– А где отец?
– Еще в постели. Решил немного понежиться.
Я не стала спрашивать, во сколько он наконец лег спать. Мне не хотелось знать, как долго он еще мерил шагами комнату. Вместо этого я принялась наблюдать за матерью: она включила кофеварку и сунула кексы в духовку. Я никогда не задумывалась о том, с какой легкостью она управлялась с домашним хозяйством, но сейчас, в свете того, что со мной происходило, я сочла это неким триумфом. Позади у нее было почти сорок лет удачного замужества, и ее дом, и ее родные по-прежнему были при ней. Впервые в жизни я поняла, какое это важное достижение.
– Мам, что я натворила? – сказала я.
Услышав, как задрожал мой голос, мать подошла, села рядом со мной, обняла меня и прижала к себе.
– Робин…
– Вчера мне так хотелось, чтобы день прошел идеально. А он прошел хуже не придумаешь.
– Робин, ты уж слишком к себе строга. Не забывай: ты приготовила отличный обед.
Я резко от нее отстранилась: как она умела, когда ей было нужно, приукрасить дурное.
– Мам, мой муж меня бросил. Разве это не катаст-рофа?
– Ну, если ты считаешь, что он тебя бросил…
Она встала, налила кофе, а потом принесла две дымящиеся кружки, и в это холодное зимнее утро от них повеяло таким приятным теплом.
– Мам, что же мне теперь делать?
– Доченька, я не знаю. Но ты можешь оставаться у нас, сколько захочешь. Этот дом всегда будет твоим.
Я замотала головой:
– Не думаю, что это решение вопроса.
– Но ты не можешь возвращаться в тот дом.
– Почему?
– Боже мой, Робин. После такого поведения Гарри? Это нелепо. Подумай о будущем ребенке.
– Я думаю о ребенке. Я обязана ради него или ради нее во всем разобраться со своим мужем. Господи! – Я закрыла лицо руками. – Младенец. Какой все это кошмар.
Мы помолчали. А потом я подняла на нее глаза и рассказала ей о Гарри.
– Он считает, что Диллон жив.
На лице матери отразилось смятение. Она опустила на стол чашку.
– Он говорит, что видел его.
– Когда? Где?
– Какое это имеет значение? Это лишь его фантазии.
Я немного смягчилась.
– Он говорит, что видел его в Дублине, – сказала я. – В центре. Он видел какого-то мальчика, как он клянется – Диллона, с какой-то незнакомой женщиной.
– Боже мой.
– Но самое страшное то, что Гарри влез во все это по самые уши. Раньше он просто говорил о том, что Диллон, возможно, жив, говорил и говорил, пока это не превратилось в манию, пока он не заболел. Но на этот раз все по-другому.
– В каком смысле?
– Во-первых, Гарри до вчерашнего дня ничего мне не рассказывал. Неделю за неделей он вел себя престранно, но об этом ни слова. А вчера я узнаю, что он уже целый месяц изображает из себя сыщика и, похоже, занимается нелегальными делами. Он каким-то образом раздобыл записи с уличных камер и убежден, что на них заснят Диллон. Но ужаснее всего эта фотография.
– Какая фотография?
– У него на телефоне. Он показал мне на своем телефоне фотографию какого-то мальчика. Она туманная, сделана издалека. Он утверждает, что это Диллон. Но это не так. Просто этот мальчик того же возраста, какого бы сейчас был Диллон. Представляешь, Гарри ходит по улицам, разглядывает мальчиков и фотографирует их телефоном только потому, что они смутно напоминают его погибшего сына. В этом есть нечто гадкое и зловещее. И это так не похоже на Гарри. Я просто не понимаю, как он до такого дошел. Может, из-за будущего ребенка? Неужели именно это его подкосило?
Мать грустно покачала головой.
– Ты думаешь, у него опять срыв? – мягко спросила она.
– Ой, мам, – неожиданно расплакавшись, сказала я. – Очень надеюсь, что это не так.
Все признаки были налицо. Все начиналось сначала – очередной срыв. Мой взгляд скользнул поверх матери сквозь стеклянную дверь в замерзший сад. На глаза мне попались свисавшие с платана качели. Я смотрела на них и вспоминала те недели, что Гарри провел в «Сент-Джеймс», и все те сессии с психотерапевтом. Я вспомнила, как Гарри тогда держался, как он, уставившись в пол, точно защищаясь, прижимал к груди руку, а пальцем, сам того не замечая, тер и тер нижнюю губу; вспомнила, как он замкнулся в своих иллюзиях и как страстно он был поглощен своими бредовыми фантазиями. Я вспомнила, как волновались за него родные и друзья, как осторожно расспрашивали меня об успехах его лечения, как искренне тревожились о его здоровье. Я помню, как меня это сердило, порой я приходила просто в бешенство. Только что погиб наш сын. Погиб страшной, трагической смертью. У меня от боли разрывалось сердце. Я просыпалась среди ночи, и все снова всплывало в памяти – как удар молотком по голове, и такой сильный, что я начинала задыхаться. И все это время я была одна. Гарри укрылся в цитадели своих иллюзий, он отказывался верить в то, что Диллон погиб, он придумывал безумные теории о том, что его украли или с кем-то перепутали. Я терпеливо за ним ухаживала, я приходила на все его сессии с психотерапевтом, я держала его за руку и выслушивала докторов, я отвечала на все их вопросы, регулярно давала отчеты об успехе его лечения, я ждала и ждала, но внутри у меня бушевал гнев. Этот раскаленный до предела гнев клокотал с неистовой силой, а я его старательно от всех скрывала. Но он тайно пожирал меня.
Я наблюдала за тем, как холодный рассвет подкрадывается к безмолвному саду, и думала о том, каким беспорядочным и сумасбродным было поведение Гарри в последние недели, каким отстраненным и хмурым он был все эти дни. Каким подавленным. Вдруг меня охватила паника.
– Господи! Думаешь, он собирается покончить с собой?
– Нет, не думаю, – успокаивая меня, поспешно проговорила мать.
– Боже мой, не знаю, что и подумать. Он позвонил мне вчера вечером, и в его голосе было что-то… что-то фатальное.
Сердце мое застучало с бешеной силой, и меня затошнило. Мать ничего не ответила, но вдруг побледнела, и в лице у нее не осталось ни кровинки.
– Мам? Что с тобой? У тебя такой вид, словно ты увидела привидение.
Она сглотнула.
– Он был здесь прошлой ночью.
– Кто он?
– Гарри.
У меня внутри все сжалось.
– Почему вы меня не разбудили?
– Я его не видела. Я только потом узнала, что он приходил. Он говорил с Джимом.
– Что случилось?
Она прикусила губу и, уткнувшись взглядом в стол, принялась теребить салфетку.
– Мам?
У меня внутри все похолодело.
– Он сказал твоему отцу… Он просил передать тебе, что просит прощения. Сказал: что бы ни случилось, он хочет, чтобы ты это знала.
Я развернулась и побежала в переднюю. Возле двери висели ее ключи от машины, и я схватила их на ходу.
– Робин, не делай этого…
– Я ничего не собираюсь делать, – ответила я, стараясь сохранять спокойствие, стараясь держаться так, как держалась бы уверенная в себе женщина, хотя об уверенности уже не было и речи. – Не волнуйся, пожалуйста.
Выпалив это, я стремглав выбежала за дверь.
Я вела машину как во сне. Слегка кружилась голова. От белизны снега щипало глаза. В животе ощущалась какая-то пустота, а в голове от бессонницы был туман. Я подъехала к нашему дому. Пикапа на месте не было. Сидя в машине, я уставилась на входную дверь. Что ожидало меня в доме?
Я сразу заметила, что в комнатах стоял лютый холод. Огонь в камине погас, и с прошлого вечера никто не включал отопления, а когда я приоткрыла входную дверь, утекло и последнее тепло. Не снимая пальто, я прошла на кухню: возле раковины стояла груда кастрюль, на сушильной доске – перевернутые бокалы. Всю ночь здесь горел свет, и от гладких холодных стен эхом отражалось тихое жужжание ламп.
В столовой все осталось в том же виде, что и до нашего ухода. Мисочки с недоеденным ликерным тортом, бокалы с недопитым вином, разбросанные по столу салфетки. В кофейных чашечках темнел остывший кофе, рядом стояли скисающие сливки. На краю тарелки притулилась вилка, словно кто-то всего лишь на минуту вышел из-за стола.
Я обошла все комнаты. Затаив дыхание, я открывала каждую дверь, не зная, что увижу за ней, и в страхе ожидая самого худшего. Наконец я проверила весь дом и, немного успокоившись, вернулась в столовую. Постояла там минуту-другую, оглядывая комнату и изо всех сил стараясь почувствовать облегчение или хотя бы немного прийти в себя и набраться решимости привести ее в порядок, начать что-то делать и разобраться в своих собственных чувствах.
Но вместо этого я уселась на стул в столовой и стала прислушиваться к царившим в доме звукам. К тиканью и поскрипыванию. Стала следить за летающей по дому пылью. Старый дом, полный воспоминаний. Я сидела тихо-тихо и старательно прислушивалась, пытаясь уловить хоть какие-то признаки прошлого и людей, что когда-то обитали в этих комнатах, моего деда и моей бабки, едва слышные отголоски их бесед. В доме не чувствовалось ни единого запаха. Гарри, похоже, домой не возвращался. Интересно, куда он уехал? Мой муж казался мне теперь таким далеким, таким чужим; человеком, жившим в своем собственном безумном мире.
Компьютер Гарри стоял на столе, там, где он его и оставил. Взглянув на компьютер, я вспомнила, с каким жаром и страстью мой муж говорил со мной накануне, с каким возбуждением он просматривал туманные кадры видеосъемки, с каким триумфом он показал мне тот кадр, который искал, а потом вспомнила, как он расстроился, как оскорбился и возмутился, когда я отказалась увидеть то, что видел он, когда я отвергла то, что ему казалось очевидным. Я нерешительно потянулась к компьютеру и пододвинула его к себе. Я включила его и стала ждать, когда засветится экран. Из щели выскочил диск, и я, затолкнув его назад, стала ждать, пока он загрузится. Рассеянно, скорее всего из праздного любопытства я принялась прокручивать запись, пытаясь вспомнить, какие именно кадры так потрясли Гарри. Я просматривала съемку, уверяя себя, что сама сдурела, что я не лучше Гарри, и все же не могла остановиться.
Понятия не имею, сколько времени я так просидела. Видимо, довольно долго, потому что я замерзла и кончился заряд батареи. Я встала, включила отопление и заварила себе чаю. Бросив взгляд на составленные возле раковины тарелки, я сказала себе, что их пора наконец-то помыть. Но вместо этого я нашла зарядное устройство и, подключив компьютер к сети, продолжила просмотр.
Не знаю, зачем я это делала. Наверное, мне хотелось понять Гарри. Как-то к нему пробиться, найти причину, объясняющую его поведение. Возможно, я хваталась за соломинку в жалкой попытке доказать самой себе, что мой муж не сумасшедший, что всему этому есть простое объяснение. Но в глубине души я знала, что сама себя обманываю.
Запись на диске была одуревающе занудной. Я перематывала ее вперед целыми кусками. Интересно, какую часть всего этого просмотрел Гарри? Все подряд? Я мысленно представила, как он сидит в своей холодной железобетонной студии, глаза его краснеют и моргают от усталости, а он все просматривает и просматривает кадр за кадром – то и дело поглядывая на дверь, чтобы не пропустить мой приход, – и украдкой разыскивает потрясшего его воображение мальчика. От одной этой мысли мне захотелось тут же бросить весь этот бесполезный поиск.
Но не успела я сдаться, как нашла тот самый фрагмент. Мальчик лет восьми-девяти шел за руку с женщиной, очевидно, своей матерью, а потом оба остановились и сели в машину. Запись была нечеткой, и когда я остановила ее, чтобы изучить получше, кадр получился настолько расплывчатым, что разглядеть сходство было просто невозможно. Лицо было размыто. Это мог быть кто угодно.
Я откинулась на спинку стула и сложила руки на груди. Потом закрыла глаза и потерла пальцами веки. В доме стало теплее, и я решила подняться наверх и поспать.
Но когда я открыла глаза и снова взглянула на образ на экране, мне что-то почудилось, что-то, о чем я раньше не подумала. Я пододвинулась ближе к экрану. Посмотрела на мальчика. Посмотрела на женщину. Меня вдруг осенило. Почти невероятный шанс. Внутри у меня все задрожало, и я вскочила на ноги.
Я кинулась на кухню. Сердце колотилось, в голове стучало. В моем списке абонентов значился этот номер. Я достала телефон из сумки и нашла его. Нажала на «вызов» и стала ждать ответа. Руки мои тряслись.
– Алло?
– Это я. Робин.
Смущенное молчание.
– Робин, с тобой ничего не случилось?
– Прости, что звоню тебе… так неожиданно. Но…
– Что случилось?
– Я… Мне надо тебя кое о чем спросить.
– Ну, спрашивай.
– Когда мы на днях с тобой встретились, ты сказал, что уже какое-то время живешь в Ирландии. Сколько времени?
Снова смущенная пауза.
– Несколько недель, – медленно произнес он. – Мы приехали перед самым Хэллоуином…
– Ты помнишь демонстрацию? Протест против введения мер по сокращению бюджета? В конце ноября.
– Конечно, помню.
– Ты, случайно, на него не ходил?
На верхней губе у меня проступил пот, и пока я ждала ответа, я почувствовала его соленый привкус.
– Нет.
Я закрыла глаза. Выдохнула.
– Нет-нет, я не был на демонстрации, – сказал он, точно поясняя свои слова. – Но я был в тот день в городе. Ева навещала свою мать в больнице. Я приехал, чтобы ее забрать.
Мое сердце сжалось от боли.
– Господи.
– Что такое? В чем дело?
– Гарри, – сказала я. – Там был Гарри. Он ее видел. Он видел ее с мальчиком.
Я слышала, как он задохнулся.
– Черт!
– Возраст мальчика. Сходство… Он сразу же пришел к ложному выводу. Мы должны увидеться, – сказала я. – Скажи мне, где ты находишься.
– Робин, подожди…
– Ждать нельзя ни минуты. Я должна увидеться с тобой до того, как к тебе придет Гарри. Умоляю, скажи мне, где ты.
Глава 15. Гарри
От света лампочки на крыльце на гравийную дорожку прямо передо мной упала тень мужчины. Щелкнула зажигалка, мужчина зажег сигарету и затянулся.
Прижавшись к машине, я старался не шевелиться, как вдруг почувствовал резкую боль в бедре. Свободной рукой я нащупал прореху в джинсах и открытую рану. На руке остались следы крови. Наверное, я поранился, когда перелезал через забор. Я приподнялся с земли, чтобы не касаться ее раной. Сидеть не шевелясь было пыткой. Все мое существо рвалось к этому человеку – к незнакомцу, который преспокойно пускал в ночное небо колечки дыма. Очевидно, кто-то позвал его из дома, потому что он обернулся и ответил:
– Иду. Только достану из машины бенгальские огни.
«Черт подери», – подумал я, скрип открываемой дверцы машины поверг меня в панику. Не раздумывая, я бросился на снег, подполз под машину и затаил дыхание. Не сводя взгляда с шасси, я жаждал снова услышать этот голос. В нем было что-то знакомое – некая самоуверенность и какой-то необычный акцент. Я как будто знал этот голос, но никак не мог вспомнить, кому он принадлежит. Мне неожиданно вспомнились слова Козимо: «Очень трудно поверить. Трудно, но можно». Эти слова в какой-то мере меня сюда и привели.
На крыльцо вышла женщина. Мне виден был лишь ее силуэт. Он походил на силуэт той женщины на О’Кон-нелл-стрит.
– Дейв, ты нашел их? – спросила она.
– Нашел. На дворе лютый холод. Иди в дом.
Опять этот знакомый мужской голос. Откуда я его знаю?
Скрип над головой, а потом его шаги по гравийной дорожке, совсем близко от меня. Коричневые туристические ботинки. Я бесшумно выдохнул, а затем вдохнул и, словно нырнув в воду, задержал дыхание. Я старался не пошевелить ни единым мускулом.
Свет на крыльце освещал дорожку до самой машины, но под машиной я оставался в тени. Я снова бесшумно выдохнул и вдохнул запах ржавчины и бензина.
– Ты готова? – спросил мужчина.
– Еще одну минуту, – сказала она и исчезла в доме.
Мужчина скрестил ноги и в ожидании прислонился к машине. Меня обуяла паника. К горлу подступила тошнота. Что мне делать, когда он заведет машину? Я всмотрелся в шасси: за что можно зацепиться, когда машина поедет? Зацепиться было не за что. Выхлопная труба старая, ржавая. Может, просто лежать, не шевелясь, и молиться, чтобы этот гад меня не переехал?
Я понятия не имел, что теперь делать. Выйти из укрытия и поговорить с ними напрямую? Но у меня не было четкого плана действий. Прежде чем что-либо предпринять, я должен был увидеться с Диллоном. Я еще не знал, уведу ли его с собой, поговорю с ним или сделаю что-то еще. Это нужно было обдумать, но на обдумывание у меня не было времени. Кто такой этот Дейв? Я знал людей с таким именем, и голос его был знаком, но кто же он такой? Незнакомец сел на водительское сиденье и включил зажигание. Я закрыл глаза и обхватил себя руками.
Мотор надо мной все еще жужжал, но шасси вдруг чуть приподнялось, и я увидел мужские ноги. Они зашагали по снегу назад к дому. Медлить не имело смысла. Как только ноги исчезли из виду, я вылез из-под машины и спрятался в елках, обрамлявших подъезд к дому.
Скрючившись под толстыми ветвями ели, я облегченно вздохнул. Диллон так и не появился, но по крайней мере меня никто не заметил. Я уже дышал намного ровнее и постепенно приходил в себя. Но в мыслях у меня был полный разброд. Я полез в карман. Слава богу, я не забыл прихватить фляжку с виски. В левом кармане виски, в правом – пистолет.
Тишину вдруг прервало щебетание моего телефона. Чертов телефон! У меня чуть не разорвалось сердце. Я убрал звук и посмотрел, кто звонил. Спенсер. Проклятие! Ему, видимо, не терпится, чтобы меня прикончили. Я выглянул из-за ветвей, но ни мужчины, ни женщины не было видно. На телефоне вдруг мелькнуло сообщение: «Не смей делать глупостей!»
И это говорит он! Но входная дверь приоткрылась, и я тут же забыл о Спенсере. Мужчина стоял в дверном проеме и снова курил. На голове у него был капюшон, и я не мог разглядеть его лица. У него, похоже, были широкие плечи и осанка боксера. Он докурил сигарету, бросил на землю окурок, подошел к машине со все еще гудящим мотором и сел на водительское сиденье. Женщина заперла входную дверь, спустилась по ступеням крыльца и открыла ворота. Мальчика нигде не было видно, и я не понимал, испытываю от этого облегчение или тревогу.
Я подождал, пока свет задних фар не исчез на темной дороге, а потом еще минуту-другую, чтобы убедиться, что они не вернутся. Я попытался двинуться с места, но не мог и шевельнуться. Меня будто парализовало. Я сделал еще одну попытку и на этот раз медленно выполз из-под ветвей. Я весь одеревенел, и тело ныло от боли. Я осторожно выпрямился. Холод пронизал меня до самых костей. Я сделал шаг, за ним второй. Ноги потихоньку пошли. Я двинулся к дому. В доме ни огонька. И вокруг темным-темно, как бывает только далеко за городом. Не слышно ни голосов, ни шума включенного телевизора.
Я обошел дом со всех сторон. Маленький коттедж, наверное, с двумя или тремя спальнями. Я попытался заглянуть в окна, но все занавески были задернуты, и в стеклах отражалось лишь мое собственное лицо, освещенное луной, – бледное и испуганное.
Мои шаги заскрипели по гравию: я снова зашагал вокруг коттеджа. Я размышлял: не проникнуть ли внутрь, не побродить ли по дому, не пройтись ли на цыпочках по чужой жизни? Я подошел к задней двери, потянул за ручку, и дверь со скрипом отворилась. На мгновение я застыл как вкопанный. В доме стояла мертвая тишина. Я ступил за порог, на ощупь нашел выключатель и зажег свет. В кухне все было довольно обыденно, кроме одного: казалось, будто эта пара встала посреди обеда и неожиданно уехала. На деревянном кухонном столе тарелки с недоеденной едой и неоткрытая бутылка вина, а стулья отодвинуты от стола.
В комнате рядом с кухней к стене было прислонено несколько картин. Первые, что попались мне под руку, оказались яркими, ослепительными, в абстрактном стиле. Я стал просматривать остальные: нечто вроде каталога модных, прихотливых, в современном духе картин. Ничего оригинального, ничего стоящего, пока я вдруг не наткнулся на большое полотно. Я чуть не задохнулся! Это полотно… это была моя картина.
Я помню, как писал ее, будто это было вчера. Живая, задорная акварель, уверенные, резкие мазки, яркий, пульсирующий свет Танжера. Но гораздо важнее, чем манера, в которой была написана картина, был ее сюжет: мой самый первый портрет Диллона. Ему, наверное, было всего месяцев шесть. Не помню, чтобы я эту картину продавал или кому-то дарил, и пока я раздумывал над тем, как она сюда попала, у меня внутри вдруг что-то дрогнуло, и я вмиг сообразил, кто такой этот Дейв.
Мы не знали его имени, и я не уверен, что фамилия, по которой мы к нему обращались, была настоящей, но низкий голос, уверенные интонации – все это указывало только на одного-единственного человека. Я вдруг понял, что это Гаррик, американец из Танжера, чудотворец, который разыскал в пустыне рождественскую елку, поэт, художник, дилетант. И вот теперь он живет в Ирландии с этой женщиной и Диллоном. Силы вдруг оставили меня, живот скрутило. Я почувствовал, что устал и изможден. Я вспомнил фотографию в доме Козимо: я, Робин, Козимо, Симо, Гаррик и Рауль. И слова Козимо: «Я кое-что знал и, наверное, должен был тебе об этом рассказать».
Я почувствовал, как меня охватывает бешеный страх. Я двинулся по коридору, заглянул в одну комнату, потом в другую. Меня била дрожь. Отчаянный посетитель, незваный гость, рыскающий по дому в поисках своего сына. После всех этих лет, после одного тупика за другим, после поисков в переулках и закоулках, после слез и уклончивых ответов, после жестоких ссор, визитов к врачу и рождественских обедов, вот до чего мы дошли: я ночью брожу по чужому дому.
Никогда бы не подумал, что Гаррик будет жить в таком доме; этот коттедж вовсе не был в его стиле. И что вообще он делал в Ирландии?
Последняя комната на моем пути – в самом конце коридора – принадлежала Диллону. Я в этом был просто уверен. Маленькая прямоугольная комната. Почти никакой мебели, лишь узкая кровать и стул в углу. Рядом с кроватью несколько книг. На полу перевернутый ящик с игрушками, на стуле – разбросанная одежда. Я вошел в комнату, и по моему телу пробежала дрожь. Я едва держался на ногах.
Я забрался в кровать и укрылся покрывалом с рисунком Человека-паука.
Комнату заливал по-сказочному лунный свет. Я вынул пистолет из кармана и положил его под рубашку, прямо на грудь. От него веяло холодом, но на душе стало как-то спокойнее. Намного спокойнее, чем я ожидал. Пистолет будто ко мне прирос. Я чувствовал его отпечаток, он татуировкой врезался в мою плоть. Он был довольно тяжел, и, когда моя грудь поднималась и опускалась, казался частью моего тела.
У меня вдруг закружилась голова. Я отхлебнул виски, и по жилам медленно разлилось тепло. Правда, энергии оно не прибавило. Совсем наоборот. Я почувствовал сонливость и, придавленный тяжестью пистолета, стал постепенно проваливаться в сон. Но прежде, чем окончательно заснуть, я все же решил позвонить Козимо. Неужели он мой единственный друг? Неужели, кроме него, у меня больше никого и нет? Как мне его сейчас не хватало. В телефоне послышались ленивые гудки, будто он звонил в каком-то нереальном мире. Но реального мира, похоже, уже не было и в помине.
Трубку сняла женщина.
– Слушаю.
– Можно Козимо?
– Кто это?
– Это Гарри. Я хочу поговорить с Козом.
– Его здесь нет.
– А когда он вернется?
– Он…
– Кто это? Это Майя?
– Да, Майя.
– Я хочу поговорить со своим другом.
Но не успела она ответить, как я уже все понял. Я обо всем догадался по ее молчанию – по той кратчайшей паузе, во время которой у меня в висках застучала кровь.
– Мне очень жаль, Гарри. Козимо больше нет.
Меня точно толкнули к самому краю бездонной пропасти.
– Он умер сегодня вечером, совсем недавно.
Не помню, добавила ли она что-то еще и сказал ли я что-то в ответ. Тьма сгустилась. Я уже ничего больше не понимал. Может, подобно метеориту, вошедшему в атмосферу, я стал распадаться на части. А может, случилось что-то еще. Все летело в тартарары. Со смертью Козимо исчезали последние крупицы счастья Танжера. Никогда прежде я не чувствовал себя чужаком в своей собственной жизни. Козимо, друг мой дорогой, как же ты мог меня покинуть?
За окном ярко светили звезды. В сельской местности они обычно ярче, чем в городе. А тишина как будто стала осязаемой, и я мог до нее дотронуться. Я мог в нее погрузиться. Мои руки и ноги отяжелели и мягко, постепенно, точно якоря, стащили меня на дно сонного моря.
Странно, но я знал, что мой сын был где-то неподалеку. А может, не был? Я ведь его не видел и понятия не имел, что теперь делать. Я мог притвориться, будто никогда не ждал этой минуты и этого дня, но во мне с самого начала, с невесть каких времен – даже до того, как я встретил Робин, мою любимую Робин, – затаилось нечто, и это нечто предсказывало: мой сын жив, он здесь, он ждет меня, он готов к встрече со мной. В любую минуту.