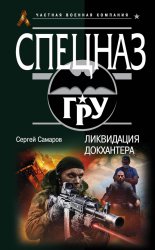Незнакомцы на мосту Донован Джеймс

— Я бы хотел, — сказал Даллес, попыхивая своей неизменной трубкой, — чтобы мы сегодня имели таких трех-четырех человек, как он, в Москве. Добавлю, что, когда вас назначили защитником, один приятель из министерства юстиции с некоторой нервозностью спросил, что вы за человек. Я ответил, что, по моему мнению, им придется туго и они могут считать, что им повезет, если сумеют осудить Абеля.
Я сказал директору, что советский полковник просил меня предпринять некоторые шаги, которые, по моему мнению, требуют одобрения правительства США, и что я пришел к нему с ведома Абеля. Я сказал, что Рудольф очень хочет получить возможность переписываться с семьей и желает направлять письма через советское посольство. Я сказал, что собираюсь написать в посольство от его имени и у меня есть намерение приложить к письму копию записки по делу, представленной в апелляционный суд, а также копию всех материалов по делу.
Директор сказал, что он не видит причин, почему Абелю не следовало бы разрешить переписку с семьей. Ему понравилась мысль о том, чтобы направить русским копии апелляционной записки и материалов дела. Однако, когда я коснулся вопроса об обмене, он быстро сказал, что ему ничего не известно о том, чтобы в Вашингтоне обсуждали такое предложение. И далее, что он не располагает сведениями, что в руках русских находятся американские агенты, на которых можно было бы обменять Абеля.
Затем я упомянул о предложении полковника произвести обмен Абеля на американцев, находящихся в заключении в Китае, при посредничестве третьей, нейтральной страны вроде Индии.
— Нейтральная страна, — сказал я, — могла бы предоставить политическое убежище всем заключенным. Это не потребовало бы, — заметил я, — официального признания Советами Абеля.
Даллес заметил, что его заинтересовало это предложение, но он хочет по этому вопросу проконсультироваться с госдепартаментом (госдепартамент возглавлялся его братом, ныне покойным Джоном Фостером Даллесом).
Когда я собрался уходить, директор в тактичной форме предупредил меня, чтобы я соблюдал осторожность в своих контактах с советскими работниками и предложил, если я сочту это желательным, направлять копии всей переписки в министерство юстиции и ЦРУ через посредство Ларри Хаус-тона. Я ответил, что именно так и хотел сделать.
Несколько ранее за завтраком Томпкинс сказал мне, что разделяет мое чувство уважения к Абелю как к человеку и что он будет настаивать, чтобы полковника направили в такую тюрьму, где его природные таланты могли бы быть использованы наилучшим образом. Он сказал, что не считает целесообразным на данной стадии дела пытаться получить информацию от заключенного, поставив его в тяжелые условия. Я целиком был с ним согласен как адвокат Абеля и как американец. Если когда-либо Абель и решил бы заговорить, то этого следовало бы добиться не с помощью таких методов.
Через несколько недель после встречи с Алленом Даллесом мне сообщили, что государственный секретарь настроен против всяких переговоров, касающихся обмена Абеля, если он не будет признан русским. Если они хотят сделать такое предложение, то могут обратиться к ним через соответствующие каналы в государственный департамент.
Четверг, 20 марта
«Обвиняемый по делу «Соединенные Штаты Америки против Абеля», — писал я советскому послу Михаилу Меньшикову, — просил меня выяснить, имеется ли возможность организовать его переписку с ближайшими членами его семьи, проживающими в СССР. Ходатайство о разрешении такой переписки будет направлено тюремным властям США, если со стороны Советского правительства не будет возражений».
Я писал также, что мой клиент желает (в деле у меня была завизированная полковником копия документа), чтобы я передал им копию материалов защиты и всех материалов процесса, которые могут представлять интерес.
В течение последующих трех месяцев шла активная переписка между советским посольством в Вашингтоне и моей конторой, а американское правительство наблюдало, как мы играли в кошки-мышки в связи с вопросом предоставления Рудольфу права переписки. Если бы это было частным делом, его можно было бы решить за несколько минут. Но это были переговоры двух противостоящих друг другу мировых держав, отношения между которыми были крайне прохладными. Поэтому лишь в июле 1958 года Рудольф сумел написать своей жене, а в сентябре его письмо получило «санкцию», и только в декабре Елена Абель получила от мужа письмо — первое за полтора года, прошедшие с момента его ареста.
Русские ответили на мое первое письмо через неделю. Это была записка от их консульского отдела, в которой говорилось, что «в соответствии с их картотекой» Абель не значится как советский гражданин. Они вернули материалы процесса и записку как «не представляющие интереса». (Я нарочно послал материалы безукоризненно чистыми и аккуратно переплетенными. Когда они были возвращены, они были так захватаны и потрепаны, что было ясно, что их не только изучали, но и снимали с них копии.) Тем не менее в письме предлагалось организовать встречу Абеля с кем-нибудь из работников консульского отдела, с тем чтобы «выяснить этот вопрос».
По предложению министерства юстиции я сообщил С. Ве-шунову, начальнику консульского отдела, с которым переписывался, что по вопросу о встрече с Абелем ему следует вступить в контакт с государственным департаментом через соответствующие каналы. Я пояснил также, что, до тех пор пока будет оставаться возможность встречи Абеля с советским консульским работником, он останется в тюрьме на Уэст-стрит, пребывание в которой не засчитывается в срок наказания, и где он, конечно, не сможет получить ни строчки от своей семьи.
В заключение я писал: «Я сообщаю об этих фактах с тем, чтобы необходимость скорейшего разрешения этого вопроса стала очевидной».
Среда, 16 апреля
Утром я изложил суть нашей апелляции перед апелляционным судом Второго округа. Со мной был Том Дебевойс. Мало что можно было добавить к тому, что уже было сказано в наших опубликованных документах, однако судьи были очень внимательны и задали ряд вопросов. По-видимому, все сознавали, что, зайдя так далеко, мы в случае необходимости обратимся со своим делом в Верховный суд США.
Четверг, 24 апреля
В письме, которое я получил в этот день, С. Вешунов опустил свой официальный титул и свою государственную должность. Письмо содержало явное предложение заняться этим вопросом конфиденциально.
Письмо было написано на простой бумаге и пришло в таком же простом конверте без обратного адреса и без каких-либо пометок на внешней стороне. В отличие от предыдущего письма, на нем стоял штемпель почтового отделения в Нью-Йорке. Вешунов подписал письмо, но оно не содержало никаких других признаков, указывающих на его личность. В письме говорилось:
«Мы снова хотим обратить ваше внимание на тот факт… мы не располагаем какими-либо данными, подтверждающими то, что Абель является советским гражданином. В связи с этим мы не имеем законных оснований для того, чтобы поставить перед государственным департаментом вопрос о встрече вашего подзащитного с нашим консульским работником. Наш представитель готов встретиться с вашим подзащитным Абелем, если такая встреча может быть организована вами в качестве защитника Абеля. В этом случае мы были бы благодарны вам за сообщение о времени и месте встречи…»
Я был озадачен. Не подумали ли они, что, поскольку я обеспечил Абелю честную защиту, я попытаюсь потихоньку провести их человека в тюрьму на Уэст-стрит под видом моего «помощника»? Или это обычная процедура, применяемая во всех случаях и стоящая того, чтобы пойти на небольшой риск?
Я незамедлительно направил письмо в министерство юстиции. По телефону меня проинструктировали, чтобы я дал им возможность «немного попотеть». Русским я направил такое же письмо, как первое, в котором сообщил, что они должны связаться с государственным департаментом, а иначе нельзя будет ничего сделать, и добавил, что «независимо от гражданства Абеля фактом остается то, что он сделал заявление, в котором указывает, что его ближайшие родственники проживают в СССР и, если приговор, предусматривающий длительное тюремное заключение, будет утвержден, он хотел бы переписываться с ними. В связи с этим я прошу, чтобы этот вопрос рассматривался совершенно вне зависимости от его гражданства».
Когда я обо всем этом рассказал Абелю, он с усмешкой сказал:
— Вы не можете осуждать их за это, не правда ли?
Суббота, 24 мая
После нашей встречи в этот день у нас в течение некоторого времени встреч не было. Полковник в конце концов известил Управление тюрем о том, что он хочет начать отбывать свой срок. Ему сообщили, что в начале следующей недели он будет переведен в федеральную исправительную тюрьму в Атланте.
Было субботнее утро. Незаметно час проходил за часом. Мы говорили об Атланте и Юге, об искусстве — его любимых нью-йоркских художественных галереях, о бруклинских, которые он искренне любил, и о том, чем он будет заниматься те нескончаемые дни, которые ему предстояло провести в Атланте. В свойственной ему прозаической манере он сказал, что увлечение высшей математикой и его способности в этой области помогут ему сохранить душевное равновесие. Я вызвался достать необходимые ему учебники, поскольку небольшая тюремная библиотека, конечно, не располагает необходимой литературой.
— Поскольку впредь нам будет достаточно сложно встречаться лично, — сказал он, — я хочу, чтобы вы помогли мне составить завещание.
Руководствуясь его указаниями, я составил завещание, предусматривавшее, чтобы, в случае если он умрет в тюрьме, тело его предали кремации, а урну с прахом и все его имущество отправили семье. Я тут же на месте отдал завещание на перепечатку, а два дружески настроенных надзирателя выполнили роль свидетелей, и я передал ему экземпляр завещания.
Ничто в жизни разведчика, подумал я, не может показаться особенно привлекательным обыкновенному человеку. Если он работает успешно, о его деятельности никто не знает. Если он проваливается, он обретает дурную славу. Когда он оказывается в тюрьме, вся его дозволенная переписка подвергается цензуре, чужой человек составляет его завещание, и он должен быть готов умереть во враждебной стране.
У Абеля были и другие просьбы. Он просил, чтобы я продолжал заниматься вопросом о его переписке с семьей, а также попросил меня, если у меня будет время, писать ему по любым вопросам.
Четверг, 5 июня
«Я нахожусь в Атланте, штат Джорджия», — писал Рудольф. Полковник прибыл на место и сообщил свой обратный адрес: «Почтовый ящик ПМБ, Атланта, 15, Джорджия». Это было его первое письмо, и в нем сообщалось, что он благополучно устроился в тюрьме. К письму было приложено официальное заявление, в котором он поручал мне зарегистрироваться у начальника тюрьмы в качестве его адвоката, с тем чтобы я мог писать ему как «официально разрешенный корреспондент».
«Я чувствую себя хорошо и нахожусь в достаточно приличном состоянии. Имею больше физической нагрузки, чем раньше, — писал он. — Ничего не слышал от вас о результатах нашей апелляции, но, надеюсь, это не означает ничего плохого — просто задержка. Надеюсь, вы в добром здравии…»
Это письмо, как и все остальные пятьдесят восемь писем (не считая четырех рождественских открыток, написанных им лично), было написано на бумаге в линейку, как будто из школьной тетради. Он писал карандашом или чернилами и подписывался в зависимости от настроения «Рудольф», «Рудольф И. Абель» или «Р. И. Абель». Под его подписью каждый раз, независимо от его настроения, стоял его тюремный номер атлантской тюрьмы — № 80016. Присматривающий за ним тюремный воспитатель У. Е. Буш или какой-либо другой цензор читал каждое письмо и ставил штамп в верхнем правом углу. Несколько писем полковника читались (и затем уже отправлялись) даже в Вашингтоне. Очевидно, их направляли туда для получения «санкции».
В этом первом письме Абель сообщал о себе очень мало и ни на что не жаловался. Он упомянул, что его поместили в карантин, но больше ничего не объяснил.
Поэтому я был доволен, получив от полковника второе письмо, в котором он сообщал, что его перевели из карантина к обычным заключенным и что он уже работает.
«Я получил работу в мастерской прикладного искусства, что, конечно, весьма меня устраивает. Моя работа связана с шелкоірафией. Поскольку я никогда не занимался этим делом и здесь, по-видимому, ничто в нем не разбирается, я иногда занимаюсь интересными экспериментами. У меня есть несколько книг по этому вопросу, и я смогу получить еще. Это весьма сложный вопрос, и у меня будет много работы.
В ноябре мы будем очень загружены, поскольку нам предстоит изготовить шесть тысяч рождественских открыток для заключенных и большинство из них будет изготовлено методом шелкографии. У меня в голове несколько замыслов, и я пришлю по образцу вам и Тому Дебевойсу».
Письма Абеля строились по определенной схеме. Он хотел знать содержание всех газетных и журнальных статей о своем деле. Часто он интересовался состоянием своих скудных финансов и постоянно спрашивал меня о своем имуществе — и так до тех пор, пока нам не удалось переправить это имущество его «жене» по известному адресу в Восточной Германии. О тюремной жизни он писал мало — в основном о своей художественной работе, но подробно, с чувством обиженного человека он останавливался на вопросе о переписке с семьей. Эта проблема мучила нас почти все время, пока он находился в тюрьме. Однако главным образом его мысли были заняты делом и апелляцией. По крайней мере в половине писем высказывались его взгляды, надежды и мысли по этому поводу. И наконец, все его письма были письмами воспитанного джентльмена. Он не жаловался на свою судьбу и не критиковал своих тюремщиков. Он всегда передавал теплые приветы моей семье и моим сотрудникам, выполнявшим иногда его поручения (покупка книги, возобновление подписки на «Нью-Йорк тайме» или «Сайентифик Америкен», пересылка его имущества, получение для него нового зубного протеза и так далее), а также моему молодому коллеге адвокату Тому Дебевойсу. Я написал ему, что Том является кандидатом от республиканской партии на пост окружного прокурора в округе Виндзор, штат Вермонт. На это он ответил:
«Прошу передать Тому мои наилучшие пожелания. Я несколько не уверен, нужно ли пожелать ему успеха на выборах или нет. Вероятно, я отношусь предвзято (к прокурорам) и поэтому воздержусь…»
Из его писем я мог судить, что полковник должным образом устроился в атлантской тюрьме, так же, как ранее в тюрьме на Уэст-стрит.
Четверг, 12 июня
В этот день глава консульского отдела советского посольства С. Вешунов капитулировал. В третий раз он разъяснил, что Абель не числится среди советских граждан, но, учитывая желание Абеля написать своей семье, «которая предположительно проживает или проживала в СССР, мы просим направлять письма вашего подзащитного в консульский отдел посольства. Консульский отдел попытается принять меры к розыску его семьи, с тем чтобы передать его письма».
Я незамедлительно написал Рудольфу. Я сообщил ему, что, на мой взгляд, это «серьезная уступка с их стороны и что они в значительной мере пошли навстречу в деле удовлетворения его просьбы».
Затем министерство юстиции дало свое согласие на переписку, сообщив мне, что Абель должен писать своей семье (по-английски), руководствуясь обычными тюремными правилами, и передавать письма начальнику тюрьмы. Письма, после того как их «должным образом просмотрят» в министерстве юстиции, будут переправляться мне, а я уже должен буду по почте направлять их советскому консулу. Чтобы наладить все это, конечно, потребовались недели.
Первое письмо Абеля было адресовано «Эллен» — английский вариант от имени «Эля». Она же подписывала свои письма «Хэллен», причем имя это писала по-разному (то Хэл-лен, то Хэлен):
«Дорогая Эллен!
Впервые за очень долгое время получил возможность написать тебе и нашей дочке Лидии. Искренне верю, что это письмо дойдет до вас и вы сможете ответить мне.
Можно предполагать, что человек, который доставит это письмо, расскажет вам о моем положении в настоящее время. Однако лучше будет, если я сообщу вам сейчас следующее: я нахожусь в тюрьме и осужден на тридцать лет за шпионаж; в настоящее время содержусь в федеральной исправительной тюрьме в Атланте, штат Джорджия.
Я здоров и заполняю время занятиями по математике и искусству. Музыка пока исключается, но, может быть, позже я смогу снова заняться ею.
Пожалуйста, не очень беспокойся о том, что произошло. В конце концов, тут уже ничем не поможешь. Лучше заботься о себе и надейся на скорую встречу.
Здоровье — дело важное. Пожалуйста, сообщи мне, как у тебя и Лидии со здоровьем. Из того, что мне было известно раньше (кажется, более трех лет назад), состояние твоего здоровья было не очень хорошим. Пожалуйста, постарайся сделать все, чтобы поправить его. Я знаю, что это нелегко, но ты должна постараться.
Напиши мне, как Лидия живет со своим мужем. Стал ли я уже дедушкой?
Если мое письмо покажется коротким и не очень содержательным, это отчасти объясняется обстоятельствами. Однако я попытаюсь писать как можно больше и надеюсь, что вы тоже сможете писать много. Передай привет всем нашим друзьям, и, повторяю еще раз, пожалуйста, позаботьтесь о себе.
Крепко любящий ваш муж и отец Рудольф».
В нижнем левом углу стояли его подпись и тюремный знак: «Р. И. Абель, № 80016».
18 декабря г-жа Абель прислала ответное письмо, в котором сообщала, что она только что получила письмо Рудольфа, пересланное через Красный Крест. Она писала: «Понимаешь, им потребовалось много времени, чтобы найти нас».
Что касается положения, в котором оказался ее муж, то она писала, что в газетах обо всем сообщалось, «но мы не поверили в это… Мы глубоко убеждены в том, что все происшедшее с тобой — лишь результат недоразумения, что ты, конечно, невиновен и что твоя печальная история должна иметь хороший конец».
Пятница, 11 июля
В этот день апелляционный суд единогласно подтвердил виновность Абеля и данный ему тридцатилетний срок тюремного заключения.
Суд заявил, что, хотя окружной судья иногда допускал ошибки, тем не менее «эти ошибки не носят столь серьезного характера, чтобы потребовалось новое рассмотрение дела, тогда как материалы процесса прямо говорят о виновности обвиняемого…»
Что касается основного вопроса относительно обыска и ареста Абеля и его имущества, то судьи выразили мнение, что нет оснований проводить различие между законным арестом за совершенное преступление и процедурой депортации. Если обыск был законным в первом случае, когда он был связан с фактом ареста, то он должен быть законным и во втором случае.
(«По моему мнению, — писал впоследствии Абель, — решение апелляционного суда, хотя и многословное, фактически не затрагивает вопроса, который мы подняли в апелляции. Некоторые аргументы, выдвинутые судом, противоречат друг другу, а другие искажают выдвинутые нами аргументы. Я по-прежнему полагаю, что суд не столько дал ответ на важнейшие вопросы, сколько обошел их».)
Апелляционный суд следующим образом ответил на наш довод о том, что обвинение не сумело доказать, что передача военных секретов действительно имела место: «Люди, намеревающиеся собирать и передавать только ту информацию, которая доступна всем, обычно не считают необходимым использовать тайные коды, пустотелые монеты, карандаши и спичечные коробки».
Судья в заключение любезно отметил, что назначенные судом защитники, «представляя интересы апеллирующего, проявили редкие способности и действовали в самых лучших традициях своей профессии. Мы искренне благодарны им за оказанные ими услуги».
Полковник без всякого промедления напомнил мне о моем обещании подать апелляцию в Верховный суд США. «Что касается апелляции в Верховный суд, — написал он мне тут же, — я полагаю, что в соответствии с имеющейся у нас договоренностью вы предпринимаете необходимые меры».
Я пришел к выводу, что «в работе» Рудольфу трудно было угодить. Для того чтобы быть помощником и подчиненным полковника Абеля, когда он был в зените своей деятельности, наверное, требовались большая самодисциплина и величайшее внимание ко всем деталям. Хэйханен никогда не отвечал этим требованиям.
Помимо указанного выше прямого напоминания он писал только:
«У меня все нормально, никаких неприятностей».
Четверг, 19 августа
Год назад я внезапно прервал свой отпуск и стал защитником полковника Абеля в соответствии с назначением суда. Теперь мне вновь пришлось прервать свой отпуск, для того чтобы подготовить апелляцию в Верховный суд. Том Дебевойс был настолько любезен, что приехал ко мне из Вермонта, и мы вместе подготовили ходатайство об истребовании дела, с тем чтобы Верховный суд рассмотрел его и проверил работу нижестоящих судебных инстанций.
«У нас нет безусловного права на рассмотрение Верховным судом нашего дела, — разъяснял я Абелю в письме, — оно будет рассматриваться лишь в том случае, если за это проголосуют четыре члена суда из девяти… Я надеюсь на успех, хотя питал аналогичные, но не столь большие надежды, когда дело было направлено в апелляционный суд. Если Верховный суд удовлетворит наше ходатайство об истребовании дела, это, конечно, будет весьма ободряющим признаком…»
Понедельник, 13 октября
Полученная мною телеграмма была сформулирована кратко и изложена сухим юридическом языком, но ее содержание имело большое значение: «Ходатайство об истребовании дела «Соединенные Штаты Америки против Абеля» сегодня удовлетворено. Следует письмо».
Давая согласие на рассмотрение нашего дела, Верховный суд сводил свое вмешательство к двум конкретным вопросам, касающимся конституционных ограничений в отношении незаконных обысков и арестов:
1. Можно ли считать допустимым обыск без ордера, если он связан с арестом, осуществляемым на основе иммиграционного законодательства, а не уголовного?
2. Могут ли захваченные предметы быть приняты как вещественные доказательства, если они не связаны с арестом, произведенным на основе ордера или предписания, выданного иммиграционной службой?
Эти вопросы касались самого существа нашего дела.
Абель, однако, был озабочен тем, что Верховный суд решил рассмотреть только вопрос об обыске и аресте. «Мне кажется, — писал он, — что другие выдвинутые нами пункты также существенны и заслуживают внимания».
Я старался успокоить его, разъясняя, что ограничение круга вопросов при обжаловании позволит гораздо глубже, чем раньше, рассмотреть пункт об обыске и аресте. Он был для нас основным моментом в деле. «Что касается других пунктов нашей апелляции, то не думайте, что их не будут рассматривать. Члены суда познакомились с ними, они содержатся в материалах дела, и я уверен, что, хотя о них не упоминается, они послужили одной из причин, в силу которых суд принял дело к рассмотрению».
Пятница, 21 ноября
Том Дебевойс приехал из Вермонта, и мы провели несколько дней и ночей, подготавливая проект записки для Верховного суда. Вероятно, в результате перенапряжения я пал жертвой вирусного заболевания и пробыл десять дней дома, в основном лежа в постели и занимаясь переработкой нашей записки.
Сегодня я направил копию записки в Атланту и написал, что на сегодняшний день это лучший вариант ходатайства. Я пояснил, что представители обвинения дают тридцать дней для подготовки ответа, а затем мы будем располагать двадцатью днями, чтобы дать свой ответ. Я писал, что нас вызовут в Вашингтон для устного собеседования примерно в феврале и что суд вынесет свое решение весной.
Четверг, 4 декабря
Когда я дал согласие выступить в качестве защитника полковника Абеля, я не имел представления, что мне придется также выступать в качестве его Санта Клауса. Но дело было сделано.
В это время года всем обитателям атлантской тюрьмы вручали «подарочные заявления», которые они с надеждой заполняли и отправляли своим родственникам или кому-либо другому, кого они избирали в качестве своего Санта Клауса. Мне тоже выпала эта роль в качестве юридического представителя полковника и единственного человека, с которым он переписывался в Соединенных Штатах Америки. Его «подарочное заявление» прибыло сегодня. Рудольф просил прислать книги. Он хотел получить четырехтомную «Социальную историю искусства» и четыре фунта простого молочного шоколада (он пояснил, что этот шоколад ему нравится и к тому же он может использоваться при осуществлении всевозможных сделок в тюрьме).
Кроме того, он писал: «Я был очень занят, изготовляя рождественские открытки для заключенных. Полагаю, когда я закончу, у меня будет отпечатано всего примерно две тысячи пятьсот штук. Поверьте мне, я с удовольствием делаю эту работу. Поскольку некоторые из них печатаются в пяти цветах — это значит, что я смотрел на каждый рисунок от пятисот до двух с половиной тысяч раз, достаточно много для того, чтобы любой рисунок стал уже казаться ужасным».
(Позже он писал, что открытки, «по-видимому, понравились заключенным, поскольку после распределения их осталось очень мало. Это меня в какой-то мере удовлетворило».)
Рудольф изготовил открытки семи разных видов, включая одну на испанском и одну на еврейском языках. В соответствии с тюремными правилами он мог мне послать только одну открытку. На ней был изображен в черно-белых тонах зимний пейзаж, и она имела красную окантовку. Изображенный пейзаж мог встретиться в Новой Англии или Сибири: на фоне темных сосен, занесенных снегом, домик, а на переднем плане — группа белых березок.
На открытке было напечатано: «Лучшие пожелания по случаю Рождества». Внизу незаметные для невнимательного человека стояли инициалы художника — «Р. И. А».
1959 год
Четверг, 8 января
Первое письмо от полковника в новом году было полно надежд. Он получил весточку от жены и дочери. Они ответили на его письмо, посланное прошлым летом, которое в конце концов было доставлено по адресу, предположительно через международную организацию Красного Креста.
«Нет надобности говорить, как я счастлив, получив это письмо, и нахожусь в ожидании новых писем в будущем», — писал Абель.
Эллен Абель писала: «Мы делаем все, что можем, для того, чтобы добиться твоего освобождения, чтобы ты был снова с нами. Все, кто знает тебя лично, в том числе наши друзья, когда я им рассказываю о твоей истории, говорят, что ты невиновен, и верят, что ты будешь снова с нами».
Может быть, г-жа Абель верила в это, но я склонен думать, что эти строчки были включены в письмо для сведения государственного цензора. Она спрашивала о более важном обстоятельстве: «Не нуждаешься ли ты в деньгах? Если нуждаешься, мы можем переслать тебе, только узнай у своего юриста, как это сделать».
Следуя совету жены, Рудольф попросил меня сообщить о состоянии его финансов — о текущих расходах и об оценке («необязательной» — добавил он шутливо) возможных расходов в будущем. Он также попросил меня посоветовать, каким образом его жена может переслать деньги.
Когда Абель был арестован, ходили слухи, что полковник припрятал деньги по всему Нью-Йорку. Согласно одной версии, он зарыл в Проспект-парке миллион долларов. Однако в той мере, в какой это удалось установить ФБР, он располагал суммой в двадцать одну тысячу долларов, а наши судебные издержки к данному моменту составляли 13 227 долларов 20 центов, в основном на подготовку печатных и стенографических материалов. С согласия Абеля и одобрения окружного суда произведенные моей фирмой расходы были полностью компенсированы. Штраф, назначенный судом в сумме трех тысяч долларов, оставался неуплаченным в ожидании рассмотрения апелляции. Предстояло также получить установленный мне гонорар — десять тысяч долларов за весь процесс по этому делу.
Что касается будущих расходов, то их трудно было определить заранее. Если в силу тех или иных причин приговор будет пересмотрен, Абелю будет возвращена солидная сумма. Однако в случае пересмотра дела первоначальные расходы на защиту значительно возрастут.
Я сообщил обо всем этом Рудольфу и сделал следующий вывод: хотя, по всей вероятности, потребуются дополнительные средства, я не могу определить даже приблизительно, какая именно сумма ему будет нужна.
Еще два вопроса занимали мысли полковника и получили отражение в письме. Во-первых, яі по-видимому, забыл возобновить его подписку на «Нью-Йорк тайме» и ему уже в течение пяти дней приходилось обходиться без кроссвордов, без игры в «бридж» и без международных новостей. Он сразу же привлек меня за это к ответственности. «Во-вторых, — писал он, — я хочу взвалить на вас еще одну задачу. Речь идет о судьбе моих пожитков». Он хотел переправить семье все свое имущество, в том числе картины, фотоаппараты, книги, ноты, музыкальные инструменты, различный инструмент — все, что власти согласятся отдать.
Пятница, 13 февраля
Это было простое письмо, которое начиналось следующим образом: «Я осмеливаюсь писать вам, после того как узнала из газет о том весьма гуманном отношении, которое вы проявили к моему мужу — Рудольфу Абелю».
Само по себе письмо было тривиальным. Важно, однако, то, что оно было вообще написано. Это было первое звено в процессе установления связи между администрацией Соединенных Штатов Америки (к этому времени они должны были понять, что я покажу это письмо властям в Вашингтоне) и кем-то за «железным занавесом», кем-то, кого беспокоила судьба полковника КГБ Рудольфа Ивановича Абеля.
Письмо было напечатано на машинке на листе плотной белой канцелярской бумаги. На листе не было каких-либо печатных оттисков, имеющихся иногда на почтовой бумаге, но бумага имела явно различимые немецкие водяные знаки. Письмо было подписано «Э. Абель» и содержало следующий обратный адрес: «Фрау Е. Форстер, для Э. Абель» («она — мой близкий друг», — писала Э. Абель), Лейпциг, 22, Эйзенахер-штрассе, 24, Германия.
Г-жа Абель писала, что она благодарна за мои усилия «облегчить участь нашего дорогого мужа и отца». Она писала, что прошло уже четыре недели с того дня, как она получила письмо от мужа, и я единственный человек, который может сообщить ей о «здоровье Рудольфа, а также о том, нуждается ли он в помощи и получил ли он наши письма».
Я воспользовался ее словами «нуждается ли он в помощи» в качестве предлога для того, чтобы позвонить в министерство юстиции и сообщить, что получил письмо от некой г-жи Абель из Лейпцига. Ранее я запрашивал министерство юстиции о том, есть ли возражения против того, чтобы Абель получил деньги или переслал свое имущество семье. Ответа я не получил, однако это новое письмо, по-видимому, требовало принятия каких-то мер и быстрого ответа.
Через несколько часов мне позвонили, и правительственный чиновник заявил, что против того, чтобы полковник получил деньги от семьи, возражений нет, а также против того, чтобы он переслал свои вещи жене.
Получив эти заверения, я написал г-же Абель, что ее муж чувствует себя достаточно хорошо, работает в тюремной художественной мастерской и что «он изготовил очень красивые рождественские открытки для заключенных». «В тюрьме, — добавил я, — установлен весьма гуманный порядок, и вы не должны беспокоиться о здоровье мужа. Мы в нашей стране придерживаемся только самых гуманных методов содержания заключенных в тюрьме».
Я писал «г-же Абель» (я сомневался в том, что моя корреспондентка была настоящей женой Абеля), что в данный момент ей следует позаботиться лишь об одном, а именно о гонораре для адвоката ее мужа. Чтобы она не поняла меня неправильно, я пояснил: «Когда суд назначил меня защитником, я заявил, что гонорар, который получу, передам на благотворительные цели. Затем мы с вашим мужем договорились о гонораре в десять тысяч долларов за мои услуги в течение всего процесса, включая апелляцию в Верховный суд. Я лично не получу никакого вознаграждения за защиту вашего мужа».
(Тому Дебевойсу оплачивались карманные расходы; Фреймену, пока он был занят по делу, заработную плату выплачивала его юридическая фирма.)
Я настаивал на уплате десяти тысяч долларов, поскольку полагал, что, если деньги мне пришлет его семья или они будут переданы на благотворительные цели, это неизбежно произведет хорошее впечатление на общественность и положительно скажется на престиже адвокатуры. В том случае, если Верховный суд отменил бы приговор, защита сумела бы парировать нападки и критику, как, например, «эти юристы всегда найдут какую-нибудь лазейку», и так далее.
Нельзя сказать, чтобы в своем ответном письме г-жа Абель выражала большую готовность к сотрудничеству. «Я попытаюсь сделать все возможное, чтобы погасить финансовые обязательства моего мужа, — писала она, — хотя предвижу значительные трудности».
Это второе письмо было таким же вежливым, как и первое, однако переписка принимала все более сентиментальный характер. Она писала: «Я очень рада узнать, что по крайней мере физически Рудольф находится в хорошем состоянии, и хотела бы надеяться, что он сможет вернуться к своим близким и к своей семье. Мне трудно судить о преступлении, якобы им совершенном, но я могу сказать вам как его жена, что Рудольф — честный и чистый человек с добрым сердцем и что он не заслуживает наказания. Вы знаете, что ему идет уже шестой десяток и поэтому он нуждается в мирной и спокойной жизни в семейном кругу».
После того как дело Абеля было закончено, один сотрудник ФБР, просматривавший все письма из Лейпцига, а также те, которые ранее зачитывались на суде, в разговоре со мной отмечал явное различие языка и стиля в письмах, полученных мною от «г-жи Абель», и в тех, которые Рудольф получил от своей жены до ареста.
Среда, 25 февраля
«Сегодня Верховный суд будет разбирать одно из самых трудных дел в своей практике — дело об осуждении Рудольфа Ивановича Абеля по обвинению в том, что он является советским шпионом».
Мы были в Вашингтоне, и Том Дебевойс читал вслух утреннюю газету.
Мы прибыли поездом из Нью-Йорка накануне вечером и теперь, сидя за кофе, по очереди читали друг другу нью-йоркские и вашингтонские газеты. Мы этим занимались, чтобы убить время и подбодрить себя в последние оставшиеся часы перед нашим выступлением в суде. В течение последнего месяца мы уже второй раз посещали Вашингтон. 22 января мы прибыли в суд, уже готовые вступить в полемику, но неожиданно дело было отложено. Это отнюдь не способствовало моему спокойствию.
Выступать перед Верховным судом США — это всегда волнующее событие для любого юриста. Здание суда великолепно. Зал суда поражает своим величием. Судьи необыкновенно проницательны, и состязаться с ними — трудная задача. Естественно, здесь атмосфера более напряженная, чем в окружном суде в Бруклине.
Внутри здания люди стояли в коридорах у стен, ожидая, когда откроют двери для публики. В соответствии с правилом, установленным судом, каждый желавший присутствовать на заседании должен был заранее зарезервировать себе место. Вашингтонские друзья рассказали мне, что дело Абеля вызвало некоторое возбуждение в так называемом посольском ряду. К началу слушания дела в суд должны были прибыть супруга Джона Фостера Даллеса и сотрудники английского посольства.
Я начал следующим образом:
— Поскольку стоящие перед судом вопросы были детально изложены в записке, мне представляется, что, начав с краткого объяснения обстоятельств, не входящих в дело, я могу оказать суду наибольшее содействие.
Прежде всего с точки зрения тех вопросов, которые стоят перед судом, теряет всякое значение то обстоятельство, является или нет ходатай Абель советским шпионом. Когда он, находясь в Техасе, полагал, что его вышлют из страны, он заявил, что является советским гражданином и что в течение девяти лет незаконно находился в США, проживая под различными вымышленными фамилиями. В результате обыска и наложения ареста на имущество, произведенных в связи с этим делом, были обнаружены коротковолновая радиоаппаратура, карты оборонительных зон США, пустотелые монеты и другие контейнеры с микрофильмами на русском языке. Он пытался получить помощь от Советского правительства, которое заявило, что ничего не знает о его существовании. Все это с полным основанием позволяет заявить, что разумные присяжные вполне могли прийти к выводу, что этот человек является русским шпионом.
Этот вывод совершенно не связан с вопросом о том, была ли его виновность доказана на основе достаточных улик так, чтобы не оставалось разумных оснований для сомнения в предъявленных ему обвинениях. Короче говоря, вопрос сводится к тому, была или нет предоставлена Абелю возможность воспользоваться должной юридической процедурой.
Во-вторых, это не такое дело, по которому адвокат ходатая считал бы нужным доказывать, что ФБР и родственный административный орган, Управление иммиграции и натурализации, допустили вопиющие нарушения гражданских свобод какого-то лица. Действительно, многие люди в Соединенных Штатах Америки и, пожалуй, некоторые из участвующих в этом суде могут быть весьма обеспокоены фактами, связанными с этим делом, а также тем, что сообщается в книге «История ФБР», которая цитируется в моей записке: «зачастую тайные методы необходимы для того, чтобы раскрыть тайную деятельность, например для того, чтобы завладеть дневником шпиона или секретными документами.
Федеральный суд может не принять в качестве доказательства то, что написано в дневнике, но в нем может содержаться информация…», где, очевидно, говорится, что незаконные обыски и изъятие имущества постоянно производятся ФБР.
Однако я хочу разъяснить, что отмена приговора, чего я добиваюсь от суда, не обязательно должна основываться на том, что гражданские свободы этого человека были нарушены. Другими словами, мое обращение к суду было бы таким же правомерным, даже если бы мы исходили из неоправданного, по моему мнению, предположения, будто ФБР каким-то удивительным образом может осуществлять на законном основании обыски и изъятие имущества, нарушающие Четвертую поправку.
Затем я развил тезис насчет того, что в середине июня 1957 года министерство юстиции оказалось перед дилеммой: арестовать Абеля и предъявить ему обвинение в шпионаже в пользу иностранного государства, как это предписывают федеральные законы, или тайно арестовать его и попытаться заставить перейти на нашу сторону.
Необходимо было сделать выбор, и он был сделан, в связи с этим я утверждаю, что, даже если бы министерство юстиции обладало подобными чрезвычайными правами на осуществление незаконных обысков и арестов, оно не могло бы сначала идти по дороге тайной — затеять игру и проиграть ее, когда Абель отказался сотрудничать, — а затем пытаться пойти по другой дороге, по дороге нормальной административной процедуры, пытаясь на словах воздать должное справедливой юридической процедуре.
Кроме того, это дело не связано с вопросом просто об изъятии некоторых вещей, которые впоследствии были использованы в качестве доказательств для вынесения обвинительного приговора. Невозможно избежать того простого факта, что этот человек и все его имущество исчезли здесь, в Соединенных Штатах Америки, на несколько дней.
В результате предъявления доказательств, полученных путем незаконного обыска и ареста — незаконного, поскольку ордер на обыск не был выдан, — этот человек был обвинен в преступлении, предусматривающем смертную казнь. Уголовное следствие, ведущееся с помощью подобных методов и практики, может иметь место только в полицейском государстве.
Мое выступление и затем ответ на аргументы, выдвинутые обвинением, заняли полтора часа. Последнюю часть моего выступления пресса сочла возможным цитировать:
«В отличие от вышеизложенного, в данном случае в основе нашей аргументации лежат простые и ясные положения Четвертой поправки к Конституции США, являющейся частью Билля о правах. Эта поправка была принята ввиду требований многих штатов, опасавшихся слишком сильного центрального правительства и задерживавших ратификацию конституции до тех пор, пока в нее не будут включены соответствующие гарантии.
Осуждение этого человека за преступление, наказуемое смертной казнью, на основе доказательств, добытых подобным путем, следует просто сопоставить с незамысловатыми, но обязательными для нас предписаниями Четвертой поправки: «Право народа на охрану личности, жилища, бумаг и иму-ществ от необоснованных обысков или арестов не должно нарушаться…»
С самого начала обвинение утверждало, что арест, произведенный утром 21 июня, был законным, а поэтому законным являлся и обыск. «Нет разумного основания проводить различие между арестами в целях депортации и арестами за совершенное преступление… должны существовать какие-то полномочия производить обыск в связи с арестом, осуществляемым по ордеру иммиграционных властей», — так говорил заместитель министра юстиции Рэнкин.
Я направил Абелю экземпляры всех записок, представленных обвинением. Все они вызвали с его стороны не очень острую критику. Когда он прочел приведенные выше слова, сказанные на заседании Верховного суда, он написал: «Обвинение, по-видимому, придерживается здесь той же идеи, что и в представлявшихся им ранее записках, пожалуй, исходя из предположения, что то, что удавалось раньше, удастся и впредь».
Настаивая на том, что обыск был законным, заместитель министра юстиции теперь говорил:
— Когда на законном основании производится арест, обыск в связи с произведенным арестом лиц и помещения, в котором они находятся, без ордера, а также изъятие предметов, которые могли быть изъяты в случае, если бы обыск производился на основании ордера, не являются антиконституционными.
Председатель суда Уоррен задал заместителю министра вопрос:
— Полагали ли власти в момент ареста, что они в ходе обыска получат достаточно доказательств для подтверждения обвинения в шпионаже?
— Считалось весьма маловероятным, — сказал заместитель министра Рэнкин, — что на это можно рассчитывать, имея дело с таким опытным человеком, как Абель. Трудно было предположить, что такой опытный человек станет оставлять улики, которые могут быть использованы против него.
Я был озадачен. Разве Хэйханен не сообщил им, что они могут найти? И разве нельзя предположить, что агенты, находившиеся в номере по соседству с номером Абеля в гостинице «Латам», проскользнули незаметно в номер 859, когда полковник находился в районе Бруклина, где сотрудники ФБР наблюдали за ним через бинокль?
В своем выступлении я сообщил суду, как сотрудники ФБР ворвались в номер Абеля, назвали его «полковником» и пытались добиться согласия «сотрудничать» с ними. Никакого ареста не было бы и представители иммиграционных властей ждали бы в холле, если бы Абель согласился работать на правительство Соединенных Штатов Америки.
Когда я дошел до этого момента, судья Франкфуртер спросил меня, не считаю ли я обязанностью каждого гражданина, в том числе и Абеля, сотрудничать с представителями облеченных властью органов, таких, как ФБР.
— Что бы вы сделали при подобных обстоятельствах? — спросил он.
— Господин судья, — сказал я, — если бы кто-нибудь ворвался в мой дом без ордера в семь часов жарким летним утром, когда я голым спал поверх простыни, я просто не знаю, что произошло бы. Но, пожалуй, скажу следующее: они бы поняли, что попали в передрягу.
Франкфуртер сухо заметил:
— Я в этом не сомневаюсь.
Все это вызвало смех среди судей и публики.
В своем заявлении заместитель министра юстиции подчеркивал, что это дело связано с вопросами национальной обороны.
Когда закончились выступления сторон, суд принял апелляцию к рассмотрению. Затем председатель суда от имени всего суда тепло поблагодарил защиту. Он сказал:
— Полагаю, что за все время моей работы в этом суде никто не выполнял более трудной, требующей самопожертвования задачи. Мы чувствуем себя обязанными вам и вашему помощнику. Нас очень радует, что члены Ассоциации адвокатов готовы взять на себя выполнение такого рода общественной обязанности в подобном деле, которое в обычных условиях было бы для них неприятным.
К шести часам дня я был снова в Бруклине на деловом совещании банкиров и юристов.
Понедельник, 23 марта
Я послал Абелю письмо, в котором писал:
«Понедельник — это тот день, когда Верховный суд выносит свои решения. Теперь я каждый раз по понедельникам завтракаю в клубе адвокатов на Бродвее, 115, где установлен телетайп, передающий сообщения агентства Ассошиэйтед пресс. В клубе стюарду дали указание следить, не появится ли сообщение о решении по нашему делу.
Лично я полагаю, что вам следует ожидать с оптимизмом верховного исхода дела. Но что предпримут власти, я не могу предсказать. Вы, конечно, понимаете, что можете вторично предстать перед судом…»
Сегодня мое ожидание закончилось. Из сообщения по телетайпу в клубе адвокатов я узнал, что Верховный суд только что принял решение снова заслушать стороны по этому делу 12 октября, то есть через семь месяцев.
«Это удивительное решение, — писал я Рудольфу. — Мне трудно поверить, что суд был намерен подтвердить приговор, и поверить, что, желая вообще отменить приговор по основным вопросам, суд не хотел принять столь коренное решение именно в данный момент. Как вы знаете, Верховный суд последние месяцы подвергался сильной критике со стороны общественности. Однако я полагаю, что время работает на нас, поскольку любой шаг в сторону смягчения международной напряженности (вроде намечающейся конференции в верхах) может иметь благоприятные последствия. А пока что у нас нет иного выбора, как продолжать начатое».
Понедельник, 30 марта
Абель обладал сверхъестественной способностью примиряться с обстановкой и событиями. И у него существовала привычка уделять внимание самым различным мелочам, даже находясь в тюрьме, где он, по-видимому, должен был испытывать неудобства, горести и разочарования.
Вот и сейчас прошла всего лишь неделя после решения Верховного суда, означавшего, что ему придется сидеть в тюрьме семь месяцев до следующего рассмотрения дела, а затем еще несколько месяцев до принятия окончательного решения, тем не менее следующий отрывок из его письма показывает, чем он все время интересовался.
«Что касается моих вещей, то я полагаю, что, если их упаковать, они займут максимум сто двадцать кубических футов объема и будут весить не больше пятисот фунтов. Я имею в виду одежду, фотоаппараты, линзы, книги, ноты, картины. Мне бы хотелось получить также некоторые мелкие инструменты, но я полагаю, что нельзя будет послать кого-нибудь, чтобы произвести отбор, поэтому мы не будем говорить о них. Там, однако, имеются денсиметр, некоторые электроизмерительные приборы…»
Он ни на минуту не забывал, что правительство дало разрешение на пересылку его вещей семье, и он ненавязчиво напоминал мне об этом.
Я сообщил полковнику Абелю, что в кругах адвокатуры решение Верховного суда о дополнительном слушании сторон единодушно расценивается как наша частичная победа.
Абель ответил: «Что касается вашего дальнейшего участия в деле, в случае если оно будет направлено на новое рассмотрение, то я был бы очень рад, если бы вы изыскали возможность продолжить работу. Я глубоко верю в вашу честность и способности и весьма признателен вам за то, что вы для меня сделали. Однако мне не хотелось бы вновь причинять вам беспокойство… К сожалению, я не имею средств, чтобы нанять адвоката, — это довольно серьезная проблема для меня».
Пятница, 15 мая
Наряду с другими делами мы продолжали заниматься сбором и упаковкой вещей Абеля для отправки в Восточную Германию. Меня отнюдь не радовал этот аспект миссии, возложенной на меня судом. Прокурору Уикерехэму я настойчиво повторял, что буду заниматься этим только после того, как у меня будет полная уверенность, что я не оказываю содействия шпионажу.
Я отмечал в письме, адресованном министерству юстиции, что не считаю, что порученное мне судом дело требует, чтобы я выступал в роли агента по пересылке вещей. Тем не менее я готов принять участие в этом щекотливом деле, но настаиваю на том, чтобы представители властей тщательным образом осмотрели все вещи Абеля до того, как они будут отправлены за «железный занавес».
Прошло семь месяцев, прежде чем вещи Абеля были отправлены в Восточную Германию.
Понедельник, 18 мая
Я прибыл в Атланту. Выйдя из такси, я остановился и оглядел массивные каменные стены, башни, вооруженную охрану и огромные главные ворота. Это была федеральная исправительная тюрьма Атланты, унылая, голая каменная крепость. Я вспомнил описание первого впечатления заключенного о тюрьме, которое прочел в одном из тюремных журналов, присланных мне Абелем: «Если он никогда ранее не бывал в тюрьме, то прежде всего сама форма здания внушала ему страх».
Сначала я встретился с начальником тюрьмы Уилкинсоном, который рассказал мне, что Абель вполне здоров и хорошо приспособился к режиму. Как мне было уже известно, Абель по-прежнему хорошо уживался с семью соседями по камере, в том числе и с человеком, осужденным за похищение детей. Однако начальник тюрьмы предупредил меня, что, до тех пор пока Абель находится в его распоряжении, он считает, что следует быть готовым к тому, что какой-нибудь молодой уголовник попытается убить советского полковника, ошибочно полагая, что благодаря этому он может стать популярным героем.
Начальник тюрьмы устроил мне встречу с Рудольфом в отдельной комнате для посетителей и сказал, что мы можем не ограничивать себя временем.
Тюремная жизнь состарила полковника. Он выглядел исхудавшим. Однако он держался бодро в своем выцветшем сером тюремном наряде. Пожимая мне руку, он улыбнулся, и это был все тот же подлинный Рудольф. Он был в хорошем настроении. Полагаю, это объяснялось тем, что наши дела, казалось, неплохо продвигались в Верховном суде.
Я направил разговор на тему о его работе в художественной мастерской. Он по-прежнему с энтузиазмом говорил о своих экспериментах в области шелкографии и с очевидной гордостью сообщил мне о том, что сделал много рисунков для тюремного журнала.
Пытаясь сострить, я сказал: «Ваша нынешняя студия, несомненно, лучше бруклинской».
Смеясь, полковник ответил: «Освещение здесь гораздо лучше, да и плата за помещение меньше».
На мой вопрос, есть ли у него друзья среди заключенных, он ответил, что выделяет лишь одного человека.
«Это очень интересный человек, — сказал он, — и мы очень много времени проводим вместе».
Абель рассказал, что это бывший офицер американской армии, служивший во время второй мировой войны в Управлении стратегических служб. Позже он возглавлял группу, занимавшуюся сбором доказательств о зверствах немцев в концентрационных лагерях. Поскольку я возглавлял эту работу при подготовке крупнейшего Нюрнбергского процесса против Геринга и его сообщников, я, должно быть, встречался с этим другом Абеля, но припомнить его я не мог. Предвосхищая мой следующий вопрос, полковник сказал, что этот человек был осужден за участие в советской шпионской организации, действовавшей в Германии после войны.
(Вернувшись в Нью-Йорк, я проверил данные, касавшиеся этого человека, и обнаружил, что все, что он рассказал Абелю, было правдой.)
Не было сомнения в том, что Абель каким-то образом получал информацию «извне». Когда я сказал ему, что на обратном пути собираюсь остановиться в Вашингтоне, он заметил, что ему известно, что в музее ФБР в здании министерства юстиции организована новая выставка, посвященная его делу, и высказал пожелание, чтобы я познакомился с ней.
«Вы можете обнаружить там кое-что полезное для повторного выступления на суде», — сказал он. Он добавил также, что директор ФБР Эдгар Гувер в вышедшей недавно книге «Мастера обмана» пишет, что полковник Абель был арестован представителями иммиграционных властей «по требованию ФБР».
«Это подкрепляет нашу аргументацию, не правда ли? — спрашивал он. — Возможно, на выставке вы обнаружите какие-нибудь аналогичные хвастливые заявления. Тщеславие этого человека может его погубить».
(Прямодушное объяснение мистером Гувером обстоятельств ареста Абеля действительно оказалось одним из полезных моментов при составлении нашей записки дм повторного слушания дела в Верховном суде. Однако на выставке, устроенной ФБР в Вашингтоне, не было ничего такого, что могло бы вызвать возражение у разумного человека. Когда я осматривал выставку, мне бросилось в глаза объяснение о том, что дело обжаловано и находится на рассмотрении в Верховном суде. Я ходил по музею ФБР вместе с дюжиной других посетителей, никем не узнанный, прослушал интересные объяснения по делу Абем, с которыми выступал специальный агент ФБР, некто Салливан.)
Затем начальник тюрьмы Уилкинсон распорядился, чтобы надзиратель показал мне всю тюрьму. Это оказалось полезным делом, но оставило мрачное впечатление.
Я видел, как заключенные изготовляли мешки для почты, форменную одежду, работали в прачечной и в механических мастерских. Я видел, как они играют в бейсбол и занимаются поднятием тяжестей на спортивной площадке.
В конце дня я посетил работающую на рынок мастерскую прикладного искусства, где царил полковник, — здесь была его маленькая личная художественная студия, в которой находилось несколько отличных картин, написанных маслом, и очаровательных шелкографических этюдов, созданных с помощью разработанного им нового технологического процесса. Было очевидно, что дела его в новой обстановке шли очень хорошо. К тому же освещение в этой новой студии было действительно лучше, чем в его прежней обители в Бруклине.
Понедельник, 15 июня
Заместитель секретаря Верховного суда в короткой записке, полученной мною на прошлой неделе, сообщал, чтс повторное слушание дела Абеля откладывается с октября по крайней мере на ноябрь, с тем чтобы не доставлять неудобства и излишне не перегружать заместителя министра юстиции, который должен был выступать по другому делу в октябре, в тот день, на который было первоначально назначено слушание нашего дела.
По поводу этой отсрочки я незамедлительно написал пространный протест председателю суда Уоррену. После этого председатель суда наметил повторное слушание сторон по нашему делу на 9 ноября, заверив меня, что больше отсрочек не будет. Он снова подчеркнул, что хочет, чтобы я знал о том, что все члены суда понимают, какое колоссальное бремя взяла на себя защита, и ценят мой личный вклад в это дело.
После этого заместитель министра юстиции заявил, что ФБР располагает сведениями о том, что Абель в своих письмах «семье» передавал информацию русским и что разрешение на переписку с семьей было ему дано по моей просьбе. Я быстро поправил его, указав, что моя роль в этом деле сводилась лишь к передаче просьбы Абеля, и я не настаивал на предоставлении ему такого права по соображениям гуманности или каким-либо другим. Решение было принято властями, осведомленными обо всех обстоятельствах дела.
«Я полагаю, — сказал я, — что между такими двумя подходами есть большая разница». Председатель суда перебил меня, довольно энергично подтвердив: «Самая значительная разница».
Понедельник, 20 июля
Я хотел покончить с вопросом о моем гонораре (я обещал отдать его на конкретные благотворительные цели). В связи с этим я напомнил Абелю: «Я считаю весьма важным для вашего дела, чтобы ваша семья выплатила необходимую сумму до ноября. Тогда я смогу сделать те взносы, которые я обещал, на благотворительные цели, и этот акт будет способствовать дальнейшему смягчению той враждебности, которая существовала сначала».