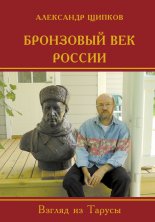Культы, религии, традиции в Китае Васильев Леонид

Принцип эквализации земли и связанные с ним естественные тенденции к хозяйственной самостоятельности неизбежно рождали центробежные силы в семье. Казалось бы, в таких условиях очень нелегко сцементировать большую семью и создать прочные клановые традиции. Тем не менее на протяжении всей многовековой истории Китая силы сцепления между родственниками, потомками общего предка — лрародителя, оказывались настолько значительными, что, как правило, одолевали центробежные тенденции.
Начиная с эпохи Конфуция, а может быть и с еще более древних времен, большая семья и влиятельный клан были идеалом для китайцев. Однако далеко не всегда легко было достичь этого идеала. Как правило, большой и влиятельный клан был характерен для аристократических семей и иных зажиточных слоев общества, тогда как бедняки практически были лишены такой возможности хотя бы потому, что их многочисленные дети чаще вымирали, чем вырастали и умножали количество членов семьи [228, 43—44; 547, 16]. Аристократические кланы, заметно ослабевшие к концу Чжоу и почти лишившиеся своего былого влияния в Хань, продолжали, тем не менее, существовать и даже играть весьма заметную роль в жизни общества и в первые века пашей эры. В конце Хань, когда центральная власть ослабла, а сепаратистские тенденции на местах усилились, многие из таких кланов фактически контролировали целые уезды и имели огромное количество слуг и клиентов, из которых при случае можно было скомплектовать военные дружины. Такого рода могущественные кланы нередко открыто противостояли центральной власти {485, 17—20; 581, 77; 758]. С эпохи Тан в тесной связи с укреплением центральной власти и выдвижением на передний план конфуцианской бюрократии влияние этих кланов стало уменьшаться, а сам» аристократические кланы начали постепенно сходить на нет^ уступая место кланам иного типа.
Эти новые кланы были в основном кланами сословия шэныии, т. е. образованных конфуцианцев, чиновников-бю-рократов и землевладельцев, которые во II тысячелетии н. э. стали играть исключительно важную роль в истории китайского государства и общества. Соответственно расширилась социальная база клановой системы. Да и сама семейно-клановая структура, основанная на древних конфуцианских принципах, с этого времени получила свое наибольшее распространение. Как показывают специальные исследования,, этому во многом способствовало распространение неоконфуцианства, стимулировавшего возрождение ряда древних полузабытых конфуцианских традиций и в первую очередь конфуцианских семейно-клановых (581; 742].
Изучению семейно-клановой структуры средневекового Китая, особенно во II тысячелетии н. э., посвящено немало-специальных исследований (366; 394; 410; 489—493; 531; 544; 545; 547; 580; 581; 624; 728; 790; 791; 816; 903; 916]. Как явствует из них, обычно основой клана становилась разросшаяся семья какого-либо из удачливых чиновников или иных зажиточных людей. Культ предков и прочие конфуцианские традиции способствовали единству семьи и заставляли даже по смерти ее патриарха всех ставших теперь уже фактически самостоятельными главами семей сыновей покойного признавать власть и авторитет главного из них (обычно, хотя и не обязательно, старшего брата), ставшего отныне главой клана из нескольких семей. Такой клан получал наименование цзу, тогда как его боковые ответвления, возглавлявшиеся каждым из остальных братьев, обычно назывались фан (субклан). Грани между субкланами считались не особенносущественными (492, 63—65], важнее было то, что объединяло их в единый клан. В рамках одного клана все братья и их сыновья длительное время продолжали ощущать свою неразрывную связь друг с другом и с основной линией их кланового культа, возглавлявшегося старшим в клане. Все эти многочисленные родственники по отцу или деду, а то и прадеду и прапрадеду, регулярно собирались вместе, принимая участие во всех важных клановых ритуалах, устраивавшихся в родовом храме и связанных прежде всего с культом предков.
Обычно это длилось на протяжении трех-четырех поколений. За это время, исчислявшееся примерно в столетие, многое менялось. Нередко носитель основной линии культа беднел, его семья проживала накопленное прежде, а его имущество, будучи разделенным между многочисленными внуками и правнуками, теряло свои внушительные размеры. Соответственно падало влияние и значение основной линии культа [366, 264], мог приходить в запустение и храм предков. Параллельно с этим некоторые из носителей боковых ветвей культа (боковые фаны) могли, напротив, разбогатеть. Тогда боковой фан расцветал, и все разраставшиеся от него новые дочерние ответвления считали уже его своим главным, основным клановым культом. Другие потомки носителя первоначального культа также чаще всего беднели, порой оказываясь в ряду самых обычных крестьян. Поскольку у них при этом не было возможности иметь свой клановый культ с храмом, они по традиции продолжали числиться членами боковой ветви кланового культа какого-либо из сородичей, кому больше повезло в жизни и кто сумел основать и поддерживать свой культ, ставший теперь клановым [353, 344; 366, 34—35 и'264—265; 490, 4; 493; 580; 816, 132].
Авторы ряда исследований, посвященных изучению клановой системы в Китае, обращают особое внимание на крепость клановых связей, особенно на юге страны, где нередко целые деревни населялись представителями одного клана [493, 14—30]. Кланы такого рода представляли собой очень могущественные организации, имели немалую общую (клановую) собственность, политические и юридические привилегии. Руководящая элита в таких кланах обладала большой Властью и пользовалась непропорционально большой долей доходов от общей собственности [410, 127]. Рядовые члены клана находились в зависимости от старших и были обязаны строго соблюдать все нормы и правила, за нарушение которых следовали наказания [580, 25—46].
Выступавший в сношениях с внешним миром в качестве единого целого, в виде большого коллектива родственников, такой клан вносил немалые коррективы в социальную структуру китайского общества. В самом деле, о каких социальных антагонизмах может идти речь в кругу близких или даже не очень близких, но подчеркивающих свою близость родственников?23 Конечно, среди этих родственников есть старшие и богатые, есть младшие и бедные, — что тут особенного? Сегодня разбогатела и поднялась наверх одна ветвь клана, завтра ее сменит другая, но обе они заботятся об интересах клана, о всех его членах. И именно эта сторона в представлении воспитанных в духе конфуцианской преданности семье и клану китайцев всегда выходила на передний план. Этому способствовали и особенности внутренней организации клана, его традиции. Важную интегрирующую роль играла, в частности, взаимопомощь в рамках клана и возникший примерно с XI в. обычай оставлять часть земель клана в качестве неделимого фонда с целью использовать его в случае необходимости для помощи нуждающимся членам клана (на свадьбу, получение образования и т. п.). Возникший в клане Фань, этот обычай затем широко распространился повсюду.
Примат клановых связей между близкими и довольно далекими родственниками над всеми другими видами социальных связей в обществе приводил к тому, что богатые родственники обычно умело использовали свое положение руководителей клана и свое богатство для довольно беззастенчивой эксплуатации сородичей и еще большего увеличения своего богатства 24. Естественно, что такое переплетение социальных и семейных уз было на руку зажиточным слоям населения, которые и были наиболее ревностными хранителями священных заповедей конфуцианства. Вот почему на протяжении всей истории Китая столь важную роль играл конфуцианский тезис о том, что вся Поднебесная — это лишь единая большая семья. С одной стороны, такое расширительное толкование понятия «семья» имело своей определенной целью представить все общество в виде коллектива «родственников», спаянных воедино теми же неразрывными узами, что и члены семьи. С другой стороны, эта аналогия как бы оправдывала иерархичность и авторитарность семейной системы в Китае [670, 28—30].
Культ семьи в Китае обусловил ее огромную притягательную силу. Где бы ни был китаец, куда бы ни забросили его случайности судьбы, везде и всегда он помнил о своей семье, чувствовал свои связи с ней, стремился возвратиться в свой дом или — на худой конец — хотя бы быть похороненным на семейном кладбище. Как отмечают некоторые исследователи, культ семьи сыграл свою роль в ослаблении других чувств обычного китайского гражданина — его социальных, национальных чувств (515, 61]. Другими словами, в старом конфуцианском Китае человек был прежде всего семьянин, т. е. член определенной семьи и клана, и лишь в качестве такового он выступал как гражданин, как китаец.
Система конфуцианских культов оказала решающее влияние на соотношение семьи и брака в Китае. Спецификой конфуцианского Китая было то, что не с брака, не с соединения молодых обычно начиналась семья. Наоборот, с семьи и по воле семьи, для нужд семьи заключались браки. Семья считалась первичной, вечной. Интересы семьи уходили глубоко в историю. За благосостоянием семьи внимательно наблюдали заинтересованные в ее процветании (и в регулярном поступлении жертв) предки. Брак же был делом спорадическим, единичным, целиком подчиненным потребностям семьи.
Согласно культу предков, забота об умерших и точное исполнение в их честь всех обязательных ритуалов было главной обязанностью потомков, прежде всего главы семьи, главы клана. Собственно говоря, в глазах правоверного конфуцианца именно необходимостью выполнения этой священной обязанности было оправдано само появление человека на этом свете и все его существование на земле. Если в прошлом, в иньском и раннечжоуском Китае, духи мертвых служили опорой живых, то согласно разработанным конфуцианцами нормам культа предков и сяо все должно было> быть как раз наоборот. В этом парадоксе, пожалуй,'лучше всего'*виден тот переворот, который был совершен конфуцианством в древнем культе мертвых. ,
Но если главная задача живых — это забота об ублаготворении мертвых, то вполне естественно, что весь строй семьи, все формы ее организации должны быть ориентированы таким образом, чтобы лучше справиться с этим главным и почетным делом. Вот почему считалось, что первой обязанностью всякого главы семьи и носителя культа предков, служащего как бы посредником между покойными предками и их живущими потомками, является ни в коем случае не допустить угасания рода и тем не навлечь на себя гнев покойных. Умереть бесплодным, не произвести на свет сына, который продолжил бы культ предков — это самое ужасное несчастье не только для отдельного человека и его семьи, но и для всего общества. В Китае всегда существовали поверья, что души таких вот оставшихся без живых потомков (и, следовательно, без приношений) предков становятся беспокойными, озлобляются и могут нанести вред не только родственникам, но и другим, посторонним, ни в чем не повинным людям. Для таких бездомных душ в определенные дни в Китае даже устраивались специальные поминки, чтобы хоть как-то ублажить их и утихомирить их гнев. Однако еще со времен Конфуция хорошо известно, что жертвы, принесенные чужой рукой,— это не настоящие жертвы25, в лучшем случае жалкий паллиатив. Эти жертвы не могут как следует успокоить разгневанных предков.
Неудивительно, что в таких условиях каждый добродетельный отец семейства, как почтительный сын и потомок своих высокочтимых предков, был обязан прежде всего позаботиться о потомках. В его задачу входило произвести на свет как можно больше сыновей, женить их сразу же по достижении ими брачного возраста и дождаться внуков. Только после этого он мог умереть спокойно, зная, что в любом случае и при любых обстоятельствах непрерывность рода и неугасающий культ предков им обеспечены. Вот именно с этой, пожалуй, даже исключительно с этой целью и заключались браки в старом Китае. Судя по «Шицзин», в докон-фуцианском Китае вопросы любви, брака и создания молодых семей решались так же, как и у многих народов. Не сразу конфуцианский культ предков и примат этики и рационального изменили все это. Прошел ряд веков, на протяжении которых энергично осуществлялись конфуцианские призывы к воспитанию чувства долга и обузданию эмоций во имя священного культа предков, сяо и семьи, прежде чем во все сословия, главным образом в среду простого народа, проникли выработанные традицией среди аристократии и закрепленные затем конфуцианцами в качестве обязательного эталона отношения к семье и браку. Навсегда отошли в прошлое деревенские праздничные обряды и простор для естественных чувств молодых людей. Отошли на задний план эмоции, чувства. Семья стала основываться не на чувстве, а на выполнении религиозных обязанностей [134, 235]. Брак же стал рассматриваться как важное общественное дело, как дело прежде всего большого семейного и кланового коллектива.
Итак, брак рассматривался прежде всего как ритуальный обряд, служащий делу увеличения и укрепления семьи и являющийся тем самым средством успешного служения предкам. В соответствии с этим и вся процедура выбора невесты и заключения брака, как правило, не была связана ни с влечением молодых друг к другу, ни даже со знакомством их. Вопрос о браке был делом семьи, прежде всего ее главы. Именно он на специальном семейном совете, часто при участии многочисленной родни, решал вопрос о том, когда и кого из сыновей женить, из какой семьи взять невесту. Это решение обязательно принималось с согласия предков, у которых испрашивалось благословение на брак. Только после того как покойные предки семьи и клана изъявляли свое согласие— для чего проводился специальный обряд жертвоприношения и гадания, — отец жениха посылал в дом невесты дикого гуся — символ брачного предложения 26.
Женитьба сына всегда считалась очень важным делом, ради которого не жалели ни сил, ни средств, влезая подчас в неоплатные долги. Прежде всего, в случае благоприятного ответа от родителей невесты следовало преподнести им подарки и получить документ, удостоверявший год, месяц, день и час рождения девушки. Затем этот документ, равно как и документ о рождении жениха, отдавали гадателю, который путем сложных выкладок устанавливал, не повредит ли брак благополучию жениха и его семьи. Если все было в порядке, снова начинались взаимные визиты, происходил обмен подарками, заключался брачный контракт и назначался, с согласия невесты, день свадьбы.
В этот день празднично наряженную в красное невесту, причесанную еще по-девичьи, в паланкине приносили в дом жениха. Весь свадебный выезд тщательно оберегался от злых духов: против них выпускали специальные стрелы, на грудь невесты одевали обладающее магической силой бронзовое зеркало и т. п. В доме жениха в честь невесты запускали ракеты-шутихи, затем в момент встречи невесте и ее родне (а также и многочисленным собравшимся, в том числе нищим, от которых откупались по заранее достигнутой договоренности) раздавали подарки. Жених и невеста вместе кланялись Небу и Земле, совершали-'еще ряд обрядов и поклонений. Им подносили две рюмки вина, связанные красным шнурком. Угощали пельменями. Все это имело свой смысл» все было полно глубокой символики — и поклоны, и слова,, и даще пища (пельмени, например, символизировали пожелание множества детей), и изображения вокруг. Наконец,, основные обряды окончены. Жених удалялся, а невеста совершала необходимый туалет, в частности причесывалась, уже как замужняя женщина. После этого молодые отправлялись в спальню.
На следующий день все поздравляли молодых, гости и родня приглашались на пир. И лишь после того как все торжественные обряды были окончены, жена специально представлялась свекрови, под начало которой она отныне поступала, и всей мужниной родне. Через несколько месяцев она также представлялась предкам мужа в храме предков it принимала участие в обрядах жертвоприношений. Теперь она уже по-настоящему становилась женой и членом семьи (до этого ее еще можно было возвратить родителям — в случае, если бы она, например, оказалась поражена каким-либо* недугом) 27.
Результатом выработанных конфуцианством традиций культа предков, сяо, семьи и клана было приниженное положение женщины п. Не говоря уже об обществе в целом, в рамках которого женщина вообще никогда не воспринималась как самостоятельная социальная единица и за редчайшими исключениями (правление императриц, например) не могла проявить своей индивидуальности, в своей собственной семье женщина всегда занимала неравноправное, приниженное положение. Нежеланный ребенок в семье своего отца, всегда жаждавшего сыновей, девочка уже с раннего возраста отчетливо ощущала свою неполноценность. С юных лет старшие, прежде всего мать, готовили ее к замужеству, внушали ей правила приличия и долг повиновения старшим и мужу. С вступлением в силу конфуцианских норм культа предков и с распространением этих норм в народе девушки уже не могли, как их сверстницы в начале Чжоу, чувствовать себя свободно и непринужденно, знакомиться и общаться с людьми, в том числе с юношами своего возраста. Напротив, они, как правило, всю свою юность проводили на женской половине дома отца и ни в коем случае не должны были даже близко подходить к чужим мужчинам.
Примат чувства долга, правил приличия и священных этических обязанностей с ранних лет начисто вытравлял из души девушки всякие смутные мысли, эм<)циональные порывы, связанные с эротическими влечениями. Как только девушка достигала брачного возраста, ее родители начинали заботиться о том, чтобы выдать ее замуж. Остальное было делом сватов. Выход замуж для китаянки считался одной из ее обязанностей, едва ли не главным ее предназначением в жизни. Естественно, что при этом не играл особой роли субъект брака — будущий муж. Ведь в конце концов совершенно неважно, кто именно будет твоим мужем. Важно лишь, чтобы ты вышла замуж в хороший дом и честно исполняла с юности внушенные тебе обязанности хорошей жены и послушной невестки и снохи.
После замужества женщина навсегда покидала дом отца и переходила на положение жены-служанки в дом мужа. Семья мужа становилась для нее главной и единственной, свекор — отцом, свекровь — матерью. И это не только на словах: правила приличия буквально обязывали замужнюю женщину любить свекров сильнее, чем своих родителей. В случае смерти свекрови она была обязана глубже переживать горечь утраты и даже дольше носить траур, чем в случае смерти родителей. Попав в дом Мужа, женщина оказывалась под всевластным контролем, а часто и под тиранией свекрови, возглавлявшей женскую половину дома 28. При этом она, как правило, не смела и пикнуть в свою защиту. Специальные правила поведения обязывали ее терпеливо сносить все побои и издевательства свекрови. Если же она не выдерживала и вступала с нею в открытый конфликт, ее муж обязан был решительно стать на сторону матери и приказать жене повиноваться. Если это не помогало, муж обязан был примерно наказать жену, дабы ей в другой раз было неповадно нарушать порядок. Это было «последним предупреждением», после которого в случае нового конфликта муж имел право и даже должен был изгнать свою непокорную жену, чья позорная и несчастная доля становилась еще более жалкой и незавидной.
Правила культа предков и семьи заранее ставили мужа и жену в неравноправное положение. Жена служит средством процветания семьи, продолжения рода, но носителем линии рода в любом случае остается мужчина. Вот почему мужчина не обязан соблюдать правила единобрачия, тогда как женщина обязана. Жена не только >не могла быть неверной (для нее это было в условиях конфуцианского Китая социальным самоубийством), но она не имела права даже на ревность. Проявление чувства ревности со стороны жены считалось настолько неприличным и противоречащим принятым нормам, что такую жену муж имел право выгнать. Впрочем, справедливости ради следует сказать, что мужья обычно учитывали силу человеческой природы и подчас не очень реагировали на незначительные проявления ревности между женщинами своего дома — лишь бы дело не доходило до неприличных эксцессов.
Молодая жена занимала в доме мужа (точнее, свекра) подчиненное положение, нередко больше напоминавшее положение служанки, чем жены. Она обязана преданно обслуживать свекров, следить за домом, выполнять нелегкие работы и т. п. Только после рождения сына ее положение в доме заметно улучшалось. Она приобретала большую уверенность, чувствовала свое существование оправданным, свои функции выполненными. Если рождалась девочка — дело хуже. Притеснения со стороны свекрови усиливались, к ним прибавлялись раздражение, подчас даже побои разочарованного мужа.
Если жена почему-либо на протяжении ряда лет не рожала сына, муж не только имел право, но даже обязан был, опять-таки во имя интересов семьи и культа предков, взять вторую жену или наложницу. Второй брак обычно совершался почти с такими же церемониями, что и первый, причем многие столь же охотно отдавали своих дочерей в качестве вторых жен, как и первых. Однако положение второй жены в доме было еще хуже, чем первой. Как правило новая, более молодая жена попадала под начало не только свекрови, но и рано постаревшей и подурневшей первой жены. На долю новой жены приходилась вся наиболее тяжелая часть женской работы, ее притесняли очень жестоко. Только в случае рождения желанного сына ее положение могло немного выправиться. Однако занять место первой жены, если только муж не развелся с ней или не свел ее в могилу упреками и побоями, она так и не могла.
Еще тяжелее было положение наложниц [289]. Их брали, разумеется, только в богатые семьи, где они одновременно являлись и служанками. Отдавали, а чаще продавали своих дочерей в наложницы только бедняки. Попав в богатый дом, эти бедные женщины вообще были лишены какого-либо правового статуса и фактически становились полурабынями. Спасти их опять-таки могло только рождение сына. Но и то не всегда. Известно немало случаев, когда старшая, первая, жена просто отбирала у наложницы ее сына и объявляла его своим, оформляя этот акт в официальном порядке. И все-таки рождение сына было единственным, что могло помочь наложнице в доме, сделать ее не только более свободной и полноправной, но иногда и весьма значительной персоной. Из истории Китая известны случаи, когда любимые наложницы императоров добивались устранения своих соперниц и назначения своих сыновей наследниками престола 29.
Проблема роли и места женщины в китайской семье в условиях конфуцианского культа предков тесно соприкасается с вопросом о любви, прежде всего о супружеской любви в старом Китае. В ряде трудов неоднократно отмечалось, "что романтической любви не было места в китайской системе семьи и брака [228, 44; 490, 237; 491, 38], что китаец никогда не преклонялся перед женской красотой, не считал женских капризов и желаний чем-то существенным, что рыцарское отношение к женщине незнакомо в Китае [46, 122]. В этих замечаниях немало от истины. Вместе с тем было бы неправильным полагать, что суровый пуританский аскетизм конфуцианства сумел начисто и до конца вытравить из людей все человеческое, т. е. все присущие человеческой душе эмоции, непосредственно рождающиеся чувства, в том числе и одно из первых и самых сильных чувств — любовь. Нужно сразу же оговориться, что конфуцианцы преуспели в «исправлении» самого понятия и термина «любовь», каковой в конфуцианском Китае обычно применялся к обозначению горячих чувств по отношению к родителям, старшим, императору, наконец, к родным и детям и едва ли не в последнюю очередь — к женщине.
И все-таки, несмотря ни на что, любовь в Китае всегда была. Ее воспевали в своих стихах и поэмах знаменитые поэты. О ней много говорилось в романах и драмах. Любовный сюжет стоял даже иногда в центре подобных повествований [1681. Не меньшую роль играла любовь и в реальной жизни. О знаменитой красавице Ян Гуй-фэй, опьянившей своей красотой влюбленного в нее императора и тем едва не приведшей к гибели империю, впоследствии слагали легенды. Словом, романтическая любовь, хоть может быть и не в такой степени, как у некоторых других народов, культивировалась и была хорошо известна и в конфуцианском Китае. Но все дело в том, что, за исключением очень редких случаев, любовь и супружество в Китае были совершенно разными вещами, как правило, не имевшими между собой общего.
Начать с того, что при заключении браков, как было показано выше, не могло быть и речи о каких-либо иных чувствах, кроме чувства долга и обязанности повиноваться воле родителей и блюсти интересы семьи. Браки заключались-между чужими друг другу людьми, и о любви в таких случаях даже не упоминалось. Более того, считалось просто неприличным связывать столь важное дело, как женитьбу сына, с таким легкомысленным чувством, как любовь к женщине, влечение к красоте. Разумеется, при благоприятном стечении обстоятельств могли случаться браки по любви. Но это бывало редко [487, 420]. Как правило, жених и невеста не говорили о любви и не претендовали на нее. Брак считался тем полезнее и надежнее, чем прочнее были связывающие супругов узы. Однако эти узы должны были держаться не на любви или тяготению к красоте, а на все том же чувстве долга, обязательств перед семьей, предками, обществом.
Конечно, могут быть женщины красивее твоей жены, в каких-то отношениях лучше нее. Но вечно искать чего-то нового, постоянно стремиться к какому-то неосознанному идеалу — это не дело. Такое стремление способно сыграть лишь деструктивную роль и в жизни человека, и в судьбах семьи. Вот почему для тебя именно твоя жена, если она хорошо воспитана, покорна, сознает чувство долга и т. д. и т. п., должна быть вершиной гармонии, идеалом. Как полагают некоторые, идеал женщины в Китае — это «домашняя жена», жена, живущая для мужа [536, 101—1261. Относясь к браку с таких позиций и нормально удовлетворяя свои инстинкты, человек тем самым способствует достижению гармонии действующих в нем самом сил. Отсюда и вывод: проблема выбора супруга, т. е. главный момент в том, что обычно именуется любовью и составляет ее суть, вообще не должна вставать. Есть лишь проблема оптимальных отношений с доставшимся тебе супругом, которая обычно и решалась достаточно успешно в китайском браке [44, 319—3241. Как жених, так и, особенно, невеста твердо осознавали такой порядок и связанные с ним обязательства и обычно не имели никаких претензий к судьбе. Впервые увидевшись друг с другом в день свадьбы, они с должной серьезностью и ответственностью относились к своим новым супружеским обязанностям. В этом смысле весьма показательно, что для китайского фольклора не характерны столь частые и типичные у других народов мотивы жалобы девушки на брак с делюбимым, на замужество без ее согласия и т. п.
Любовь мужа была и счастьем жены и защитой ее от системы конкубината [536, 1101. Иногда любовь приходила — п тогда брак был радостным и счастливым. В других случаях обходились без нее. Для женщины, запертой в своем доме, этот жребий был роковым, и изменить свою судьбу она не могла. Все ее счастье заключалось в детях, в сыновьях. Если не было и их — она была просто несчастным, отверженным существом и нередко довольно быстро сходила в могилу. Иное дело мужчина. Обычно он имел право более или менее свободного выбора второй жены и тем более наложниц. Выбирая их по своему вкусу, в соответствии со своими чувствами и наклонностями, мужчина мог найти простор для своих чувств и даже встретить настоящую любовь. Именно эта любовь и воспевалась потом в поэмах и легендах о красавицах-наложницах или бедных конкубин-ках, ставших знатными дамами и даже императрицами.
Итак, для мужчины был обязательным лишь первый брак, к которому проблема любви, как правило, не имела отношения. Все его остальные связи с женщинами рассматривались уже как необязательные, считались элементом удовольствия или развлечения (разумеется, речь идет о богатых мужчинах, бедняки имели лишь одну жену и только в крайнем случае, под угрозой умереть без мужского потомства, могли взять в дом еще одну женщину, что было для бедняка не таким уже легким и простым делом). В соответствии с этим для удовольствия и развлечения богатых мужчин в средневековом Китае, по крайне мере с эпохи Тан, существовали специальные «кварталы развлечений», как, например, знаменитый «Северный квартал» (Бэй-ли) в Чанани. Здесь посетителей встречали изящные и неплохо образованные женщины, нередко владевшие искусством сочинять стихи, танцевать и даже вести серьезные беседы на отвлеченные темы. Эти изысканные китайские куртизанки-гетеры, которые обычно набирались еще девочками и проходили специальную подготовку, пользовались большой популярностью среди кон-фуцианцев-шзмьшы, особенно тех, которые массами приезжали в столицу для сдачи очередных экзаменов [744, 171—184]. Куртизанки-гетеры были как бы высшим слоем среди обычных проституток, которых в средневековом Китае было очень много во всех городах страны. В эпоху Сун, судя п» данным специальной работы, посвященной описанию Ханчжоу, имелось большое количество публичных домов, в том числе и существовавших на государственные субсидии для обслуживания солдат [744, 230—231] 30.
Как видно из всего приведенного выше, вдовство для мужчины не составляло проблемы. В случае необходимости он просто женился во второй и третий раз, заводил себе наложниц. Если умирала жена, то любой мужчина, даже в самой бедной семье, вдовцом не оставался. Считалось даже нормальным для какого-либо купца, много времени проводящего по своим делам вне дома, иметь другую жену. Словом, мужчина ни при каких обстоятельствах не должен был оставаться без женщин. Иное дело — женщина. Очутившись в. доме мужа, она уже принадлежала другой семье. Если у нее не было детей, она, оставшись молодой вдовой, формально имела право снова попытаться выйти замуж. Это так нередко и происходило, хотя официально не поощрялось, а обычаями даже осуждалось. Вдова более почтенного возраста, особенно обремененная детьми, замуж вторично обычна не выходила. Она посвящала свою жизнь семье мужа, его родителям и детям. Это считалось нормой. В том случае, когда столь же добродетельно поступала молодая вдова и особенно, если она добровольно совершала самоубийство, такое ревностное следование обычаям нередко отмечалось официальным поощрением: близ дома, где жила такая женщина, после нескольких десятков лет стойкого и добродетельного вдовства воздвигалась специальная арка или стела с надписью, прославлявшей достоинства и верность женщины [338, т. I, 110—112].
Следует заметить, что еще большее одобрение и поощрение в конфуцианском Китае встречали те случаи, когда невеста, случайно оставшаяся соломенной вдовой из-за внезапной смерти жениха, изъявляла согласие войти в его дом и остаться там на всю жизнь, преданно служа родителям суженого в память о покойном. Этому, как правило, была особенно рада семья мужа, так как в этом случае душа молодого покойника была более спокойна. Забота об обеспечении рано умерших мальчиков женами заходила настолько далеко, что родители таких мальчиков нередко специально искали дома, где были умершие девочки, и после проведения упрощенного брачного обряда соединяли этих детей супружеским союзом.
Если в Китае всегда бывало определенное количество вдов, то отличительной особенностью его, как и многих других стран Востока, было отсутствие в его обществе старых дев. Любая женщина рано или поздно выходила замуж или, в крайнем случае, становилась наложницей. Незамужних женщин, как правило, не было [573, 138]. Разумеется, исключительные обстоятельства (вдовство, сиротство и т. п.) иногда ставили женщин вне семьи, т. е. вне общества. Именно из среды таких женщин рекрутировались гетеры, проститутки, актрисы и прочие женщины «подлых» профессий. Одним из таких исключительных обстоятельств был и развод.
Женщина и здесь была поставлена в неравноправные, неблагоприятные условия. Как бы тяжела ни была ее доля в семье, как бы ни тиранила ее свекровь и ни бил муж, права на развод она не имела. Да ей и некуда было податься. Если в случае невыносимых издевательств обезумевшая женщина все-таки бежала из дома мужа, ее, как правило, возвращали обратно. В редких случаях семья ее отца или брата брала ее сторону и разрешала вернуться домой. Но понятно, что и тогда ее судьба была незавидной. Зато мужчина имел право на развод. Правда, традиции обычного права и фиксированные нормы культа предков не поощряли использования этого права, разрушавшего брачно-семейные отношения. Поэтому на практике такое право осуществлялось редко, однако угроза развода тем не менее всегда висела тяжелым камнем над женщиной, вынуждая ее быть покорной и безропотно повиноваться.
Официальное законодательство в средневековом Китае предусматривало следующие формальные основания для развода: бесплодие жены, ее развратное поведение, непочтительное отношение к свекрам, склонность к болтовне и сплетням, воровство (в пользу дома своих родичей), ревность и дурная болезнь. Кроме того, традиции обычного права давали мужу право на развод и еще в ряде случаев:если
жена окажется не девицей, если она станет командовать мужем и даже если она попытается покончить жизнь самоубийством или бежать из дома. Однако есть и несколько обстоятельств, когда ни при каких условиях развода быть не могло. Во-первых, если жена носила траур по ком-либо из старших родственников мужа. Во-вторых, если у нее нет родителей. И в-третьих, если семья разбогатела после того, как она вошла в дом мужа. Во всех этих случаях ни одна из законных причин для развода, кроме прелюбодеяния, да и то в том случае, если жена будет застигнута на месте преступления, не может иметь силы (80, 61—65; 1024,45—461.
Все интимнейшие вопросы супружеской жизни в Китае решались всегда на уровне семьи, т. е. были предметом детального обсуждения большого семейно-кланового коллектива, часто апеллировавшего при этом к мнению покойных предков. Это и понятно. Ведь главная цель брака — обеспечить продолжение рода, решить проблему детей, и потому вопрос о том, рождаются они или нет и почему, никак не являлся прерогативой только мужа и жены и деликатной интимной проблемой. Наоборот, это была важная и первостепенная проблема большого коллектива, заинтересованного в усилении семьи и клана.
Дети, о появлении которых заботилась вся семья,— это были главным образом сыновья. Еще в песнях «Шицзин» упоминалось о том, что новорожденного мальчика клали на нарядную циновку и давали ему в руки богатые игрушки, всячески его ублажая, тогда как родившаяся девочка лежала в углу дома на куче тряпья и забавлялась обломками глиняных сосудов [II, 4, V, № 189]. Такое различное отношение к сыну и дочери не только сохранилось, но и значительно усилилось в рамках конфуцианского культа предков.
Рождение сына всегда было большим праздником в семье. Вся многочисленная родня приносила младенцу и его матери подарки, обычно полные символики, с пожеланиями новорожденному богатства и должности, счастья и славы, учености и долголетия. Праздник в доме отмечался особо обильными жертвоприношениями в честь предков, духа домашнего очага и всех местных богов и духов. Бабушка новорожденного обычно сама приносила жертвенные продукты в местный храм в честь бога-покровителя данной местности. Еще один праздник — в 100-й день появления мальчика на свет [306, 23—29; 643]. В этот торжественный день отец, следуя записанным еще в «Лицзи» обычаям [888, т. XXII, 1276—12811, давал ребенку имя и совершал обряд пострижения.
За здоровьем мальчика тщательно следили. Для этого приносили специальные (откупительные) жертвы злым духам, духам болезней и т. п. Нередко маленького мальчика одевали в одежду девочки — авось злой дух не разберется и не польстится на него. Воспитывали мальчиков и девочек в раннем детстве совместно, на женской половине дома. Затем, следуя древним правилам «Лицзи», их разделяли: «В семь лет мальчик и девочка уже не ели вместе и не сидели на одной циновке» 1888, т. XXII, 1283]. Девочку чуть ли не с семи-восьми лет начинали понемногу готовить к замужеству, внушать ей правила поведения и повиновения мужу и старшим. Мальчика обычно всегда старались отправить в школу, выучить, вывести «в люди». Для этого с шестисеми лет его отдавали учителю, который на протяжении многих лет, с утра и до вечера, без перемен, выходных и каникул, вбивал в головы учеников заключенную в конфуцианских книгах премудрость.
Книжное воспитание дополнялось домашним. Мальчика с юных лет воспитывали по канонам и обычаям «Лицзи», а в позднее средневековье — по «Чжуцзы цзяли» («Домострою Чжу Си», XII в.), вобравшему в себя все важнейшие обряды «Лицзи» [463]. Главным в этом воспитании было глубокое постижение всей конфуцианской этики с ее обилием церемоний, с ее требованиями безусловного повиновения и почитания старших. И это теоретическое и практическое познавание этики и изучение церемоний шло без всякой скидки на возраст. Как отмечается в трудах специалистов, в том числе китайских, детей в Китае никогда не рассматривали как какую-то особую, специфическую категорию людей с присущими ей своими запросами и потребностями [490, 239]. Правда, на все детские забавы смотрели несколько снисходительно, но всерьез их не принимали. Мальчиков (как и девочек на женской половине дома) учили перенимать все привычки, правила поведения, традиции взрослых, учиться вести себя как взрослые, имитировать взрослых [489, 556]. Показательно, что в китайском изобразительном искусстве эта тенденция отношения к ребенку отражена очень рельефно и хорошо знакома каждому, кто обращал внимание на практику изображения детишек на китайских свитках:все
ребячьи лица обычно нарисованы как лица маленьких взрослых, а не как детские.
Конечно, природа брала свое. Дети в Китае, как и во всем мире, оставались детьми, со всеми своими детскими забавами, развлечениями, играми [435, 84—90]. И тем не менее такое воспитание приносило свои плоды. Дети стремились как можно скорей вырасти, стать старше, научиться всему, что положено, быть «как взрослые». Это желание обычно для детей во всем мире. Однако в Китае в условиях господства культа предков оно было во много раз более сильным и заметным, чем где-либо. И объяснялась эта разница, помимо всего прочего, различием в положении младших и старших как в семье, так и в обществе в целом.
Из сформулированных еще Конфуцием «пяти отношений», которые должны были регулировать социальную структуру семьи и общества (отношение сына к отцу, подданного к государю, жены к мужу, младшего к старшему и друга к другу), только одна форма отношений (последняя) строилась на равных основах. Все четыре остальных были отношениями низшего к высшему, младшего к старшему. Отношения сына к отцу, жены к мужу, подданного к государю в общем ясны — это отношения подчинения и зависимости, беспрекословного повиновения и послушания. Несколько иной характер имели отношения четвертой категории—между младшим и старшим в семье31, а в более расширительном смысле—между младшими по возрасту, чину, положению и старшими в обществе, в жизни.
Эта группа отношений не была связана ни с беспрекословным повиновением, ни с обязательным подчинением младшего старшему. Однако и они накладывали на младших столько обязательств и непременных почтительных церемоний, что быть младшим иногда, видимо, становилось просто невмоготу. Речь идет не просто об элементарной этике — уступить место или дорогу старику, сойти с колесницы при встрече со старшим по чину или отвесить глубокий поклон своему учителю (это был обязан сделать даже сам император). Цепь обязательных церемоний сковывала младшего много крепче. Так например, на любой вопрос старшего младший должен был, униженно кланяясь, отвечать с упоминанием о своей некомпетентности судить об этом. Правила «Лицзи» предусматривали, что младший не должен сидеть па одной циновке со старшим, ему не следует в присутствии старшего (а как это характерно для нормального мальчишки, подростка!) ни кричать, ни показывать пальцем, не отвлекаться в другую сторону, ни даже смотреть своему собеседнику в лицо. Младший не должен положить в рот кусок или выпить глоток за обедом раньше старшего. В ответ на оклик старшего он обязан не просто отозваться, но встать и почтительно подойти к нему. Младший не смеет даже поправить старшего в том случае, если последний проявил незнание или некомпетентность в своем суждении [888, т. XIX, 40, 69—79].
Словом, на младшего в доме и в обществе накладывался нелегкий груз обязательных условностей, которые своей тяжестью иссушали его истинное «я», лишали его уже с раннего детства обычных, свойственных природе человека искренних чувств и непосредственных реакций и обязывали его делать все так, как полагается. Такая система этического воспитания подрастающего поколения давала очень неплохие результаты. Господство этического начала, примат рационального над эмоциональным, в сочетании со строго разработанными и неуклонно применявшимися догматами и обрядами всех конфуцианских культов (прежде всего культа предков, сяо и семьи) — все это способствовало формированию покорных, преданных и почтительных граждан. Более того, есть все основания заключить, что именно конфуцианская система обязательных норм и обрядов, конфуцианское воспитание молодых, младших, позволили китайскому обществу достичь весьма высокого морального стандарта. Есть основания полагать, что едва ли еще в какой-либо из развитых и культурных стран мира был достигнут столь высокий уровень морали и такой ничтожный процент аморального (разврата, преступности, пьянства и т. п.), как в Китае. Однако все это давалось очень нелегкой ценой. За высокий моральный стандарт общество платило столь же высоким уровнем консервативного застоя, культа неизменности обычаев и привычек, культа безусловной мудрости древних и старших.
Неудивительно, что в таких условиях каждый младший, молодой, чуть ли не с первых лет своей жизни стремился как можно скорей вырасти, стать взрослым и старшим. Причем не столько для того, чтобы скорей проявить свою самостоятельность, индивидуальность и т. п., сколько для того, чтобы уже не только быть обязанным перед всеми старшими в доме и обществе, но и самому получать заслуженную возрастом долю внимания и уважения. Различие между положением младшего и старшего и санкционированные конфуцианскими традициями обязательное почтение к старшему, повиновение его слову и т. п. привели к появлению в Китае подлинного культа стариков. Этот культ, тесно связанный с культом предков и производный от него, не имеет себе равных в истории других цивилизованных народов.
Начало культу стариков положил Конфуций, всячески стремившийся подчеркнуть мудрость людей прошлого и значение уважения к годам. Мэн-цзы в своем трактате писал о том, что старикам следует давать шелковые одежды и кормить их мясом [913, 33—351. В «Лицзи» немало говорится об удобствах и заботах, которыми должны быть окружены старики, особенно преклонного возраста, восьмидесятилетние и старше [888, т. XIX, 33—37, т. XXII, 1267—1268]. С течением времени культ стариков во всей стране получил большое развитие и признание. Люди, доживавшие до почтенного возраста, пользовались всеобщим уважением и почитанием. Наиболее глубокие старцы, особенно те, кто невзирая на свой возраст продолжали учиться и пытались сдать государственный экзамен на должность, пользовались официальным поощрением и нередко награждались специальными императорскими указами [259, 23]. Безусловный примат старшего по возрасту перед младшим признавался и санкционировался властями. При прочих равных условиях на государственной службе предпочтение отдавалось старшему. Регулярными императорскими указами в эпоху Хань-раз в несколько лет всему мужскому населению страны присваивался очередной ранг, так что старший по возрасту даже официально оказывался на более высокой ступеньке социальной лестницы 32.
На примере культа стариков лучше, чем в других случаях, видно, как на передний план в конфуцианских традициях со временем выступала формальная сторона. Если для Конфуция главная ценность стариков была в том, что они помнили «добрые старые времена» и являлись живыми носителями и хранителями традиций прошлого, «мудрости» древних, то с течением времени характер культа стариков-заметно изменился. В стариках почитались их возраст, их старшинство. Право на уважение других давали именно прожитые годы, так что любой старик, совершенно независимо от его ума, знаний и даже морального стандарта, априори являлся объектом почтения со стороны более молодых. Не удивительно, что в таких условиях молодые стремились как можно скорей стать старыми. Интересно напомнить, что европейцев в старом Китае всегда удивлял столь непривычный для Запада обычай: признать кого-либо старше своих лет значило сделать ему очень приятный комплимент..
Культ стариков был очень тесно связан с культом предков и сяо, однако в одном отношении между этими родственными культами возникало некоторое этическое и логическое несоответствие. Дело в том, что быть старшим и даже старым — почетно и приятно. Но ведь за старостью неизбежно следует смерть. И если твои родители стареют — значит они скоро умрут. А для хорошо воспитанного в духе сяо человека даже сама мысль о смерти его родителей просто невыносима. Вот почему правила приличия, афиксированные в «Лицзи», требуют, чтобы почтительный сын в разговоре с -родителями никогда не употреблял слова «старый» и не напоминал отцу и матери об их возрасте и возможной близкой кончине (888, т. XIX, 43]. Это считалось неэтичным. На эту тему в сборнике 24 поучительных историй о сяо существовало даже одно весьма любопытное повествование, которое свидетельствует о том, что едва ли не любое из проявлений сяо при желании и излишнем рвении могло быть доведено до абсурда, но тем не менее поставлено последующим поколениям в пример в качестве эталона.
Некий Лай-цзы, живший еще в чжоуском Китае в царстве Чу, отличался настолько высоким уровнем сяо, что вплоть до 70-летнего возраста надевал на себя пестрое платье, ходил в коротких детских штанишках и резвился, как малое дитя. Все это делалось для того, чтобы не напоминать любимым родителям об их почтенном возрасте. Как-то он нес воду, поскользнулся и упал. Но и лежа на земле в очень неудобной, позе и, видимо, испытывая боль от ушибов. Лай-цзы опять-таки стал принимать забавные позы и изображать ребенка, дабы позабавить родителей [44, 411; 72. 485]. Скорей всего, эта история — легенда. Но она достаточно красноречива и весьма точно характеризует подлинный уровень культа сяо в старом Китае.
Итак, старикам в Китае, и прежде всего старикам-роди-телям, всегда желали долгих лет жизни. Сам культ долголетия и поисков бессмертия, секреты которого стали чуть ли не центральным пунктом возникшего в начале нашей эры религиозного даосизма (о котором пойдет речь в четвертой главе), был фактически рожден этим стремлением жить как можно дольше и как можно больше пользоваться приятными преимуществами своего почтенного возраста. И все-такн рано или поздно жизнь человека обрывалась.
Смерть старшего, особенно отца семейства, носителя родового культа, его погребение, траур по нему и жертвы в его честь были в старом Китае одним из главных моментов конфуцианского культа предков.
Обряды и церемонии, связанные с этим, были детальнейшим образом разработаны и описаны еще в ранних конфуцианских канонах «Или» и «Лицзи». Позже они обросли; многими деталями и некоторыми нововведениями (связанными, например, с появлением буддизма и особой ролью буддийских монахов в спасении души умершего,— об этом будет сказано в главе о буддизме), но в основе своей именно^ эти древние обряды на протяжении тысячелетий служили образцом, которому старались следовать все китайцы.
Несмотря на то что напоминание о смерти считалось неэтичным, забота о покойнике начиналась обычно задолго до> его смерти, причем рационалистически мыслящие конфуцианцы-китайцы не видели в этом ничего неприятного для себя. Если речь шла об императоре,— ему загодя строили пышную гробницу. До наших дней в окрестностях Пекина возвышается 13 величественных холмов — гробниц императоров династии Мин, правивших Китаем в XIV—XVII вв. С еще большей пышностью была в свое время воздвигнута гробница первого циньского императора, объединителя Китая Цинь Ши-хуанди. Эта гробница строилась несколько десятилетий и, судя по данным «Шицзи» [934, гл. 6, 118],. представляла собой роскошный подземный дворец, заполненный редкими изделиями и драгоценностями. Расположенный близ современной Сиани величественный холм с этой, гробницей еще не раскопан современными археологами.
Большие подземные усыпальницы, целые семейные склепы сооружались и другими знатными семьями. Некоторые из таких подземных мавзолеев были раскопаны археологами, а извлеченные из них произведения искусства сыграли немалую роль в изучении древнекитайской культуры (вспомним, например, замечательные барельефы из гробницы семьи У в Шаньдуне, датируемые эпохой Хань). Но не только знатные и богатые семьи, даже семьи со средним достатком считали своим долгом позаботиться о достойном погребении покойников, особенно старших, глав семьи и клана.
Важной частью этой заботы являлось изготовление или приобретение гроба. Этот очень существенный элемент погребального обряда стал широко практиковаться уже в предханьском Китае, когда захоронение в гробу стало нормой. В дальнейшем приобретение гроба превратилось в обязательный и наиболее ревностно соблюдаемый обычай. Гроб обычно заранее приобретали или изготовляли в семье, глава которой достигал почтенного возраста. Подарить отцу семейства или его главной жене в день шестидесятилетия гроб считалось одним из самых приятных сюрпризов. Старики с большой радостью принимали этот подарок, помещали его в одной из комнат дома и тщательно следили за его сохранностью. Гроб этот, предназначавшийся для сохранения тела покойника после его смерти, всегда был предметом забот как старших, так и младших членов семьи. Ежегодно его покрывали добавочным слоем шпаклевки и лака, так что год рт года он становился все тяжелее и прочнее, все более непроницаемым и годным для сохранения тела. Этот гроб на протяжении всего времени его пребывания в доме всегда рассматривался как важная часть имущества того или иного из старших членов семьи. Имея собственный гроб, человек уже был спокоен за будущее: он знал, что и после смерти тело его будет сохранено. Восходящие к наивнототемистическим представлениям глубокой древности о возможности реинкарнации стремления сохранить тело покойника в целости в условиях культа предков приобрели особый смысл. В Китае считалось, что несоблюдение этого обычая пагубным образом сказывается на посмертном существовании души умершего и может причинить не только неисчислимые бедствия его потомкам, но и беспокойство другим. Вот почему даже самые отъявленные негодяи и закоренелые преступники содрогались при мысли, что им могут отрубить голову, или, что еще хуже, изуродовать все тело (четвертование и т. п.). Эти виды казни всегда считались самыми ужасными [594, 145—146]. Преступники нередко слезно молили, а их родственники платили немалые деньги за то,, чтобы заменить такую казнь более почетной и достойной — удушением, например. В крайнем случае они просили разрешения после казни вновь приставить голову к туловищу и захоронить казненного в «целом» виде. И такое разрешение-тоже ценилось не дешево и давалось не всякому. Известно, в частности, что отцеубийцам в этом случае отказывали33.
Культ тела приобретал особое значение, после того как умерший признавался покойником. Это тоже не было простой констатацией факта. Зафиксированные еще в «Лицзи» [888, т. XXIV, 1823—1892] правила обращения с покойником требовали, чтобы сразу же после того, как человек умер, старший из его родственников, обычно его старший сын, совершил первый важный обряд, обращенный к душе покойного: обливаясь слезами, почтительный сын горестно молил душу покойного вернуться обратно в тело горячо любимого отца. Этот призыв повторялся трижды, и только после того, как на возвращение души надежд уже не оставалось, покойник признавался действительно мертвым. Сразу же вслед за этим следовала серия специальных обрядов, ставивших своей целью сохранить тело от разложения и вплоть до захоронения регулярно и почтительно предоставлять покойнику в его доме все то, на что он, как старший в семье и клане, был вправе рассчитывать. Первым был обряд облачения 34. Все члены семьи умершего с момента смерти в доме соблюдали глубокий траур. Первые три дня вообще не полагалось ничего есть, сильные ограничения в еде оставались и в остальное время траура. Женщины распускали волосы, расстегивали платье, снимали обувь, головные украшения, подвески и т. п. В доме закрывали все цветное и блестящее, на долгое время все домочадцы умершего отказывали себе в радостях и увеселениях. Даже спать члены семьи умершего в первые дни после смерти обязаны близ гроба, чуть ли не на земляном полу 'или на соломе, с куском земли под головой.
После совершения первых обязательных погребальных обрядов дом покойника был открыт для посетителей. Все друзья и многочисленные родичи покойного обязаны посетить умершего и выразить соболезнование его семье. Если покойный когда-либо служил, занимал официальный пост, почтить его память и выразить соболезнование семье приходили также и представители властей, вплоть до самых высокопоставленных начальников (в зависимости от ранга и положения умершего). Как правило, все приходившие с визитом соболезнования совершали обряд поклонения перед гробом и произносили небольшие речи, не жалея слов и красок для описания заслуг и добродетелей усопшего.
Процесс прощания с покойником, оплакивания его, посещений и соболезнований длился довольно долго, иногда несколько недель. Все это время гроб с телом находился в доме на самом видном месте и весь распорядок жизни домочадцев был организован так, чтобы покойник чувствовал себя как можно лучше. До тех пор пока тело не погребено, усопший продолжал еще по традиции считаться как бы живым: его кормили, чествовали, всячески ублажали. Предполагалось, что в это время тело еще способно воспринимать и ощущать все земное35.
Но и после окончания необходимого срока прощания с телом похороны следовали отнюдь не сразу. Нередко гроб с телом выносили во двор, и там, под специально сделанным шатром, он мог лежать долгие недели и месяцы, иногда даже годы. Во-первых, эта задержка диктовалась традицией: согласно «Лицзи» [888, т. XX, 5661, государя полагалось хоронить через семь месяцев после кончины, аристократов высшего ранга — через пять, остальных рангов — через три. Во-вторых, вопрос обычно упирался в экономические затруднения. Погребальный обряд, захоронение, поминки, иногда и приобретение могильной земли — все это стоило немалых денег, которые подчас добыть было нелегко. Особенно часто эта нехватка сказывалась в тех случаях, когда социальное положение семьи требовало от нее более богатых и пышных похорон, нежели то позволяли ее финансы. Такие случаи были нередки, особенно в семьях шэныии, еще не сдавших полный цикл экзаменов и не имевших должности [151, 68— 69]. Необходимо было мобилизовать все ресурсы, обратиться за помощью к родне, поставить вопрос на собрании членов клана. На это требовалось время.
Весь обряд похорон своей главной целью преследовал облегчить вход душе покойника в мир духов, снабдить эту душу в новом для нее мире всем необходимым, причем на уровне, достойном памяти и заслуг покойного. Для этого в специально назначенный наконец день похорон начиналась следующая серия погребальных обрядов. Все домочадцы и родственники умершего выстраивались в определенном порядке перед гробом и начинали рыдать и причитать, еще раз прощаясь с покойником. Затем все делали несколько глубоких поклонов, после чего старший сын й наследник умершего главы семьи становился на колени, возжигал курения, совершал обряд возлияния жертвенного вина и, обращаясь к отцу, произносил молитву-отчет, в котором подробно говорилось о всех обстоятельствах, обрядах, визитах, соболезнованиях, церемониях и решениях, связанных с его смертью и погребением. Иногда в этой же церемонной речи содержалось нечто вроде извинения за то, что вот теперь, да еще без согласия покойного, приходится выносить его из его же собственного дома.
Затем, как бы получив согласие умершего оставить его дом и переехать в новый, т. е. в специально подготовленную для него могилу, нередко довольно богато обставленный склеп с саркофагом, все собравшиеся переходили к следующему обряду — выносу тела. Тело, т. е. гроб, устанавливали на специальные носилки-балдахин, иногда имитировавший формы дома с крышей, стенами и т. п., и похоронная процессия начиналась. В строго определенном порядке в этой процессии принимали участие и близкие покойного, и его родня, и друзья, и специально нанятые плакальщики, и изгонявшие злых духов экзорцисты-шаманы, и заботившиеся о душе покойника буддийские монахи и т. д. Похоронную процессию сопровождали певцы, танцоры, музыканты, причем звучала отнюдь не траурная музыка. Напротив, все представления певцов и танцоров, все музыкальные мелодии ставили своей целью усладить душу покойника, порадовать его. И все сопровождающие гроб относились к этому как к должному: на их печальное настроение эти атрибуты веселья никак не влияли.
Когда похоронная процессия заканчивала свой путь и подходила к месту погребения, носилки опускали. Все снова выстраивались вокруг гроба, снова рыдали и причитали, после чего гроб опускали в могилу. На этом погребальный обряд считался законченным [более подробно о деталях этого обряда см.: 44, 32—35; 338, т. I, 198—216; 452, тт. II и III; 1056, 72—289]. С этого момента на передний план в культе умершего выходили траурные обряды.
Соблюдение траура по умершим родственникам было непременной обязанностью каждого из членов большой патриархальной семьи, иногда даже целого клана родственников. Траур был важной особенностью культа мертвых еще в до-конфуцианском Китае. Конфуцианский культ предков во много раз усилил его значение, превратил его в обязательный ритуал, манкировать которым на протяжении многих веков, даже тысячелетий считалось делом недопустимым, безнравственным. В классическом пособии по обрядам и ритуалам «Лицзи» проблеме траура уделены многие сотни страниц, целые главы. В них подробнейшим образом рассматривается, кто, сколько и по какому из своих многочисленных родственников обязан справлять траур. Длительность и интенсивность траурных обрядов градуировались в зависимости от степеней родства и свойства, а также от личности умершего.
Самый долгий траур, продолжавшийся три года, справлялся по умершим родителям, отцу и матери. Траур по другим старшим родственникам был несколько короче, еще короче — по умершим братьям, тем более сестрам. Соответственно варьировалась и строгость траура. Наиболее полным и строгим траур должен был быть опять-таки в случае смерти родителей (для сыновей наложниц к числу «родителей» обычно прибавлялась и первая жена отца). Не только в случае смерти, но даже во время болезни отца или матери почтительный сын, указывается в «Лицзи», не должен ни причесываться, ни есть мяса, ни пить вина, ни смеяться, ни слушать музыку. В случае же смерти кого-либо из родителей он и все другие домочадцы обязаны одеть белые грубые траурные одежды, воздерживаться от пищи, спать на рогоже, терпеть холод и все прочие жизненные неудобства, как бы подчеркивая этим свое горе. На все время траура не могло быть и речи о соблюдении календарных или семейных праздников, юбилеев и т. п. Даже важнейшие обряды — свадьбу, рождение сына, праздник в связи с получением ученой степени — следовало отмечать на скорую руку, без должной пышности и торжественности.
Траур должны были соблюдать все, независимо от их социального положения. Правильней даже сказать, что чем выше положение человека, тем с большим тщанием и ревностью он был обязан соблюдать траур, демонстрируя свое высокое воспитание, свои нравственные качества, свою принадлежность к среде благородных цзюнь-цзы. Все чиновники на время траура должны были выходить в отставку — при этом они не теряли ни права на должность, ни влияния в обществе. В случае смерти императора, «отца отечества», в стране объявлялся всеобщий траур. Правда, этот траур длился сравнительно недолго для подданных — лишь родственники покойного были обязаны соблюдать его целиком. Однако выдерживать его следовало строго, если только, как это сделал, в свое время в предсмертном завещании ханьский Вэнь-ди, специально не было предусмотрено, чтобы народ не слишком усердствовал в трауре. «Пусть траурные одежды носят только три дня, пусть не запрещают свадьбы и жертвоприношения, пиршества и потребление мяса, пусть во время траурных обрядов плачут умеренно»,— говорилось в указе Вэнь-ди [934, гл. 10, 184—185].
Практика строгого соблюдения траурных обрядов стала широко распространяться со времен Конфуция. После смерти знаменитого философа многие его ученики поселились, вместе с его родственниками, близ могилы Конфуция и долго справляли траур по учителю. Вскоре близ могилы философа возникло новое большое поселение, а с течением времени — целый город, существующий и поныне (Цюйфу). Как упоминалось, сам философ выступал всегда за очень внимательное отношение к трауру, подчеркивал, что соблюдение его — это долг вежливости и уважения к умершему. Наиболее почтительные сыновья обычно очень ревностно и пунктуально со-*блюдали траур по своим родителям — настолько ревностно, что это иногда серьезно сказывалось на их здоровье, пошатнувшемся от голода и лишений. Учитывая это, составители «Лицзи» внесли в текст этого обрядника специальную оговорку, которой предписывалось соблюдать в траурных обрядах трезвую умеренность — особенно в тех случаях, когда почтительному сыну уже за пятьдесят. Согласно этим правилам, во время траура не следовало допускать, чтобы слух или зрение были поражены вследствие голода и лишений, чтобы тело покрывалось лишаями из-за того, что человек не моется. Пусть находящийся в трауре вымоется, поест как следует и возвратится к ограничениям лишь после того, как почувствует себя лучше. Ибо, заключает «Лицзи», если в результате излишне ревностного соблюдения обрядов человек сделается вовсе не способным выполнять далее свои траурные обязанности, то это равносильно тому, чтобы быть непочтительным к умершему [888, т. XIX, 124].
Соблюдение траура в семье и клане было, как уже упоминалось, делом не только семейным, но и общественным, соответствующим принятым нормам социальной этики. Государство шло навстречу родственникам умершего, предоставляя им право временно уйти со службы и сохраняя за ними определенные льготы. Соседи также относились к носящим траур с большим уважением, всячески стараясь не потревожить их громким словом или песнью, музыкой. Считалось приличным пройти мимо человека в трауре побыстрей, не быть в общении с ним назойливым, дабы не разрушать его вызванной трауром печальной сосредоточенности [888, т. XIX, 262; 890, 180].
Важным элементом культа предков была забота об их могилах. Каждый клан и каждая отпочковавшаяся от клана его боковая ветвь, закладывавшая начало новому самостоятельному клану, считали своим долгом иметь собственные могильные земли, в которых покоились бы умершие предки. Поэтому забота о кладбищенской территории в Китае всегда во много раз превосходила по своей важности и социальной значимости аналогичные явления у других народов. Обычно, если речь идет о новом клане, еще не имеющем собственных могил, все начиналось с поисков подходящей земли. Выбрать удачное место для захоронения предков, для устройства родового кладбища — дело сложное и трудное. Для этого, как правило, нужно было возвышенное место, склон горы или холма. При покупке земли и закладке кладбища обязательно советовались с геомантами. которые были призваны хорошо разбираться в магической силе того или иного участка земли,, конфигурации местности и т. п. Так, например, считалось очень удачным и благоприятным для клана предзнаменованием, если очертания могильного холма чем-то напоминали, скажем, тигра36.
Могильные земли всегда были хорошо ухожены и заботливо распланированы. Богатые гробницы иногда представляли собой большие холмы, внутри которых находились настоящие подземные дворцы-склепы. Другие могильники выглядели скромнее. Однако любая могильная территория всегда была аккуратно обсажена деревьями и кустарниками, возле каждого захоронения были установлены каменные обелиски с надписями. Существовали и специальные правила захоронений. Могила жены должна была располагаться рядом с могилой мужа. Иногда женщин хоронили в особой части семейного кладбища. В некоторых случаях детей даже хоронили вне семейного могильника, на общественном кладбище [490, 154], что может быть воспринято как отражение тех древних традиций захоронения малых детей вне общих могил, о которых упоминалось в первой главе.
Считалось, что в могиле на семейном кладбище покоится тело умершего, а также та его душа, которая после смерти человека должна была идти вместе с ним под землю. Эта душа покойника требовала внимания и жертвоприношений. Примерно два-три раза в год, в определенные и строго установленные дни поминовения усопших совершались семейные визиты к могилам предков. Накануне этого важного события вся семья постилась и готовилась к визиту. В день поминовения все, включая малых детей, облачались в белые одежды и шли на свои кладбища. Здесь прежде всего приводились в порядок могилы (особенно весной, в главный праздник поминовения). Чистились ограды, укреплялись каменные плн--ты, заново обсаживались зеленью могилки. Затем тут же, на каменных плитах, располагались праздничные яства, готовилось угощение. После того как все было готово, глава семьи обращался к душам всех родных покойников и предков, приглашая их не погнушаться, принять эту скромную жертву и разделить вместе с пришедшими к ним потомками праздничную трапезу. Одновременно он просил дорогих предков и в дальнейшем не оставлять семью своими заботами, помогать и наставлять. После воззвания к предкам и положенного числа поклонов все собравшиеся приступали к трапезе. Вечером вся семья возвращалась домой [87, 65—67; 421, 225].
Обряды и жертвоприношения на могилах предков составляли очень важную часть культа умерших. Душу покойников •следовало регулярно ублаготворять, приносить ей все самое лучшее. Однако при всем том эта душа все-таки считалась второстепенной. Она мирно и тихо пребывала себе в могиле вместе с телом и — при условии хорошего к ней отношения — в сущности никак не проявляла себя. О ней вспоминали лишь в дни поминовения усопших. Во много раз более важную роль играла другая душа покойного предка — та, которая улетала да небо и от милостей которой так много зависело в жизни живых потомков. Как полагали китайцы со времен Инь, именно эта душа имела наибольшую чудодейственную силу. Для контакта с этой душой, для ее ублаготворения с древности устраивались наиболее обильные, в том числе также и кровавые жертвоприношения.
Именно эта, «духовная» душа предка могла, по представлениям древних китайцев, воплощаться в момент жертвоприношения во внука покойного, который от имени деда и совершал все необходимые обряды, отведывал жертвенные яства и т. п. Позже этот обряд был оставлен, а местом пребывания «духовной» души покойного в момент обряда стала считаться специальная табличка с его именем, всегда хранившаяся на алтаре в храме предков. Это храмовое имя37 рыбирал для умершего обычно его старший сын, хранитель родового культа. Делалось это на ритуальном торжестве в храме предков, посвященном введению в храм еще одной таблички с именем умершего. Храмовое имя надписывалось на табличке, которая с этого момента и становилась местом воплощения «духовной» души покойного предка. Табличка с большими церемониями водворялась на положенное ей место на алтаре в храме предков, мяо.
Алтари и храмы были обязательной принадлежностью каждой семьи. Даже самая бедная семья, не имевшая еще своего храма и бывшая, как правило, боковым ответвлением главной линии какого-либо родового культа, имела алтарь лредков, располагавшийся на самом видном и почетном месте (в «красном углу») главной комнаты в доме. Другие же семьи, и особенно семьи, олицетворявшие главную линию родового культа, обязательно имели специально выстроенные храмы предков, семейные и родовые (клановые).
Система таких храмов зависела от структуры семьи и клана. У группы родственных семей, чьи главы вели свое происхождение от общего прапрадеда, обычно существовал общий родовой храм. Этот храм соответствовал главной линии родового культа, хранителем которой выступал старший из этой группы родственников. Все остальные, боковые ветви, сразу же после своего отделения создавали собственные храмы, семейные. Таким образом, в каждый данный момент такая группа (клан) имела один общий главный родовой храм, генеалогическая линия предков в котором могла уходить далеко в прошлое и насчитывать десятки поколений, и серию семейных храмов. С течением времени родственные связи — особенно между представителями уже отдалившихся друг от друга боковых ветвей — ослабевали. Одни ветви хирели и гибли. Другие, напротив, богатели и, в свою очередь, превращались в могучие стволы, давая начало новым родовым культам.
При такой системе число семейных культов и семейных храмов предков значительно превышало число клановых культов и родовых храмов. Но роль семейных культов всегда была более ограниченной, чем клановых. Семейные ритуалы были менее торжественными, жертвоприношения менее обильными, общественные функции менее значимыми.
В рамках семьи все главные ее события: рождение сына„ брак, болезнь, смерть, получение ученой степени или должности и т. п.— обычно сообщались главе семейного культа, чаще всего умершему прадеду, основателю боковой линии.. С ним советовались, ему в дни семейных и всеобщих праздников приносили положенные жертвы. В праздничные дни на семейном алтаре в храме или в доме таблички с именами умерших украшались разноцветными лентами, перед ними ставились свечи и курения, самая лучшая утварь для жертвоприношений. Семейные предки играли огромную роль в. жизни семьи. Без их согласия нельзя было решаться ни на одно серьезное дело. Однако нередко семья, даже разросшаяся, состоявшая из нескольких десятков человек, долгое время ощущала себя неотъемлемой частью более крупного кланового коллектива, возглавлявшегося носителем главной ветви родового культа.
Родовой храм, символ кланового единства, обычно строился неподалеку от дома главы клана. Сооружение такого храма было чрезвычайно важным делом. Возводился храм на специальной храмовой земле, принадлежавшей формально всему клану. Нередко и строился он на общие средства: каждая семья, в зависимости от достатка, вносила свою лепту. Эти храмы представляли собой внушительные и солидные сооружения, обнесенные прочной оградой и вмещающие подчас до 600—700 человек. Огражденный массивным кирпичным забором, снабженный внутренним и внешним двориками, состоящий из нескольких храмовых и многочисленных подсобных (кладовая для хранения жертвенной пищи, амбары и каморки для хранения ритуальной утвари и одежды, кухня и т. п.) помещений, такой родовой храм уже одним своим видом внушал трепет и почтение. Центральное здание богатого родового храма имело несколько алтарей и террас. На главном, среднем, алтаре в центре размещались таблички основателя рода и его ближайших потомков. Эти таблички были окрашены в красный цвет и снабжены золочеными надписями с именами предков. Далее, по поколениям и старшинству располагались таблички остальных предков рода [87, 67].
Внутри храма находились столы для жертвоприношений и ритуальных пиршеств, курильницы, свечи, благопожелатель-ные надписи и т. п. В специальных шкафах храма размещались важнейшие архивные документы, включающие генеалогические таблицы, заповеди добродетельных "предков, драгоценные реликвии, описания деяний и краткие биографии наиболее выдающихся предков. При родовом храме существовали специальные храмовые земли, доходы с которых шли на нуж-лы культа, т. е. в первую очередь на содержание храма, жертвоприношения, пиршества. Иногда за счет части этих доходов клан создавал страховой фонд, использовавшийся для помощи нуждающимся членам клана и т. п.
Храмы предков в Китае никогда не были грозными святилищами, куда люди приходили бы лишь изредка, в дни •особых торжеств. Нет, это были храмы совсем особого рода, которые правильней было бы сравнить с домашними алтарями, с иконами в православных жилищах. Таблицы и изображения с благопожеланиями, воскурения и «беседы» с предками— все это существовало и активно функционировало всегда, ежедневно. Каждое утро глава семьи шел в свой храм (мяо), где он возжигал курения и совершал поклон предкам. В каждый праздник, семейный или всеобщий, и, кроме того, 1-го и 15-го числа каждого месяца (таких дней в году набиралось немало) в храме торжественно собиралась вся семья, -совершались обряды жертвоприношений и «отчетов» предкам о семейных делах.
Для отправления наиболее важных ритуалов все члены клана время от времени собирались в своем родовом храме. Вот как описывают эти обряды источники позднего средневековья, в первую очередь «Чжуцзы цзяли». Одетые в праздничные одежды все мужчины клана собираются возле дома носителя главного культа, после чего в строгом порядке в соответствии с их положением в системе родового культа входят в храм. Церемонию обычно возглавляют несколько наиболее почтенных и богатых членов клана — главы боковых ветвей культа, образованные чиновники-шэньшы и т. п. Эти люди становятся возле центрального алтаря главного зала храма, остальные располагаются сзади и рядом.
Празднично убранные столы покрыты свечами, курениями, ритуальной утварью, вином, обильными яствами. Все это приготовлено для жертвоприношения предкам и пиршества потомков. Возжигаются курения и свечи, после чего старший в роде обращается к предкам с длинной речью, в которой информирует их о важнейших событиях в многочисленном клане потомков, о рождении новых представителей мужского пола, о свадьбах, успехах в учении, продвижении по службе и т. п. После этого предкам зачитывается длинный список всех семей клана с указанием числа сыновей в каждой из них. После этой обстоятельной речи все зачитанные сведения, зафиксированные на бумаге, торжественно сжигаются. Считается, что документ попадает таким образом в мир духов, где предки могут еще раз ознакомиться с ним, иметь его при себе. По окончании речей приступают к обряду жертвоприношения. Предков угощают вином и кушаньями. После этого» все члены клана, включая и маленьких мальчиков, преисполненных торжественностью происходящего и подавленных величественной обстановкой, опускаются на колени и кланяются земным поклоном табличкам с именами предков. Затем все члены клана занимают свои места за столом и начинается пиршество (44, 87—98; 463, 21 и сл.].
Обряды и церемонии в храмах предков нередко использовались в Китае, особенно в сравнительно поздние эпохи,, когда развитие товарного хозяйства, городской жизни и имущественной дифференциации было уже очень заметным, также и как предлог для важных деловых встреч всех членов разросшейся и разбросанной по разным местам большой семьи или целого клана 38.
На все важные родовые собрания, созывавшиеся обычно раз в год, старались прибыть все мужчины — члены клана. Каждая такая встреча обязательно начиналась с уже описанного обряда жертвоприношения предкам, после чего следовала «деловая» часть. На общих собраниях членов большого клана обычно решались все гражданские, имущественные и даже уголовные дела, касающиеся того или иного представителя клана. Неотъемлемое право клана самому решать все такие дела не только санкционировалось, но и поощрялось властями. Все судебные дела сравнительно небольшого значения чуть ли не официально передоверялись суду родственников. При этом решения кланового собрания были не только обязательны и авторитетны, но и, как правило, беспрекословно выполнялись виновными членами клана. Клан мог заставить своего члена отдать чужую вещь или уплатить ее стоимость, он имел право вступиться за несправедливо обиженного и отстоять его честь, потребовать от другого клана наказания принадлежащего к нему обидчика. Наконец, клановое собрание выступало как суд первой инстанции и в случае некоторых более серьезных преступлений и правонарушений. В том случае, когда характер преступления требовал последующей выдачи преступника властям и таким образом публичного позора, «потери лица» клана, собрание обычно ставило перед преступником альтернативу:выдача
или самоубийство. Нередко провинившийся выбирал последнее39. Выдача властям, так же как и апелляция к ним по поводу несправедливого решения кланового суда, были практически настолько редки, что это в целом лишь подтверждало высокий авторитет семейных традиций и решений клановых собраний 40.
Общее собрание членов клана решало и многие имущественные споры, проблему налогов. Нередко это выражалось в сборе средств, или выделении части их из страхового фонда, для оказания материальной поддержки обедневшим сородичам. Важно подчеркнуть, что это ни в коей мере не было благодеянием или милостыней: все деловые отношения строились на строгой взаимной основе. Получивший ссуду был обязан ее отработать — например, на земле храма или в хозяйстве более богатого сородича, одолжившего свои деньги. Но даже при этом условии подобная материальная поддержка клана всегда имела огромный положительный эффект и способствовала упрочению клановых уз. Эта традиционная взаимопомощь позволяла любому бедняку ощущать свою принадлежность к клану и создавала в конечном счете иллюзию, что все люди — братья. Как уже упоминалось, эта иллюзия была всегда в Китае весьма крепкой [568, 153—155], и это позволяло многим старшим членам клана, особенно носителям главной ветви культа, подвергать такого рода скрытой эксплуатации своих многочисленных более бедных сородичей. Впрочем, клановая система до известной степени ограничивала и свободу действий зажиточной руководящей верхушки клана. Она ставила интересы клана в целом выше интересов любого из его членов в отдельности, что накладывало на богатых членов клана немалые обязательства. В частности, это находило свое выражение в том, что богатые не могли отстраниться от своей многочисленной родни и тратить свои деньги в «эгоистической экстравагантности» [698, 74].
Клановые традиции, клановая солидарность, клановая взаимопомощь— все это логическое следствие гипертрофированного в конфуцианском Китае культа предков. Этот культ и связанные с ним нормы, институты и традиции с течением веков оттеснили на второй план все прочие древние верования, культы и традиции и превратились в основу основ китайского общества. Уместно напомнить, что основанные на конфуцианских принципах гуманности, сяо, долга и т. п. нормы получившего распространение в Китае культа предков всегда были достаточно рационалистичны. Ритуалы и жертвы в честь предков обычно рассматривались не как откуп от всемогущих сверхъестественных сил, а скорее как дань уважения, признательности и почтительности к этим силам. Такой рационализм мог бы оказаться чрезмерно сухим и скучным, мало воздействующим на человеческую натуру, если бы конфуцианцы не уделили столь тщательного внимания самому ритуалу, если бы они не сопроводили отправление всех своих культов большой обрядовой пышностью, праздничной торжественностью, красочным звуковым оформлением.
Торжественность и праздничность ритуальных отправлений была характерна для древнекитайских культов еще задолго до Конфуция. В ту пору внешняя форма ритуалов вполне соответствовала их внутреннему содержанию, полному мистики и веры в сверхъестественное. Конфуцианство очень сильно реформировало внутреннее содержание важнейших ритуалов, придав им рационалистический смысл и логическую целесообразность. Однако мудрость и хорошее знание человеческой натуры подсказали Конфуцию и его последователям не только оставить, но и еще усилить красочность и эмоциональность внешней формы древних ритуалов с тем, чтобы весь этот искусственный антураж способствовал более глубокому внутреннему восприятию основных догматов. Не прославляя ни веры в непознаваемое, ни мистических ощущений, конфуцианцы в своей практической деятельности умело использовали и то, и другое. Это привело к тому, что отодвинутые на второй план и превратившиеся в своеобразные подспудные силы мистическое и эмоциональное начала в человеке сыграли свою роль в успехах конфуцианства в Китае.
Каждый конфуцианский ритуал и обряд, будь то жертвоприношение предкам или Небу, брак, рождение, похороны, всегда был отмечен высоким эмоциональным накалом, приподнятой торжественностью. Этот накал не был вызван ни соответствующими проповедями, ни молитвами, ни вообще апелляцией к каким-то смутным и неясным чувствам и переживаниям в душе человека. Как правило, он создавался самой обстановкой, сопутствовавшей тому или иному ритуалу. Соответствующее убранство дома или храма, специально применявшаяся самая изысканная и богатая утварь и посуда, праздничные одежды, соответственная внутренняя подготовка самого человека (пост, воздержание, омовения и т. п.) — все это в своей совокупности создавало соответствующее ритуалу настроение. Важностью и значением предстоящего события преисполнялись все его участники, начинавшие готовиться к нему иногда задолго до его свершения. Торжественность и пышность всех конфуцианских ритуалов старательно подчеркивалась также до мелочей разработанным церемониалом, которому придавал столь большое значение еще сам Конфуций и который был впоследствии освящен авторитетом конфуцианских канонов, прежде всего «Лицзи».
Огромную роль во всех ритуалах и обрядах конфуцианства играла музыка. Как отмечают некоторые специалисты, музыка в представлении ряда народов, в том числе и китайского, представляла собой магическую силу, воздействовавшую как на человека, так и на природу (752, 68]. Музыка, музыканты с их инструментами, исполнение музыкальных мелодий и ритмов были неотъемлемой частью всех ритуальных торжеств и в иньском, и в раннечжоуском Китае. Как сообщают источники, слепцы-музыканты еще в начале Чжоу обычно принимали участие во всех торжествах и были желанными гостями во дворце или в храме в дни праздников и обрядов [1040, IV, 2, V, № 280; 890, 349]. В случае особо важных церемоний, например государственных ритуалов в честь Неба, Земли или императорских предков, созывались целые группы музыкантов, игравших соответствующие случаю мелодии. Для исполнения обрядовых танцев приглашались также специальные танцоры. Количество музыкантов и танцоров, так же как и их репертуар, было, как и все связанное с ритуалами, строго фиксированы в соответствии с рангом организатора и значением обряда 41.
Высокое значение музыкального и танцевального сопровождения обрядов и ритуалов было сохранено и даже еще усилено Конфуцием и конфуцианцами, которые ставили очень высоко роль музыки и ее облагораживающее влияние. Конфуций, как свидетельствуют источники, не только ценил, но и любил музыку, видя в ней средство достижения успокоенности, чувства радости и гармонии. Услышав как-то в царстве Ци прекрасные мелодии музыки Шао, философ был настолько восхищен, что около трех месяцев находился под впечатлением этих замечательных звуков и «не находил вкуса» даже в мясе [890, 141].
Как считают специалисты, эстетическая теория музыки была очень тесно связана со всей этической системой Конфуция [510, 22]. Основы этой теории исходили все из того же характерного для древних китайцев представления о пяти первоэлементах и их роли в создании гармонии между человеком и природой. Пентатонный ряд китайской музыки соответствовал этим пяти первоэлементам, что и рождало гармонию, способствовало созданию настроения, служило для выражения определенных мыслей и чувств [501, 52—59; 808, 39]42. Музыка в ритуальной церемонии всегда была строго определенной, соответствовавшей именно данному случаю и предназначавшейся именно для него.
Как и везде в мире, музыка в Китае делилась на жанры, причем еще Конфуций очень почитал музыку «серьезную», т. е. благонравную и возвышенную, рождающую высокие и благородные чувства, и презирал «легкую», называя ее легкомысленной и развратной. Вследствие этих своих строгих симпатий и антипатий философ потратил немало усилий для того, чтобы должным образом «отрегулировать» музыку. Практически это нашло выражение в том, чтобы по возможности вытравить, вывести из употребления все «легкомысленные» мелодии и ритмы, наполнить все употребляемые при ритуалах музыкальные произведения соответствующим случаю содержанием, а также установить, когда, кому и на каких инструментах играть [890, 70, 73; 890, 164, 379].
Наряду с музыкой во время всех важнейших ритуальных празднеств обязательно исполнялись песни и танцы, иногда даже целые обрядовые действа, представления. Таким представлением был, в частности, наиболее известный в древности танец у, посвященный легендарному У-вану, победившему Инь. Этот танец исполнялся в императорском храме и представлял собой пантомиму, изображавшую ход этой великой битвы. Многие другие танцевальные обряды, как и танец у, посвящались пояснению смысла или происхождения того или иного ритуала и своими корнями восходили к древним шаманским магическим пляскам.
Разумеется, все эти танцы в конфуцианских ритуалах уже очень сильно отличались от их ранних прототипов. Они не сопровождались ни исступленными выкриками, ни магическими заклинаниями. В соответствии со строго разработанным ритуалом они служили для того, чтобы, как и музыка, подчеркнуть величие и торжественность обряда. Время от времени в зависимости от потребности могли создаваться и новые танцы. Так например, когда умер отличавшийся добродетелями ханьский Вэнь-ди, восшедший на престол сын покойного приказал построить в областных центрах'империи специальные храмы в честь Вэнь-ди и, не удовлетворяясь обычными музыкальными произведениями, сочинить новый танеч-пантомиму, восхваляющий добродетели покойного императора [934, гл. 10, 185].
Музыка, танец, пантомима и церемониал всегда играли огромную роль в ритуальных обрядах и культах в Китае, причем эта роль была тем большей, чем на более высоком уровне совершались ритуалы. Свое наивысшее воплощение все конфуцианские обряды и сопровождавшие их церемонии находили при жертвоприношениях и ритуалах в императорском храме, когда главным субъектом ритуальных отправлений был сам первосвященник-император. Уже начиная с Хань в императорском храмовом комплексе Мин-тан сложилась строго фиксированная практика годового круга жертвоприношений и обрядов. Ежемесячно по строгому расписанию, за неукоснительным соблюдением которого всегда следили высшие чиновники и министры церемоний, в этом храме совершались торжественные жертвоприношения в честь Неба и Земли, духов и предков. С соблюдением положенных ритуалов и жертв отмечались дни наступления весны, лета, осени и зимы, совершались даже обряды изгнания демонов и пантомимы, призванные вызвать дождь. Все эти ритуалы и обряды, совершавшиеся в разных залах и на разных участках территории храмового комплекса самим императором и другими служителями культа, имели очень важное значение [674, 54—61; 710]. История их уходит в прошлое, но фиксированные в Хань способы и порядок отправления этих ритуалов были в значительной мере созданы под влиянием конфуцианства.
Итак, конфуцианство сыграло огромную роль в становлении и консервации на долгие века очень многих из тех древних обрядов, ритуалов, культов и элементов церемониала, этики, которые существовали еще в древности. Разумеется, не следует думать, что Конфуций и его ученики действительно только «передавали», но не «создавали» [341, 398]. Все изложенное выше свидетельствует о том, что конфуцианство проделало гигантскую работу по трансформации древних традиций и институтов и приспособлению их к условиям развитого общественного организма [1046,8]. Однако этот процесс шел медленно, с постоянными реверансами в сторону древних традиций. И если даже менялось многое по существу, то всего меньше и неохотней менялась форма, которая с течением веков все более очевидно превращалась в твердую и заскорузлую догму.
Успех к конфуцианству пришел далеко не сразу. Сам Конфуции умер, не^добившись признания современников, и многие специалисты считают, что это один из наиболее ярких примеров столь типичной для мировой истории большой разницы между признанием современников и действительной исторической ролью того или иного деятеля. Нелегко было и ученикам философа. Те из них, которые получали место у руля правления' не могли, как правило, последовательно проводить в жизнь идеи Конфуция и подчас заслуживали суровые отповеди и даже проклятия учителя (как это было, в частности, с Цю). Остальные избирали менее быстрый, но более надежный путь: они превращались в учителей, распространявших учение Конфуция. Из поколения в поколение многие последователи Конфуция трудились на ниве народного просвещения, сея, как они полагали, «разумное, доброе, вечное». Два основных обстоятельства способствовали их успеху на этом пути.
Во-первых, учение Конфуция в основе своей базировалось jia древних традициях, на привычных нормах этики и культа, столь близких уму и сердцу выраставших в патриархальноклановой среде китайцев. В условиях эпохи Чжаньго, когда в древнем Китае соперничали представители различных философских школ и идеологических течений', конфуцианство по своему значению и влиянию в обществе всегда было учением номер один. Апеллируя к самым отзывчивым струнам души «истинного» китайца, конфуцианцы завоевывали его доверие
1 Как известно, в период Чжаньго существовали и развивались ле-гизм, даосизм, моизм и некоторые другие философские и общественно-политические течения. Не случайно этот период китайской истории, до Цинь, получил впоследствии славу эпохи свободы и борьбы мнений («пусть расцветают все цветы!»). Подробней об этих учениях см. в сводных работах: 8; 28; 51; 193; 292; 330; 402; 414, т. I; 415; 568; 731; 856; 894; 896; 971; 975; 1044; 1054.
главным образом тем, что они выступали за консервативный традиционализм, за возврат к «доброму старому времени», когда и налогов было меньше, и чиновники были справедливей, и правители мудрее. Вместе с тем конфуцианское учение привлекало людей своим ^культом этического на чалпроповедью повиновения старшим, преждё~всего умершим предкам, чья воля должна была быть священной для потомков и чьи установления не должны были (вопреки тому, что происходило на самом деле) меняться.
При этом, хотя конфуцианцы строили свое учение в основном на базе древних обрядов, ритуалов, культа и этики, имевших отношение прежде всего к верхнему пласту религиозных верований Чжоу, они не забывали распространить сделанные ими выводы и правила на всех. Благодаря их стараниям до того практиковавшийся по преимуществу среди знати кулы. предков стал основой основ религиозно-этических норм среди всего народа, прежде всего среди крестьянства. После того как культ предков в среде крестьян оттеснил на второй план все прочие религиозные верования, принадлежавшие в основном к низшему пласту религиозных представлений Чжоу (магия, суеверия и т. п.), фундамент для успеха конфуцианства в Китае был в основном заложен.
Вторым важнейшим обстоятельством, способствовавшим успешному развитию и распространению конфуцианских идей, было то, что конфуцианцы уделили очень большое внимание обработке и интерпретации древних сочинений, которые использовались ими в процессе обучения и воспитания подрастающих поколений. Решающий вклад в это дело был сделан еще самим Конфуцием. Немало времени и усилий потратил он на то, чтобы собрать и отредактировать древнейшие сборники стихов и исторических преданий, летописи и хроники, которые существовали до него и находились при дворах правителей различных царств чжоуского Китая. Это была нелегкая задача. Достаточно напомнить, что 305 имеющихся ныне стихов и песен «Шицзин» были отобраны из более' 3 тыс. аналогичных сочинений (934, гл. 47, 656; 153, 43—44]. Насколько можно судить по результатам, основной тенденцией отбора народных песен и придворных гимнов было стремление не только выбрать все наиболее лучшее, важное, типичное, но и сохранить, даже усилить назидательную силу, нравственное (разумеется, с позиций основных принципов Конфуция и конфуцианства) воздействие собранного материала путем соответствующего редактирования.
Отобранные и отредактированные Конфуцием сочинения, так же как и написанные его учениками и последователями сборники важнейших мыслей и изречений Конфуция, одобрявшихся им правил и норм, со временем оказались чрезвычайно сильным и могучим орудием в руках конфуцианцев.
Все эти сочинения, впоследствии составившие знаменитые 13 классических конфуцианских канонов, были уже с древности своего рода Библией китайцев. Вошедшие в эти книги назидания, сентенции, парадоксы, поучительные рассказы о добродетельных предках и героях и не менее поучительные и назидательные разоблачения «недобродетельных» проступков долгие века служили наглядной и неопровержимой иллюстрацией основных догм и принципов конфуцианства. Если же учесть, что именно в этих отобранных конфуцианцами сочинениях были собраны и заботливо обработаны почти все из сохранившихся к началу нашей эры сведений о наиболее древних (до Конфуция) эпохах китайской истории, то окажется, что об этих эпохах китайцы последующих поколений узнавали в основном именно из конфуцианских канонов. Чи-тая «Шуцзин». «Шицзин», «Чуньцю», поколения китайцев знакомились с конфуцианской интерпретацией древнейшей истории и исторического процесса. Таким образом, само чтение и изучение большинства наиболее важных и содержательных древних сочинений стало как бы агитацией за конфуцианство, за его трактовку исторического процесса и социально-этических ценностей, его систему мышления.
Уже во времена Мэн-цзы, на рубеже IV—III вв. до н. э., учение Конфуция пользовалось значительно большим влиянием, чем при жизни его основателя. Сам Мэн-цзы, как об этом можно судить по материалам носящего его имя трактата; проповедовал доктрину Конфуция современным ему правителям. Некоторые из них внимали ему и даже использовали кое-что из конфуцианских политических и социальных принципов в своей практической деятельности. И все же о сколько-нибудь значительных реформах общества на предложенных конфуцианством началах говорить еще рано. Конечно, в области культов, ритуалов и этики, в распространении культа предков конфуцианцы к этому времени уже достигли многого. Однако принципы социальной этики и политики конфуцианства, т. е. предлагавшиеся конфуцианством методы управления страной, в то время еще не получили признания. На пути к этому стояли пользовавшиеся очень большим влиянием легисты.
Учение законников-легистов (фа-цзя) и роль, сыгранная ими в истории Китая, в последнее время привлекают к себе пристальное внимание специалистов (101; 102; 124; 486; 746]. В опубликованной недавно на эту тему серии статей Г. Крила убедительно показано, как учение легистов повлияло на становление форм социальной организации и администрации в конце Чжоу [318; 320—322].
Легисты были главной силой, противостоявшей конфуцианству именно в сфере социальной политики и этики, т. е. в том, что составляло существо учения Конфуция. Доктрины легизма, его теория и практика в ряде важнейших пунктов были кардинально противоположны тому, что предлагали конфуцианцы. Говоря в самом общем плане, легисты в политике и этике были прежде всего реалистами. Если у конфуцианцев, во всяком случае вначале, теория стояла как бы над практикой, а политика считалась производным от морали (как считают некоторые, характерным для конфуцианцев было «создать модель» и следовать ей) {801, 9], то для леги-стов практика и потребности конкретного развития стояли на первом плане. Это определило и многие другие различия. Так, в отличие от конфуцианства, у теории легизма не было единого признанного творца, патриарха-пророка. Среди тех, кто внес наибольший вклад в развитие этого учения, были по преимуществу политики-практики, министры и реформаторы, действовавшие в различных царствах древнего Китая с VII по III в. до н. э. — Гуань Чжун, Цзы Чань, Шэнь Бу-хай, Шан Ян, Ли Куй, У Ци, Хань Фэй-цзы, Ли Сы. Деятельность каждого из них развивалась примерно в одинаковом направлении— в сторону усиления центральной власти, увеличения авторитета закона, могущества правителя и его министров, силы административно-бюрократического аппарата.
В отличие от конфуцианцев с их приматом морали и обычного права, призывом к гуманности и осознанному чувству долга, культом предков и авторитетом личности мудреца, легисты в основу своей доктрины ставили безусловный примат Закона, сила и авторитет которого должны были держаться на палочной дисциплине и жестоких наказаниях. Ни семья, ни предки, ни традиции, ни мораль — ничто не может противостоять закону, все должно склониться перед ним. Законы разрабатываются мудрыми реформаторами, а издает их и придает им силу государь. Он единственный, кто может стать над законом, но и он не должен делать этого43. Осуществляют закон и проводят в жизнь его нормы министры и чиновники, слуги государя, его именем управляющие страной. Почтение к закону и администрации обеспечивается специально введенной строгой системой круговой поруки и перекрестных доносов, которая в свою очередь держится на страхе сурового наказания даже за мелкие проступки. Наказания за строптивость уравновешиваются поощрениями за послушание: преуспевшие в земледелии или в воинских доблестях (только эти два вида занятий считались легистами достойными, остальные, особенно торговля, преследовались) могли рассчитывать на присвоение им очередного ранга, повышавшего их социальный статус. Эта система, введенная впервые Шан Яном в царстве Цинь в IV в. до н. э., ставила своей целью с помощью иерархической громоздкой структуры из 20 рангов заменить ранее существовавшие сословия и ослабить некотр-рые из них, прежде всего родовую аристократию [65; 102; 124; 175; 354; 570; 828; 902; 967; 1034]. В статьях Крила показано, что доктрина легизма, сформулированная в ее наиболее завершенном виде в III в. до н. э. Хань Фэй-цзы, первоначально состояла из двух основных школ или течений. Первой была школа Шэнь Бу-хая, которая основной упор делала на выработку методов управления и системы контроля администрации при посредстве развитого бюрократического аппарата. Второй — школа Шан Яна, превыше всего ставившая закон и систему наказаний [320, 608—609; 322, 25]. Оба эти течения были не только родственны друг другу, но и отражали одну и ту же объективную тенденцию: необходимость подавить сепаратистские устремления родовой знати, рождавшие хаос, междоусобицу и приводившие к разрухе и гибели общества, и противопоставить им сильную центральную власть с хорошо налаженным административно-бюрократическим аппаратом.
Правда, против междоусобиц знати и падения нравов, за укрепление центральной власти мудрого и добродетельного государя выступали также и конфуцианцы, начиная с Конфуция. Однако между теми и другими была (по крайней мере вначале, в Чжаньго) существенная разница: легисты выступали за решительное сокрушение влияния родовой знати и за безоговорочную абсолютную власть государя и писаного закона, тогда как конфуцианцы требовали сохранения, даже восстановления былого влияния знати и традиций с условием, чтобы сами аристократы, проникнувшись гуманностью и долгом, превратились в высокоморальных цзюнь-цзы и помогали государю в управлении Поднебесной на основе древних норм обычного права.
В синологии, особенно среди ученых КНР, было немало споров о том, какие классовые или социальные силы представляли те или иные течения философской мысли древнего Китая. Спорили, в частности, о том, можно ли считать Конфуция идеологом рабовладельческой аристократии [825; 964; 976]. Подчас эти споры велись с позиций вульгарного экономического материализма, и в результате представителей различных философских школ механически «приписывали» тем сословиям (старой знати, новой знати, горожанам, общинникам и т. п.), интересы которых они будто бы выражали [985]. Все это заставляет с особой осторожностью отнестись к сложной и далеко не ясной проблеме действительных социальных и экономических сил, которые могли оказать воздействие и способствовать вызреванию различных идей и теорий.
Очевидно, есть некоторые основания считать, что конфуцианство в какой-то мере отражало интересы части родовой аристократии. Однако этого далеко недостаточно. Фэн Ю-лань, например, справедливо ставит вопрос о том, что для сословия служивых — ши Конфуций сделал так много, что его следовало бы считать патроном этого сословия наподобие того, как патроном плотников в средневековом Китае считался Лу Бань {960, 247]. Кроме того, несомненно, что действительная социальная база конфуцианцев была еще большей: многие принципы этого учения импонировали широким слоям населения, тесно связанного с родовыми традициями прошлого. Наконец, саму родовую знать эпохи Чжаньго нельзя считать чем-то социально монолитным. Не говоря уже об ожесточенной междоусобице владетельных аристократов, разные представители знати в зависимости от конкретных обстоятельств могли оказываться попеременно то в лагере сторонников сохранения древних традиций, то в лагере их противников. В свою очередь и легисты лишь в самом общем плане могут быть названы представителями нарождавшегося социального слоя чиновничьей бюрократии, противостоявшей родовой аристократии: не все представители этого слоя были легистами и поддерживали идею о примате закона над традицией, этическими нормами и обычным правом. Словом, подлинная социальная действительность была много сложней упрощенной схемы, которая подчас кажется само собой разумеющейся, вполне очевидной.
Для того чтобы полнее разобраться в реальном соотношении сил и точнее определить причины и факторы, которые обусловливали те или иные позиции и теории и способствовали их успехам, необходимо прежде всего обратить внимание на то, где именно получили наибольшее развитие и признание идеи конфуцианства и легизма. Как показывают специальные исследования, позиции конфуцианства были особенно сильны в районах древнего Китая, которые издревле были населены собственно китайцами и где клановые связи на протяжении долгих веков были основой основ социальных отношений. В этих районах, в основном в восточном Китае, в районе нижнего течения Хуанхэ, вся система управления царствами и княжествами долгое время строилась на базе именно клановых связей, а другие, более радикальные методы администрации, связанные с территориальным делением на области, системой служилой бюрократии, централизованной налоговой системой и т. п., пробивали себе дорогу чрезвычайно медленно и неуверенно {614; 636]. В этих-то «старых» районах чжоуского Китая и зародилось конфуцианство, которое, с точки зрения этики и социальной политики, лучше всего соответствовало реально существовавшим отношениям и потому встречало среди населения самый сочувственный отклик.
Но в конце эпохи Чжоу, в Чжаньго, эти «старые» районы, составляли уже явное меньшинство в Китае. В IV—III вв. до н. э. в рамках чжоуского Китая было уже немало царств с преимущественно некитайским, «варварским» населением. В этих царствах, расположенных в основном на окраинах, население было этнически неоднородным, в культурном отношении более отсталым, а влияние древних традиций собственно китайцев ощущалось много слабее. Кроме того, и в ряде «старых» районов в связи с появлением железных орудии и развитием ирригации в это время осваивалось немало пустующих земель, на которых селились обычно безземельные и малоземельные крестьяне, выходцы из разных общин, не имевшие друг с другом родовых и клановых связей. Во всех этих «новых» царствах и «новых» районах с самого начала все более определенно вводилась разработанная легистами система административных уездов и областей во главе с подчиненными центральной власти чиновниками, осуществлявшими основанное на законе управление. В этих районах и осуществляли свои реформы главные апостолы легизма — Шэнь Бухай, Шан Ян, У Ци и др. Сами они, как правило, были чужаками в тех местах, где получали власть. Уже по одному этому сила родовой традиции для них лично не имела никакого значения. Поэтому здесь легизм оказался не только уместен, но и прямо-таки необходим. Легистские методы управления оказались наиболее удачными для обеспечения управления как раз теми территориями, где было мало места столь близким конфуцианству традициям [314, 137—138].
Таким образом, конфуцианство и легизм выявляли свое преимущество, свое право на существование в разных районах. В условиях, когда в чжоуском Китае уже созрели предпосылки для создания на базе разнородных этнокультурных элементов и традиций единого государства, это важное обстоятельство необходимо было обязательно учесть и умело использовать. Это, однако, произошло не сразу. В конце Чжаньго политика объединения Китая и создания новой единой империи шла под лозунгами легизма и борьбы с конфуцианством.
Тяжелое для конфуцианцев время было тесно связано с жизнью и деятельностью одного из наиболее знаменитых китайских императоров, могущественного Цинь Ши-хуанди, объединителя страны и основателя китайской империи. Как известно, после реформ легиста Шан Яна в IV в. до н. э. захолустное царство Цинь быстро окрепло, усилилось и, разгромив всех своих соперников, сумело в 221 г. до н. э. объединить весь Китай. Новая империя, воспринявшая легизм в качестве своеобразной «философии управителей» [307, 106], включала в себя как исконно китайские территории с чрезвычайно сильными клановыми традициями, так и окраинные районы, населенные в основном некитайскими народностями. В ее состав вошли «старые» царства с сильной еще родовой знатью и «новые» территории с полным господством административного деления и чиновничье-бюрократического аппарата. Понятно, что добиться военного успеха и силой объединить страну было много легче, чем наладить крепкое централизованное управление всеми этими столь различными по этническому составу, культурным традициям, экономическому и социальному уровню развития районами. Нужна была умелая и гибкая политика, которая учитывала бы все особенности обстановки и умело сочетала бы все необходимые средства управления.
Цинь Ши-хуанди и его правая рука —первый министр легист Ли Сы, который сыграл огромную роль в процессе создания империи Цинь и которого за это подчас считают истинным «первым объединителем Китая» [223],— пошли по иному пути. Не мудрствуя лукаво, они распространили на весь завоеванный ими Китай ту схему администрации, которая была еще свыше ста лет назад выработана для царства Цинь Шан Яном. В империи была создана жесткая политикоадминистративная система. Все население огромной страны было обязано подчиняться эдиктам императора, малейшее нарушение которых каралось необычайно сурово. Разумеется, многие из этих эдиктов шли вразрез с установившимися нормами и традициями, игравшими столь значительную роль в «старых», конфуцианских, районах страны. Возникали конфликты, зрело недовольство, которое подавлялось насилиями и репрессиями, ожесточавшими население страны. Неслыханные до того поборы и повинности резко ухудшали и без того подорванное войнами экономическое положение империи. Назревал кризис. Для взрыва достаточно было искры. И эта искра вспыхнула в 209 г. до н. э., когда группа мобилизованных крестьян опоздала явиться в срок (за это им грозила смерть) и решила поднять восстание. Мощный взрыв потряс империю, которая вскоре пала, уступив свое место новой — империи Хань [100, 182—219].
С падением династии Цинь легисты были оттеснены от руля правления и их место заняли конфуцианцы. Победа досталась конфуцианцам казалось бы сравнительно легко: колосс на глиняных ногах рухнул под давлением собственной тяжести и на его обломках «высокодобродетельное» учение Конфуция воздвигло основы нового государства и общества, которому суждено было простоять свыше двух тысячелетий.
Уже в эпоху Хань историографы стремились разгадать причины падения Цинь44. Позже трагедией Цинь занялись специалисты-синологи, причем многие из них, оценивая достоинства легизма, нередко отдавали ему явное предпочтение перед конфуцианством. Так, например, О. Франке отмечал трезвость, практичность, даже прогрессивность легизма в противовес консервативному конфуцианству. Считая, видимо, что падение легизма было досадной случайностью, он полагал, что если бы легисты победили, вся история Китая сложилась бы по-иному {407, 222]. О том, что идеи легизма были более передовыми по сравнению с конфуцианскими, писал и Я. Б. Радуль-Затуловский [116, 8]. Мнение этих и некоторых других синологов о прогрессивности легизма подкреплялось еще одним не лишенным основания соображением. Дело в том, что конфуцианцы на протяжении свыше двух тысяч лет в своих многочисленных сочинениях клеймили легизм и его главного апостола — Цинь Ши-хуанди, и поэтому данная в официальных китайских сочинениях оценка легизма по меньшей мере недостаточно объективна. Таким образом, создавалось подчас представление, что более передовые и прогрессивные легисты пали жертвой каких-то неясных до сих пор драматических случайностей, в силу которых восторжествовало консервативное конфуцианство, надолго и напрочно затормозившее прогрессивное развитие Китая.
Мнение это — особенно если учесть откровенно бесчеловечный и тоталитарный характер легизма, как доктрины,— стало вызывать в последнее время ожесточенные нападки. В противовес ему многие современные исследователи утверждают, что аморальные принципы легизма суть явление сугубо реакционное и бесчеловечное по характеру, что именно в древнекитайском легизме можно отчетливо проследить отвратительные черты тоталитаризма, особенно в том, что касается крепкой центральной власти и приниженности бесправной личности [223, 195; 314, 135—158; 354, 129—130; 485, 197; 486, 114]. Параллельно с этим говорилось, что конфуцианство с его приматом морали может показаться безусловно предпочтительней легизма. Эта линия на противопоставление конфуцианства легизму была сравнительно недавно поддержана В. А. Рубиным [124], который все симпатии отдал конфуцианству, видя в нем положительное начало (по крайней мере в доханьский период его существования и развития), а все антипатии — легизму.
Действительно, позиции тех авторов, которые высоко превозносили легизм и даже полагали (как О. Франке), что победа легизма заставила бы Китай пойти по совершенно иному пути, не вызывают особой поддержки. Короткие сроки, отведенные историей легизму для проведения на практике соответствовавшего его теориям социального эксперимента, оказались вполне достаточными для того, чтобы выявить его несостоятельность, его непригодность — по крайней мере для Китая в III в. до н. э. Но можно ли из этого заключить, что доктрина легизма несла в себе только отрицательный заряд, а социальный идеал и вся теория и практика доханьского конфуцианства заслуживают решительного предпочтения и безоговорочной поддержки?
Как уже упоминалось, Китай в то время был весьма разнородным по своему этнокультурному составу образованием. При управлении вновь созданной империей необходимо было проявить максимальную гибкость. Ли Сы и Цинь Ши-хуанди этого не сделали. Делая ставку на сильную власть государя и его министров и чиновников, они не очень-то интересовались тем, как отнесутся к их нововведениям подданные императора. Легизм с его приматом закона и безоговорочного повиновения под страхом сурового наказания откровенно презирал народ, считая его быдлом45. Одновременно легизм озлоблял и восстанавливал против себя аристократов, ибо он настойчиво посягал на их привилегии. Легизм признавал лишь созданную им грандиозную и действительно обладавшую весьма большой реальной силой административно-бюрократическую систему управления. Опираясь на эту силу, легисты решительно выступали против древних традиций, презрительно считая их устарелым пережитком и досадным препятствием на пути реформаторской деятельности.
Однако эти традиции, да еще поднятые на щит столь умелым и опытным противником легизма, как конфуцианство, отнюдь не были пустым звуком. Более того, именно их роль в качестве социального препятствия на пути решительных преобразований оказалась в конечном счете роковой для самих легистов. Раздосадованный сопротивлением конфуцианцев, Цинь Ши-хуанди в гневе приказал сжечь все конфуцианские сочинения и закопать живьем 460 виднейших конфуцианцев. Но и это не помогло. Сила противников легизма была в том, что они опирались на широкую социальную базу, поддерживавшую их в сопротивлении тирану. Сам же легизм, как упоминалось, никакой социальной опоры, кроме созданного им аппарата, не имел. Более того, практики легизма не считали даже нужным камуфлировать свои позиции — напротив, они откровенно прославляли силу и эффективность созданного ими бюрократического режима и презирали любое проявление слабости и непоследовательности в проведении в жизнь его жестких норм [1034; 102]. Все это сыграло роковую роль в судьбах легизма.
Крушение легизма не означало, однако, что в теории и практике этого учения не было ничего полезного и нужного для империи. Напротив, именно легистские концепции по своему существу были весьма удобны для управления централизованной империей. Неприемлемой и неэффективной оказалась та безапелляционная, циничная максималистская форма, которая была придана легистским идеям и институтам. Эту форму прежде всего и необходимо было ликвидировать, сохранив при этом существо. И колоссальным достижением конфуцианства, доказавшим жизнеспособность этого учения и определившим на века и тысячелетия его ведущую роль в китайском государстве, было то, что конфуцианцы сумели извлечь из опозорившего себя легизма его рациональное зерно и использовать его таким образом, что начиная с Хань мы уже фактически имеем дело не с конфуцианством в его ранней, «чистой» форме, а с синтезом конфуцианства и легизма (во всяком случае во всем том, что имеет отношение к сфере политики, управления).
Синтез конфуцианства и легизма может показаться парадоксом. Что общего могло быть между столь различными и противоположными учениями, которые вечно враждовали друг с другом? Как могли ужиться друг с другом два учения, одно из которых делало исключительную ставку на мораль и традиции и весьма скептически относилось к писаному закону, а другое, наоборот, ценило только закон и в грош не ставило ни мораль, ни традиции?
Однако синтез этих двух учений оказался фактом. Более того, именно он и только он дал конфуцианству силы и возможность господствовать в высокоорганизованном обществе со сложной административно-бюрократической структурой. Поэтому интересно выяснить, как и каким образом конфуцианство сближалось с легизмом, что и в какой форме оно заимствовало у него.
Прежде всего важно учесть, что при всех очень серьезных и принципиальных ‘расхождениях между обоими учениями в них было все-таки и немало сходного. Так, и конфуцианцы и легисты равно осуждали междоусобные войны и политическую раздробленность страны и призывали к централизации власти во главе с государем. Для тех и для других государь был высшей, верховной инстанцией,— только для одних он был «сыном Неба» и патриархальным «отцом отечества», а для других — всевластным правителем, опирающимся только на закон. И конфуцианцы, и легисты в равной мере считали, что в управлении страной государю должны помогать министры и чиновники. Однако одни видели в этих помощниках лишь ревнителей традиций, стоявших на страже незыблемых норм древности, а другие — послушных и ревностных исполнителей воли императора и требований закона. Те и другие в общем-то одинаково относились к народу [486, 112]. С одной стороны, они считали народ невежественной массой, которая не может сама судить о том, что для нее благо, а с другой стороны, и конфуцианцы, и легисты клялись при случае, что именно они, их учение, их методы правления наилучшим образом отражают интересы народа [913, 573; 967, 356—357; 65, 237; 109, 251; 570, т. II, 326]. Более того, представители обоих учений были единодушны в том, что к низшим классам следует относиться со всей строгостью закона. Различие было лишь в том, поднимать ли закон до универсальности, т. е. применять ли закон также и по отношению к знати, к управителям. Не законодательство как таковое, а равенство всех перед законом —вот что разделяло оба учения.
Сближению конфуцианства и легизма в немалой степени способствовало также взаимопроникновение отдельных элементов обоих учений, особенно заметное в среде правящей верхушки. Так, конфуцианские моральные принципы и понятия, конфуцианская система ценностей и даже конфуцианская фразеология, обороты речи, формы письменного обращения и т. п. постепенно становились общей нормой — сказывались столетия изучения конфуцианских сочинений. Достаточно обратить внимание на стелы Цинь Ши-хуанди, воздвигнутые в 219 г. до н. э. и прославлявшие деяния нового императора. В стелах подчеркивалась добродетель императора, упоминалось о почитании им родителей, говорилось о благоденствии народа, мире и счастье подданных и т. д. [100, 156—162]. Из текста и стиля стел явствует, что объединитель Китая сам, быть может, помимо своей воли, был в немалой степени конфуцианцем, хотя и активно осуществлял в своей внутренней политике и администрации легистские методы.
В направлении некоторого сближения с легизмом действовали, с другой стороны, и сами конфуцианцы, в первую очередь такие мыслители, как Сюнь-цзы, который в конфуцианской иерархии считается третьим после Конфуция и Мэн-цзы великим конфуцианцем древности. Сюнь-цзы внес в конфуцианскую доктрину немало нового, причем это новое во многом сближало конфуцианство с легизмом. Не случайно его направление в конфуцианстве подчас именуется «реалистическим крылом» [415, 143—154]. Не вдаваясь в детали учения Сюнь-цзы, которым посвящено немало трудов [342; 343; 882; 942], следует отметить, что сущность этого нового сводилась к тому, что Сюнь-цзы, живший и действовавший в III в. до н. э., внес в конфуцианство идею о недоверии к человеку, о том, что человек по натуре зол и что его природу следует выправлять при помощи решительных мер воздействия, т. е. как посредством конфуцианского ли, так и с помощью законов и наказаний. На эту особенность взглядов Сюнь-цзы обратил в свое время внимание Ч. Фитцджеральд. Он заметил, что подобные идеи о применении параллельно и конфуцианского ли и легистских строгих наказаний были находкой для легистов и что поэтому Сюнь-цзы едва ли следует считать правоверным конфуцианцем [398, 93—94]. Сюнь-цзы, по словам Г. Крила, способствовал превращению конфуцианства в авторитарную систему, в которой вся истина — лишь от древних мудрецов. И этот его авторитаризм послужил мостом между конфуцианством и легизмом [314, 133 и 139]. Как заключает Ян Сян-куй, Сюнь-цзы сыграл важную роль в сближении конфуцианства с легизмом и даосизмом [1054, т. I, 240]. Вывод о сближении Сюнь-цзы с легизмом можно подтвердить еще и тем, что ученик его, Хань Фэй-цзы, довольно легко интерпретировал мысли своего учителя таким образом, что конфуцианское ли оказалось идентичным легистскоыу закону фа [193, 399]. Как известно, подобная трактовка идей Сюнь-цзы и их дальнейшее логическое развитие привели к тому, что Хань Фэй-цзы стал одним из крупнейших идеологов позднего легизма.
Однако ни функциональное сходство отдельных сторон доктрины, ни некоторая эволюция конфуцианства в эпоху Сюнь-цзы сами по себе не играли решающей роли в процессе синтеза обоих учений. Они лишь облегчали этот процесс. Подлинным же толчком для синтеза явились объективные социально-политические причины, прежде всего необходимость управлять созданной в конце III в. до н. э. гигантской империей, объединявшей разные земли и народы с различным уровнем социального и культурного развития. Как показала практика короткого правления Цинь, одними только мерами суровой легистской политики здесь было не справиться. С крушением же Цинь легизм как самостоятельное течение с его одиозными лозунгами и антигуманными призывами вообще не мог долее существовать. Однако внесенные легизмом в практику управления империей важнейшие метода и институты (администрация, бюрократия, налоги, система областей и уездов и т. п.) оказались удобными для организации и функционирования сложившейся к тому времени громоздкой социальной структуры. Их следовало инкорпорировать. Вот почему синтез конфуцианских и легистскнх форм администрации, которые были бы основаны как на законах и наказаниях, так и на патернализме, авторитете традиции, был просто необходим.
Таким образом, объективные причины требовали от правителей новой династии Хань синтеза идей и институтов конфуцианства и легизма. Ряд факторов облегчал этот процесс. Императоры новой династии Хань, поставленные перед необходимостью резко переориентироваться с легизма на какую-либо другую идеологию и в то же время сохранить в неприкосновенности легистские институты, необходимые для управления империей, вынуждены были санкционировать такой синтез. Сам основатель династии Хань Лю Бан отнюдь не был конфуцианцем и относился к ним, как к «книжным червям». Но он принял конфуцианство как идеологию, использовал конфуцианство в системе управления, а со временем даже стал благоприятствовать этому учению {346; 347]. Дальнейший шаг в сторону конфуцианстра сделал один из ближайших преемников Лю Бана император Вэнь-ди (179— 153 гг. до н. э.) — тот самый, которого конфуцианцы долгое время чтили как образец высокодобродетельного правителя. Однако решающую роль в процессе синтеза и в превращении реформированного конфуцианства в официальную государственную идеологию китайской империи сыграл могущественный У-ди (140—87 гг. до н. э.).
Решительный, деятельный и властный, У-ди и по своей натуре и по методам управления страной был ближе к ле-гистам, чем к конфуцианцам. При нем были вновь восстановлены некоторые легистские методы управления, практиковавшиеся в Цинь, был введен суровый кодекс законов, предусматривавший тяжелые наказания за сравнительно легкие проступки. По предложению советников-легистов У-ди установил государственные монополии на соль, железо, вино. Наконец, он осуществлял весьма самовластное правление, вел непрерывные войны, сурово преследовал критиков, подавлял восстания. Даже в языке своих эдиктов У-ди подражал Цинь Ши-хуану {314, 166—168]. При всем том, однако, У-ди заметно отличался от своего знаменитого предшественника. Он понимал силу конфуцианства, признавал его влияние и авторитет и не только не пытался бороться с ним, но, напротив, делал все возможное, чтобы согласовать конфуцианские принципы и методы с теми, какие были ему по душе. У-ди открыто выражал свои симпатии учению великого Конфуция, объявлял себя другом конфуцианства и в конечном счете действительно приобрел в истории репутацию конфуцианца. Однако практически конфуцианство У-ди уже не было таким, каким оно было до него. По словам Г. Крила, Конфуций, Мэн-цзы и даже Сюнь-цзы содрогнулись бы, если бы увидели, во что было превращено их учение во времена У-ди [314, 167]. Не случайно еще во времена У-ди было высказано мнение, что в стране был сохранен лишь конфуцианский фасад при легист-ских методах правления [946, т. 9, гл. 112, 4; 314, 171].
Чтобы охарактеризовать хотя бы в самых общих чертах ханьское конфуцианство, следует напомнить, что практическая деятельность У-ди по организации управления страной и выработке оптимальной административной политики, основанной на сочетании конфуцианских и легистских методов, дополнялась теоретической разработкой этого синтеза. В качестве главного теоретика выступил министр У-ди конфуцианец Дун Чжун-щу.
Дун Чжун-шу — один из наиболее выдающихся деятелей китайского конфуцианства, и роль его как основоположника ханьского конфуцианства, на два тысячелетия ставшего официальной государственной идеологией Китая, еще недостаточно оценена в синологии [658, 256]. Пожалуй, вполне прав Цянь Дуань-шэн, который в своей книге писал, что Дун Чжун-шу — великий конфуцианец, что именно он дал конфуцианству его известную ныне всем форму и субстанцию, что именно он способствовал инкорпорированию в учение Конфуция многого из других древних учений и что Дун Чжун-шу больше всех сделал для превращения конфуцианства в непререкаемую догму. Начиная с Дун Чжун-шу конфуцианство превратилось в гигантскую смесь различных учений, адаптированную для нужд монархии. Изучение же всей этой смеси стало ключом к получению официальных постов, положило начало системе государственных экзаменов [284, 24—25]. Как философ, Дун Чжун-шу был эклектиком. Однако именно это непривлекательное для характеристики любого другого философа качество сыграло решающую роль в успехе теоретической деятельности Дун Чжун-шу. Из древних теорий об инь-ян и о пяти первоэлементах и из даосизма им были заимствованы многие элементы космогонии и мистической теории мироздания [26; 415, 191; 1052, 163]. В этом синтезе конфуцианства с даосизмом, который некоторые специалисты выдвигают чуть ли не на передний план в деятельности Дун Чжун-шу [330, 80—81], реалистические позиции конфуцианства подверглись определенному пересмотру, что дало основание Фэн Ю-ланю говорить о религиозном идеализме Дун Чжун-шу [961, 24]. Из учения Мо-цзы, одного из наиболее оригинальных древнекитайских мыслителей [906; 141; 618; 839; 864; 952], Дун Чжун-шу взял ставшее впоследствии столь характерным именно для конфуцианства стремление видеть в природных феноменах свидетельство воли Неба, предостережение Неба [314, 181].
Однако прежде всего Дун Чжун-шу был политиком, причем его политическая программа формировалась под самым непосредственным влиянием легизма [826; 1052]. Из легист-ских доктрин Дун Чжун-шу, как и его царственный шеф У-ди, черпал особенно щедрой рукой. При этом он тщательно перерабатывал все легистские идеи и институты, приспосабливая их к конфуцианским нормам и камуфлируя конфуцианской оболочкой. Стремясь восстановить и высоко поднять престиж конфуцианства, Дун Чжун-шу взялся за изучение «Чуньцю» [406, 105], посвятив этому главный свой труд [857]. При этом, как отмечает Чжоу Фу-чэн, под видом комментария к книге Конфуция Дун Чжун-шу активно развивал собственные идеи [1011, 14—18]. Основное содержание этих идей сводилось к задаче укрепления единого китайского государства [406, 101], правитель которого должен был осуществлять власть под контролем Неба и народа [680, 113].
Результатом всей его деятельности по созданию новой идеологической системы, пригодной для всех случаев жизни в условиях крупной централизованной империи, и явилось то ханьское конфуцианство, которое должно было бы по справедливости быть больше связанным с именем Дун Чжун-шу, нежели с Конфуцием. Однако и У-ди и Дун Чжун-шу нуждались в авторитете великого Конфуция, чтобы его именем освятить те порядки и идеалы, которые были созданы ими на основе различных учений. Вот почему имя Конфуция было так возвеличено Дун Чжун-шу. Как известно, он провозгласил даже, что подлинным наследником Чжоу должны считаться не династии Цинь и Хань, а сам великий Конфуций, которому Небо будто бы вручило свой Мандат [415,200—201].
Этот тезис можно считать как бы кульминационной точкой процесса синтеза конфуцианства и легизма в ханьском Китае. В результате этого процесса административно-бюрократические принципы легизма надежно подкрепили наивно-этические идеалы Конфуция о социальном порядке. Вся схема государственного аппарата, фиска, иерархии чинов и сословий и судопроизводства была взята у легизма. Зато сами чиновники, осуществлявшие управление страной., набирались из среды убежденных конфуцианцев. Это сочетание легистских методов и конфуцианских идеалов всегда обеспечивало традиционной китайской администрации как эффективность, так и стабильность, консервативность [подробнее см.: 203; 204; 232; 386; 612; 613]. Таким образом ханьское конфуцианство примирилось с законом и научилось сочетать добродетель с наказаниями [295, 272—279]. Некоторые авторы даже считают, что легистское начало при этом вполне определенно преобладало над конфуцианским и что само слово «конфуцианская» в приложении к администрации империи было не более как камуфляж [755, 250]. Однако едва ли справедливо считать, что в процессе синтеза победителем вышел, пусть даже в завуалированном виде, легизм. Во-первых, конфуцианство видоизменило, смягчило легистскую трактовку закона, сблизив ее с традиционным представлением об обычном праве и т. п. [232, 27—29, 50], а во-вторых, в области идей, морали, в сфере духовной культуры конфуцианство не только вышло на передний план, но и заняло ведущее, исключительное по своему влиянию и значимости место.
Превращение конфуцианства в эпоху Хань в официальную государственную идеологию сопровождалось не только синтезом конфуцианства с легизмом и восприятием идей других учений (в первую очередь, даосизма). Одновременно шел процесс изменения самого конфуцианства. И дело здесь не только в том, что догматика и принципы учения Конфуция менялись за счет включения идей других учений. Гораздо большее значение для эволюции самого конфуцианства как системы взглядов, как идеологии, игравшей роль религии, имело то, что изменилось само отношение к букве и духу учения. Если раннее конфуцианство, призывая учиться у мудрецов древности, предполагало за каждым право самому размышлять и думать (вспомним афоризм Конфуция о том, что «учение без размышления — напрасно, размышление без изучения — опасно»), право сомневаться [500], то начиная с Хань стала все более входить в силу доктрина абсолютной святости всех древних канонов и мудрецов, их каждой мысли и каждого слова. Из афоризма Конфуция была взята и возвеличена его вторая часть, тогда как первая постепенно практически была предана забвению.
Став идеологией верхов, превратившись в официальное государственное учение, конфуцианство уже не могло позволить себе роскошь быть только течением мысли, которому каждый мог давать свою интерпретацию. Для стабильности государства и общества, для обеспечения надежности и безукоризненного функционирования чиновничье-бюрократиче-ского аппарата46 это учение неминуемо должно было стать жесткой догмой, каждый элемент которой строго и точно определен, принят к сведению и неукоснительному исполнению.
Добиться этого было несложно: за долгие века своего существования и развития конфуцианское учение уже достаточно обросло догматами, толкованиями, комментариями, которые приобрели силу традиции и авторитет давности. К тому же, чем дальше, тем большей силой таланта необходимо было обладать хотя бы просто для того, чтобы «переварить» всю древнюю конфуцианскую мудрость, не говоря уже о том, чтобы сказать что-то новое, развить учение (259, 198]. Конечно, это вовсе не значит, что с превращением конфуцианства в эпоху Хань в сумму более или менее закостенелых догм развитие конфуцианской мысли совсем приостановилось. Напротив, и в Тан (VII—X вв.) и в Сун (X—XIII вв.) появлялись оригинальные мыслители, развивавшие это учение, приспосабливавшие его к изменявшейся обстановке. Более того, долгие века господства догматических норм и методов мышления выработали в среде китайских конфуцианцев определенные приемы и принципы обхода догм путем противопоставления одних догм другим, новой интерпретации старых изречений с приданием им совершенно иного смысла, ссылок на то, что истинное содержание высказываний авторитетов ныне забыто или искажено. Эти приемы преследовали цель подправить суть устаревшего или неприемлемого тезиса, не посягая при этом на форму его, т. е. на соответствующую фразу или цитату, ибо только неприкосновенность догмы обеспечивала стабильность конфуцианства как жесткой консервативной схемы, имевшей для любого случая заранее подготовленный и строго фиксированный ответ-рецепт.
В лице реформированного и хорошо приспособленного для нужд управления государством и обществом конфуцианства верхи китайского общества получили в свои руки очень прочное и надежное орудие господства над народом. Патерналистская оболочка и громко провозглашенный примат морали умело камуфлировали эксплуататорскую сущность чинов-ничье-бюрократического государства с его хорошо поставленной системой государственного крепостничества. Проповедь же неизменности традиций и почтение к авторитету старины были залогом спокойствия и гарантией будущего — при условии, разумеется, полного уважения к этим традициям и авторитету.
С другой стороны, превращение учения Конфуция в официальную государственную идеологию сыграло огромную роль и в судьбе самого учения. Конфуцианцы не только повсеместно распространили и внедрили в качестве обязательных свои нормы этики и культы, но и превратили все эти нормы в эталон, в символ истинно китайского. Именно с Хань понятия «конфуцианское» и «китайское» стали совпадать почти полностью. Практически это означало, что каждый китаец с рождения и по воспитанию был прежде всего конфуцианцем: в своем быту, в поведении, в обращении с людьми, в исполнении важнейших жизненных обрядов, в правилах и привычках — словом, везде и во всем он воспринимал конфуцианство как норму жизни, как завещанные предками традиции. Конечно, со временем он мог узнать другое, даже стать, скажем, даосом или буддистом. Однако это ни в коей мере не мешало тому, что — пусть не в убеждениях, но в поведении, в обычаях, в отношениях к людям и во многом другом, часто даже подсознательно,— он все-таки на всю жизнь оставался именно конфуцианцем. Конфуцианство в Китае стало образом жизни, формой организации человеческих отношений, определителем манеры мышления, речи, поведения и т. п. Вот почему на протяжении всей истории Китая даже многие из тех, кто открыто и резко выступал против конфуцианства и конфуцианцев, сами несли на себе нелегкий груз конфуцианского воспитания, конфуцианского образа жизни и манеры поведения.
Официальное возвеличение учения Конфуция, превращение его в общепризнанную систему взглядов и институтов положило начало возникновению в средневековом Китае некоторых новых конфуцианских культов, свойственных уже зрелому, реформированному конфуцианству. И генезис этих новых культов, и тенденции их развития, и их функции — все это было теснейшим образом связано с той новой ролью, которую стало играть учение Конфуция после превращения его в государственную идеологию. Одним из важнейших новых культов был культ конфуцианских классических книг, древних канонов-заповедей конфуцианства.
Когда хорошо разработанная, влиятельная и пользующаяся успехом идеология становится официально признанной и даже государственной, ее основные сочинения, вполне естественно, превращаются в священные книги, которые надлежит тщательно изучать, хорошенько запоминать и неуклонно восхвалять. Едва ли не в наибольшей степени (особенно если вести речь о длительности традиций) это относится к конфуцианству.
С самого начала эпохи Хань в Китае началась активная и энергичная работа по восстановлению сожженной Цинь Ши-хуанди конфуцианской литературы. Разыскивались случайно уцелевшие копии, сличались варианты, записывались со слов стариков выученные ими в детстве наизусть отдельные сочинения конфуцианского канона. Центром этой длительной работы стала императорская библиотека, а наиболее заметными в истории ханьского Китая библиографами и историографами были Сыма Цянь, совремник У-ди, составивший на основе своих изысканий «Шицзи» («Исторические записки») [934; 946], отец и сын Лю (Лю Сян и Лю Синь), жившие на рубеже нашей эры и внесшие немалый вклад в дело восстановления и введения в обиход множества древних сочинений, включая «Цзочжуань» и «Чжаньгоцэ» [33, 33—40, 74], и Бань Гу (32—92 гг.), автор истории первой династии Хань «Ханыиу» [824]. С трудом восстановленные, сочинения конфуцианского канона начиная с Хань многократно комментировались и перегруппировывались, пока, наконец, не приобрели свой устоявшийся облик в эпоху Сун (X—XIII вв.), когда две важные главы из «Лицзи», «Дасюэ» и «Чжунъюн» были включены в канон в качестве самостоятельных сочинений.
Всего классических канонов конфуцианства .насчитывается 13, причем современный их объем, с избранными комментариями, достигает 40 томов. Наибольшее значение из них имеют девять основных и важнейших, знание которых считалось обязательным для каждого грамотного и образованного человека в Китае. Эти девять сочинений составляют так называемые «Сышу» («ЧетЫрехкнижие») и «Уцзин» («Пятикнижие»). В «Сышу» включены важнейшие сочинения основоположников конфуцианства — «Луньюй», «Мэн-цзы», «Дасюэ» и «Чжунъюн» [890; 913; 888, т. XXV, 2101—2154 и т. XXVI, 2343—2363; 68; 109; 111; 276; 300; 335; 507; 552, т. I—II; 592; 647; 648; 661; 995; 1009а; 1046]. Первые два трактата представляют собой собрания мыслей, бесед, афоризмов и поучений Конфуция, Мэн-цзы и их учеников. Остальные два небольших сочинения имеют более отвлеченное содержание, причем именно представляющий возможности для различных толкований глубокий философский смысл отдельных пассажей из этих работ сыграл решающую роль в выделении их из «Лицзи» и даже в превращении их в своего рода центр философской мысли сунского неоконфуцианства.
В «Уцзин» входят «Шицзин» и «Шуцзин», составленная по преданию самим Конфуцием хроника «Чуньцю» (которая обычно публиковалась и изучалась вместе с комментарием к ней «Цзочжуань»), а также «Лицзи» и книга гаданий «Ицзин» [875; 888; 989; 1040; 1041; 31; 93; 94; 153; 179; 187; 525; 552, т. Ill—IV; 554; 641]. Кроме трактата «Ицзин», который не был известен Конфуцию [246, 59; 344; 680, 9—10], представлял сравнительно чужеродное тело в конфуцианстве и был включен в число канонов лишь в Хань [314, 172—173], все остальные сочинения «Сышу» и «Уцзин» были либо написаны, либо отредактированы самим Конфуцием и его ближайшими последователями и уже по одной этой причине считались священными. Кроме того, в этих сочинениях, особенно в «Уцзин», были собраны почти все сохранившиеся к Хань сведения о древнейших периодах китайской истории, о правлении и деяниях древних мудрецов. И это обстоятельство тоже окружало конфуцианские каноны добавочным ореолом святости 47.
Начиная с Хань все восстановленные после их сожжения в Цинь конфуцианские книги стали усиленно изучаться [970; 917; 900;1007;1053]. Многочисленные конфуцианцы
стремились как можно глубже вникнуть в текст и понять суть этих сочинений, написанных трудными для понимания древними письменами (гу-вэнь). Первоначальные тексты, язык и стиль которых с веками становился все более чуждым языку потомков, обрастали многочисленными толкованиями и комментариями, без которых теперь уже ни один читатель не смог бы в них разобраться. Комментарии и толкования разных комментаторов нередко противоречили друг другу, однако все они были сходны в одном: любое неясное или противоречивое место в древних сочинениях, особенно в неконфуцианских в своей основе ранних книгах «Шицзин» и «Шу-цзин», они всегда толковали с позиций ортодоксального конфуцианства. В результате многие песни «Шицзин», воспевавшие непосредственные чувства людей, нередко получали совершенно неожиданные «объяснения» (это-де завуалированная форма выражения любви к правителю, стремление верно служить старшему и т. п.) 48.
Собранные воедино, откомментированные и растолкованные, конфуцианские каноны уже с эпохи Хань стали играть в Китае не только роль священных книг, но и в сущности единственных книг, источника мудрости на все случаи жизни. Все прочие сочинения—трактаты философов, рассуждения политиков и министров, исторические хроники и своды и т. п. были отныне лишь второстепенными источниками более или менее ценных и полезных сведений, истолкованных опять-таки чаще всего в духе конфуцианства. Даже относительная ценность всех этих второстепенных сочинений стала со временем измеряться степенью соответствия их тем основным канонам, принципам и изречениям, которые были собраны в главных конфуцианских книгах49.
Конфуцианские классические книги были написаны, как упоминалось, нелегким языком. Читать и изучать их было делом довольно затруднительным. Это не значит, конечно, что для непосвященных содержание этих книг было тайной за семью печатями. Напротив, основные й наиболее важные конфуцианские нормы поведения, принципы этики и даже изречения были широко известны массам. Их знали с детства, передавали из уст в уста. Они превратились в сокровища народной мудрости, в бродячие афоризмы, в совершенно банальные трюизмы. Это и понятно: ведь вся мудрость конфуцианства в свое время черпалась из народных обычаев и традиций. Конфуцианцы лишь четко и грамотно изложили все эти нормы и принципы поведения, зафиксировали их навечно в письменной форме и уже в таком завершенном и строго фиксированном виде сделали достоянием широких масс. Массы же в свою очередь легко восприняли эту в об-щем-то соответствовавшую их древним традициям писаную норму.
Сила конфуцианства была в том, что оно сравнительно быстро и легко обращало в свою несложную по существу веру всех тех, кто входил в орбиту его влияния. Полуварварское население окраин или разнородное население лишь в пред-ханьское время освоенных «новых» районов страны довольно быстро, на протяжении нескольких поколений, «осваивало» основные этические и социально-политические конфуцианские нормы и воспринимало их, как свои. Этот процесс протекал сравнительно легко и безболезненно как правило потому, что у населения этих районов не было никакой достаточно хорошо разработанной концепции, которая могла бы противостоять конфуцианству.
Хорошо разработанная и умело приспособленная к уровню жизни общества, еще только-только выходящего из первобытности, теория и практика конфуцианства (например, брачно-семейные отношения) сравнительно быстро и легко воспринимались включенными в империю народами [623], которых спустя несколько веков уже нередко нельзя было отличить от «истинных» адептов конфуцианских традиций.
Но если основное содержание конфуцианских канонов и было в общих чертах известно в Китае почти всем, то это не мешало тому, что чтение самих текстов оставалось делом труднодоступным и считалось занятием крайне почетным. По сути дела, в конфуцианском Китае начиная с Хань именно чтение и изучение классических канонов и необычайное уважение ко всем тем, кто был в состоянии читать и понимать их, положили начало подлинному культу грамотности и образования.
Грамотные и образованные люди очень высоко ценились и почитались и в доханьском Китае, где они входили в сословие ши, поставлявшее древнекитайским правителям чиновников и министров. Однако то положение, которое заняли грамотные и образованные «интеллектуалы» в ханьском и после-ханьском Китае, намного выше: не каста жрецов, как это нередко случалось в других древних обществах, а именно светская элита «интеллектуалов» сконцентрировала в своих руках монополию на образование и тем самым тоже превратилась в своеобразную касту, очень высоко стоявшую над малообразованной и неграмотной массой.
Частично здесь сыграли свою роль особенности древнекитайской религии, не приведшие к возникновению могущественных богов с храмами и жрецами. Немаловажное значение имели и сложившиеся в древнем Китае формы социальной структуры с первостепенной ролью чиновничье-бюрократиче-ского аппарата. Однако все это само по себе могло бы лишь создать условия для очень высокого социального положения хорошо образованных чиновников, составлявших касту управителей, но еще никоим образом не определяло необходимости культа грамотности и образования вообще. Для того чтобы высокое положение образованного человека в обществе такого рода повлекло за собой подлинный культ образования, необходимы были дополнительные условия. Во-первых, решающее значение имел только что рассмотренный культ конфуцианских канонических книг. Во-вторых, определяющую роль играли особенности китайской системы языка и письменности. Наконец, третьим, самым важным условием было то, что именно грамотность и образование открывали перед всяким человеком путь наверх.
В самом деле, коль скоро конфуцианские сочинения считались средоточием веками накопленной и единственно возможной мудрости, то тот, кто овладел грамотой и мог читать и понимать эти тексты, изучать и трактовать их смысл, заслуживал глубокого уважения и даже преклонения. Если прибавить к этому, что для получения образования грамотный человек должен был хорошенько изучить несколько тысяч иероглифов, каждый из которых являет собой сравнительно трудно запоминающуюся комбинацию множества различных черточек и нередко имеет различные значения в разных контекстах, то это уважение будет еще более понятным и оправданным. Фактически для достижения грамотности человек должен был проделать сложный и трудный путь, который действительно становился непреодолимой социальной дистанцией, очень резко отделявшей элиту образованных от масс неграмотных. Наконец, если принять во внимание, что грамотные и образованные становились, как правило, знатоками конфуцианства и, как следствие этого, занимали в стране чиновничьи посты, то причины расцвета культа грамотности и образования в ханьском и послеханьском Китае станут вполне очевидными.
Грамотность и образование были критерием и средством достижения успеха в жизни, который в конфуцианском Китае всегда ассоциировался с получением должности и продвижением по службе. Культ грамотности имел различные проявления. Это был и просто культ иероглифа, культ надписи. Крупно написанные иероглифы или их сочетания, обычно те, которые имели благожелательный смысл, всегда вывешивались в Китае на стенах, в домах, на улице. Получить в подарок ленточку с такими иероглифами было всегда очень приятным для любого китайца, в том числе и для совершенно неграмотного. К каждой такой надписи, даже вообще к каждой надписи, иероглифу, надписанному клочку бумаги и тем более к книге китаец всегда относился с огромным уважением и почтением50. Использованную и ненужную бумагу в Китае только сжигали — для этого существовали специальные печи.
Культ грамотности и образования проявлялся и в более серьезных аспектах, прежде всего в стимулировании образования. Для конфуцианского Китая было весьма характерным стремление учиться (если позволял достаток) вне зависимости от возраста. Более того, в официальных эдиктах неоднократно поощрялись 70—80-летние старики, которые вместе со своими внуками усердно изучали иероглифы, читали тексты и стремились сдать конкурсные экзамены на ученую степень. Понятно, что такие старики не могли, как правило, всерьез рассчитывать на успешное прохождение по конкурсу и получение должности. Однако это их никак не останавливало. Ведь сам по себе факт ученья, овладения грамотностью, получения образования имел в глазах общественности настолько большое значение, что резко повышал социальный статус человека. Даже просто учась и сдавая экзамены (пусть безуспешно), грамотный человек и тем более старик получал от окружающих и почет, и славу, и всеобщее уважение 51.
Итак, культ грамотности и образования в конфуцианском Китае был обусловлен различными факторами — и историческими, и социальными, и культурными. Но наряду с этим одной из основных причин возникновения такого культа была и техническая сторона дела. Речь идет о самом слове, о языке, о иероглифе. Дело в том, что письменный язык в Китае не был, как это характерно для стран с алфавитной системой письменности, простым инструментом познания, т. е. средством, с помощью которого можно было легко писать и читать книги на разные темы. В условиях развитой иероглифической письменности Китая этот письменный язык практически оказался едва ли не препятствием к познанию. Крайне усложненный и непонятный простому человеку, язык древних иероглифов не имел ничего общего с устной речью. Вычурный и необычайно трудный для усвоения, он был фактически обожествлен в касте его знатоков-ученых, ревниво оберегавших свои привилегии и не помышлявших о его упрощении52. Сложившиеся в древности закостенелые формы письменного языка на протяжении веков почти не менялись, поэтому изучать такой язык китайцу было столь же нелегко, как и любому иностранцу. Многие, даже выучив несколько сотен иероглифов, так и оставались фактически неграмотными, ибо сами не могли овладеть искусством письма и не умели написать ни строчки. Только долгие годы и незаурядные способности могли дать человеку возможность настолько овладеть языком, чтобы свободно читать, понимать и писать, т. е. быть грамотным и образованным. Такие чисто технические на первый взгляд сложности фактически тоже играли роль очень существенного социального барьера, перешагнуть через который удавалось далеко не каждому. И это опять-таки способствовало поддержанию в стране подлинного культа грамотных, культа письменности и надписи, книг и книгочеев, культа классического образования.
Культ грамотности и образования в средневековом Китае обусловил высокую степень внимания к школе, обучению, просвещению. И если эффект был все-таки незначительным 53, то основной причиной этого следует считать прежде всего трудности обучения (как материальные, связанные с необходимостью долгие годы учиться и платить за обучение, так и технические).
Учреждение сети начальных школ в стране было, как правило, делом частной или местной инициативы. Школы обычно открывались либо отдельными людьми, прежде всего самими учителями, либо целыми деревнями и уездами, приглашавшими учителя на договорных началах. Располагались школы нередко в храмах или в отдельных небольших зданиях. Классной системы ие существовало: все ученики различного возраста и года обучения занимались вместе, под руководством одного и того же учителя. Иногда школы содержались за счет доходов с приписанных к ним земель, иногда они получали определенную дотацию, но чаще всего единственным источником доходов' школы и учителя была плата за обучение. В школе учились только мальчики. Девочки из зажиточных семей в лучшем случае получали домашнее образование.
Открытие новой 'школы обычно приурочивалось к новогодним празднествам. В первый день после окончания праздников ученики приходили в школьное помещение, обычно душное, тесное и плохо освещенное, занимали места за столиками-партами и поступали в полное распоряжение учителя. Учитель, как правило, был строг, а его бамбуковая палка — едва ли не основное «орудие производства» — почти никогда не бездействовала. Строгость и наказание были неизменными спутниками учебы с первых же школьных дней. Любые шалости, бег, веселье, громкие споры и разговоры на посторонние темы — все это категорически исключалось. Занятия в школе шли круглый год, за исключением праздничных дней и новогодних каникул. Начинались они обычно в 7 час. утра и заканчивались к 6 час. вечера с перерывом на обед с 12 до 2. Школа не знала ни уроков, ни перемен: весь день ученики сидели на своих местах и должны были прилежно заниматься. Покидать помещение они могли лишь поодиночке и с разрешения учителя (46, 67—74; 87, 52—62].
Строгие порядки и напряженный темп занятий в китайской школе были связаны прежде всего с организацией и содержанием процесса обучения. Вкратце суть его сводилась к следующему. В 5—6-летнем возрасте мальчика приводили в школу, где он отвешивал поклоны изображению Конфуция и учителю, получал от последнего свое новое, школьное имя и приступал к занятиям. На протяжении первых семивосьми лет школьники изучали только язык. Сначала они со слов учителя заучивали наизусть «Саньцзыцзин» («Троесло-вие») [911; 921; 683] — набор стихотворных строк, состоявших из трех слов-иероглифов и представлявших нечто вроде дидактической энциклопедии, дававшей запас терминов и вводившей в круг предметов, составлявших основу обучения. Тщательно вызубрив текст и еще не понимая смысла, ученики затем начинали учить знаки заученных ими слов, по четыре-шесть знаков в день. Они писали эти знаки на полупрозрачной бумаге по трафаретным листам или заполняли контуры иероглифов кистью по начертанному рядом образцу. Для упражнений использовались также белые лаковые разграфленные на квадратики дощечки, на которых писали тушью (потом ее смывали водой).
Одолев «Саньцзыцзин», ученики приступали к следующему этапу — к «Цяньцзывэнь» («Книга тысячи иероглифов») 1912] и «Боцзясин» («Список фамильных знаков») [467], которые выучивались таким же образом. Изучив около 2—3 тыс. знаков, многие на этом заканчивали учебу и отсеивались. Только те, кто успешно сдавал экзамен за начальный курс специальному инспектору, мог продолжать учебу в уездном или провинциальном училище. Значительная часть таких училищ, располагавшихся в городах и крупных поселках, также была частными учебными заведениями, хотя наряду с ними имелись и государственные. В этих школах занятия подростков начинались с выучивания наизусть классических текстов «Сышу» и «Уцзин». Каждая из девяти книг сначала накрепко вызубривалась. Затем изучались иероглифы. И только после этого остававшиеся до тех пор непонятными древние тексты учитель с помощью комментариев «переводил» на разговорный язык и объяснял ученикам. Одолев за несколько лет все девять книг, старшие ученики изучали стилистику, основы стихосложения, занимались каллиграфией, тренировались в написании сочинений и толковании классиков [подробнее см.: 48; 71; 76; 90; 417; 910; 936]. Хорошее знание древних текстов, умение свободно оперировать цитатами из изречений мудрецов и, как вершина, умение составлять собственные сочинения, в свободном стиле излагавшие мудрость древних,— такова была, по сути дела, вся программа обучения. Далеко не каждый одолевал ее. Только наиболее способные и усидчивые могли овладеть всей суммой необходимых знаний и оказаться достаточно подготовленными к экзамену на степень сюцай — первую ученую степень, открывавшую путь к дальнейшей карьере.
Иными словами, вся система школьного обучения (круг изучавшихся дисциплин, методика изучения текстов, общий багаж знаний, целенаправленнрсть школьного курса) была поставлена на службу конфуцианским принципам и традициям. Захватив со времен Хань систему народного образования в свои руки, конфуцианцы настолько умело приспособили ее для своих целей, что на протяжении долгих веков и тысячелетий китайская школа учила детей в первую очередь тому, что соответствовало политике, этике и прочим принципам конфуцианства. В строгом соответствии с теорией и практикой конфуцианства китайская школа на протяжении десятков поколений не учила учеников ни думать, ни рассуждать, ни анализировать. Имея дело, как правило, с наиболее способными юношами, школьная система с ее главными методическими принципами — вызубриванием и запоминанием — способствовала лишь тренировке памяти и увеличению ее объема с тем, чтобы с ранней молодости вложить в головы учеников как можно больше готовой и апробированной мудрости, которую следовало слепо принимать на веру. Эта система воспитывала учеников в духе беспрекословного повиновения конфуцианской догме, в духе почтения перед авторитетами старины. Старательно изучая древние каноны, в сотый и тысячный раз схоластически перепевая банальности и трюизмы, выпускники китайской школы, люди очень грамотные и по-своему весьма образованные, постепенно проникались верой в незыблемость и абсолютное совершенство привитых им принципов жизни и мышления. Они превращались в самоуверенных начетчиков, высокомерно игнорировавших практику, опыт, жизнь, не допускавших и тени сомнения в том, что именно им ведома вся мудрость и что именно они должны управлять страной.
Традиционная конфуцианская система обучения, оставлявшая фактически в стороне все науки негуманитарного цикла [159, 172—173] .и дававшая всем выпускникам совершенно одинаковую подготовку (в смысле предметов обучения и характера образования), нередко вызывала протесты со стороны наиболее умных и дальновидных политических деятелей и ру-ководителей-администраторов. Это и понятно, ибо даже в условиях конфуцианского государства с его однобокой культурно-этической ориентацией в системе администрации необходимы были специалисты различного профиля. Не случайно один из виднейших государственных деятелей и реформаторов средневекового Китая Ван Ань-ши (1021—1086) в своих докладах императору настаивал на необходимости реформировать систему образования, которая не столько воспитывает таланты, сколько «губит их». Ван Ань-ши резко критиковал такой порядок, при котором человека, получившего доступ к службе в результате изучения древней литературы, назначали то судьей, то казначеем, то даже военачальником. Он настаивал на введении специализированного образования: «Талант может совершенствоваться только в своей специальности и погибает, если им разбрасываться» (64, 61].
Казалось бы, требование совершенно разумное и служившее лишь делу укрепления той структуры конфуцианского государства и общества, которой столь дорожили власть имущие. И все-таки оно, как и многие другие реформы, время от времени предлагавшиеся различными министрами и чиновниками средневекового Китая, вызвало решительные возражения консервативно мыслящих конфуцианцев, видевших во всяком подобном предложении покушение на устои, завещанные предками54. Разумеется, при этом немалую роль играло и опасение лишиться монополии на власть, если бы какая-нибудь подобного рода реформа открыла дорогу наверх еще для кого-либо, кроме знатоков конфуцианских древностей.
Постигнув всю сумму схоластической мудрости, каста уче-ных-управителей вполне искренне считала эту мудрость вершиной цивилизации и не допускала никаких сомнений на этот счет. Только изучение этой мудрости, только образцовое усвоение уже высказанных и апробированных идей давало человеку право занять важное место в сконструированной конфуцианцами государственной и общественной системе. И реализовывалось это право посредством конкурсных экзаменов.
Истоки системы конкурсного отбора наиболее способных и использование их на государственной службе восходят к древности (844, 82]. Современные исследования дают основание заключить, что идея экзаменационного отбора и конкурсной оценки чиновников впервые появилась еще у ранних легистов (Шэнь Бу-хай) и лишь потом была заимствована также и конфуцианцами. Be всяком случае известно, что институт отбора чиновников функционировал уже в Цинь [320, 613—633].
Однако, если легисты ставили своей целью посредством отбора чиновников осуществлять верховный контроль правителя над страной, то конфуцианцы придали этому институту иной характер. Во-первых, уже в Хань акт отбора был заменен конкурсными экзаменами, итоги которых отражали объективную картину и свидетельствовали о действительной степени подготовки, знаний и способностей кандидатов (408, 2—3]. Тем самым была резко ограничена возможность произвола, роль личных отношений и т. п. в процессе отбора кандидатов. Во-вторых, конфуцианцы фактически превратили конкурсные экзамены в средство подняться наверх по социальной и служебной лестнице, причем со временем, с эпохи Сун — в основную и почти единственную возможность для этого ”. В результате значение и общественная роль экзаменов намного возросли. В стране постепенно создался своеобразный культ экзаменов, культ полученной при благополучном прохождении экзаменов степени. Наконец, в-третьих, программа экзаменов и характер подготовки состязающихся, сумма знаний учащихся и перечень обязательных для них книг, кадры учителей и экзаменаторов и т. д.— все это было теперь конфуцианским и тесно связанным с основными принципами, традициями, нормами и культами конфуцианства55. Таким образом, предложенная в свое время легистами система отбора способных чиновников превратилась в руках конфуцианцев в одно из важных орудий упрочения своего господства, в надежный залог незаменимости конфуцианской теории и практики в административно-бюрократической структуре Китая.
Первое упоминание в китайских источниках о подобного рода экзаменах относится к 165 г. до н. э. Экзамены были проведены по указу императора Вэнь-ди и при деятельном участии его ближайшего советника конфуцианца Цзя И [320, 633]. Однако в эпоху Хань и в течение последующих столетий, характеризовавшихся ослаблением центральной власти (и, соответственно, роли конфуцианства в стране), эта система экзаменов еще не получила должного развития. В тщательно разработанную систему конкурсного отбора из нескольких этапов она превратилась лишь в эпоху Тан [485, 35], когда окрепла и усилилась единая централизованная империя, обрела силу конфуцианская административно-бюрократическая машина и на повестку дня стал вопрос о том, как организовать подготовку и отбор кадров ученых-чиновников.
Китайская экзаменационная система, оказавшая известное влияние и на систему экзаменов в Европе, детально изучена синологами [730, 308—312]. Довольно трудно суммировать ее характерные черты в немногих словах, особенно если учесть, что на протяжении свыше тысячелетия своего активного функционирования она подвергалась значительным изменениям. Начиная с Тан эта система заключалась в следующем.
Конкурсный отбор состоял из трех ступеней. Те, кто успешно сдавал экзамен на низшую ученую степень шэнъюань (сюцай), получали формальное право считаться принадлежащими к элите избранных, т. е. к той части сословия конфу-цианцев-шэньши, которая управляла страной. Правда, к занятию конкурсных (высших) и даже отборочных (средних) чиновных должностей они еще не допускались. Этот низший и наиболее многочисленный слой «остепенившихся» конфуцианцев-шэнбшы фактически служил как бы фундаментом, на котором возвышалось и за счет которого укреплялось все здание бюрократической администрации. Обладатели низшей ученой степени, становившиеся в ряды шэньши, получали немалые и вполне реальные социальные и экономические привилегии. По отношению к ним власти были обязаны соблюдать определенный этикет, они освобождались от телесных наказаний, от подушного налога, получали право на финансовую поддержку от правительства для подготовки к дальнейшим экзаменам, а также право отправлять некоторые церемонии, например в храме Конфуция [259, 32—43: 408, 10; 622, X]. Но самым главным и привлекательным в статусе обладателей первой степени было все-таки право сдавать экзамен на следующую степень.
В разные периоды средневекового Китая условия для соискания всех трех степеней, в том числе первой, были различными. Как показывают некоторые данные, на раннем этапе активного функционирования экзаменационной системы эти условия, видимо, были более легкими: наиболее удачливые студенты достигали всех трех степеней и становились высшими чиновниками страны чуть ли не за десяток лет [539, 60]. Позже, с упрочением системы, с признанием ее значимости, а также в связи с возрастанием численности населения и количества желающих пробиться наверх получение даже низшей степени стало гораздо сложнее. Как явствует из специального исследования Чжан Чжун-ли, в XIX в., для того чтобы получить право сдавать экзамены на степень сюцай, следовало предварительно пройти еще два тура полуотбора-полуэкзаменов, на что уходил ряд лет [259, 8—20]. При этом конкурс бывал весьма суров. Если в сунском Китае число получивших степень колебалось от 1 до 10% количества соискателей, в зависимости от места сдачи экзаменов (ближе к столице конкурс был выше — 539, 65), то в цинском Китае, в XIX в., только 1—2% желающих из числа прошедших предварительные два тура допускались к третьему, дававшему право на получение низшей ученой степени [259, 11].
Формально для допуска к экзаменам на низшую степень требовалось немногое. Кроме хорошего знания конфуцианских книг, добытого в результате многолетнего образования, соискатель степени должен был представить удостоверенное соседями или местным начальством свидетельство о благонадежности, безупречной репутации и об отсутствии в его роду— по крайней мере на протяжении трех поколений — лиц «подлых» профессий (рабов, слуг, проституток, актеров). Экзамен проводился в областных и уездных центрах под наблюдением местного начальства, обычно ежегодно. Существовала твердо фиксированная квота, определявшая количество тех, кто в результате успешной сдачи экзамена получит первую ученую степень. В XIX в. число выдержавших в зависимости от количества допущенных к экзаменам кандидатов обычно колебалось в пределах 3—5%.
Экзамен проводился в специально оборудованном помещении, где под строгой охраной и безо всякой связи с внешним миром каждый студент-соискатель на протяжении двух-трех суток писал свои сочинения р отведенной ему камере-одиночке. Экзамены были только письменными. Для получения первой, низшей, степени сюцай нужно было сочинить стихотворение-поэму в 60 слов, по пять-семь знаков в строке, написать сочинение по поводу какого-либо события в древности и трактат на отвлеченную тему с использованием цитат из классических канонов. Темы заранее не были известны. Пользоваться какими-либо пособиями или шпаргалками категорически воспрещалось, причем любые нарушения порядка карались необычайно жестоко. За злоупотребления виновные не только подвергались публичному позору, «теряли лицо» и навсегда изгонялись со службы, но и нередко подлежали суровым наказаниям. В Китае всегда относились к экзаменам очень серьезно: ведь профанация такого важного дела, как экзаменационный отбор в ряды конфуцианской элиты, могла привести к весьма печальным, даже катастрофическим для нее последствиям.
Разумеется, это не означает, что злоупотреблений не бывало. Особенно часто они случались в более позднее время, в эпоху Цин [259, 186—197]. Однако разоблачение каждого такого случая всегда влекло за собой жестокие наказания и служило предостережением остальным. Стоит заметить, что хотя коррупция и взятки были типичны для китайской бюрократической системы, как и для любой другой [203, 10], в сфере экзаменов, этой «святая святых» всей системы, злоупотребления такого рода едва ли следует считать правилом даже для XIX в., когда они встречались чаще, чем раньше. Как правило, степень сюцая получали все-таки те, кто успешней других продемонстрировал свое знание конфуцианства.
Справедливости ради необходимо упомянуть, что к сдаче экзаменов на вторую степень и в сословие шэныии допускались также и те, кто покупал низшую степень, либо получал ее от императора в виде специального персонального пожалования. Покупка степени обычно стоила недешево и была доступна лишь богатым купцам или выходцам из землевладель-цев-шэныии. Право на пожалованную степень имели лишь немногие, обычно из наиболее известных и заслуженных кланов. И, что особенно важно, эти владельцы степеней, полученных без экзаменационного конкурса, во-первых, составляли лишь незначительную часть тех, кто имел данную степень, и, во-вторых, всегда рассматривались как второразрядные обладатели данной степени, что практически сказывалось на всем их дальнейшем пути наверх [259, 19—20; 338, т. I, 394; 539, 76; 742, 131; 789, 218].
Экзамен на вторую степень обычно принимался в столице провинции раз в два-три года. Требования к экзаменующимся здесь были строже, задания — сложнее, хотя круг вопросов и знаний в общем оставался прежним. Зато успешно выдержавшие этот экзамен и получившие вторую ученую степень сразу же оказывались в привилегированном положении. Прежде всего, они теперь составляли высший, наиболее влиятельный слой шэныии, попасть в который было дано далеко не всякому, даже из числа семей шэньши или иных зажиточных слоев общества. Продажа степени цзюйжэнь практиковалась в Китае крайне редко, лишь в исключительных случаях, по специальным императорским указам, главным образом с целью пополнения казны, ибо это стоило неимоверно дорого (72, 169; 259, 24—25]. Очень немногим из числа представителей знатных и заслуженных семей давалась эта степень императорским пожалованием (разумеется, и купившие, и получившие степень в результате пожалования обязательно должны были быть обладателями первой, низшей, степени).
Имевшие вторую степень могли участвовать в качестве кандидатов во время специально проводившихся отборов для укомплектования чиновных должностей второго разряда (помощников, заместителей чиновников, занимавших конкурсные должности). Но главное, что они получали — это право сдавать экзамены на третью, высшую, степень — цзиньши. Экзамены на эту степень проводились раз в два-три года только в столице и находились на совершенно особом положении. Высшую степень нельзя было ни получить за заслуги или родство, ни купить за деньги. Только лучшие из лучших среди знатоков конфуцианства (число их обычно колебалось на протяжении всего периода существования экзаменационной системы в стране от 20 до 200 с небольшим в год) [539, 58—59] удостаивались высшей степени и почти автоматически получали высшие (конкурсные) чиновные должности в системе администрации. При этом первые из них, а список успешно выдержавших экзамен всегда возглавляли те, кто сдал его лучше других, пополняли собой ряды самых влиятельных организаций конфуцианского Китая, прежде всего академии «Ханьлинь» [219] и цензората. Кроме того, по существовавшему издревле обычаю самый первый из успешно сдавших экзамен имел даже право стать зятем императора ,6.
В целом, трехступенчатая система конкурсных экзаменов действовала весьма успешно и эффективно. Конечно, не всегда все звенья бывали достаточно надежными, случались и злоупотребления, играли свою роль поблажки, связи, императорское благоволение и т. п. За деньги иногда можно было приобрести первую, реже вторую степень. И все же система в целом вполне оправдывала свое предназначение и приводила к желаемым результатам. Довольно сложный и хорошо продуманный трехступенчатый барьер служил достаточно надежной гарантией для того, чтобы на высшую ступень попадали лишь действительно хорошо поднаторевшие в своем ремесле конфуцианцы.
Система конкурсных экзаменов, игравшая столь существенную роль в жизни Китая на протяжении почти двух тысячелетий, внесла свою лепту в формирование в стране упоминавшихся уже культов грамотности и образования, классических сочинений и вообще письменности. В то же время эта система, вкупе со всеми другими близкими ей и связанными с ней конфуцианскими институтами и культами, сыграла решающую роль в возникновении в Китае еще одного культа — культа ученых-чиновников, интеллектуалов-шэкьыш, т. е. всех тех, кто учился, держал экзамены, получал степени и должности, мог учить других и быть жрецом грамотности, знаний, книг, науки.
Если культ грамотности и образования, книг и письменности создавал чуть ли не ореол святости вокруг всех образованных и ученых, то с еще большим основанием это относится
к тем, кто держал экзамены и получал степени. Почет, уважение, даже преклонение односельчан, гордость родни, одно из самых центральных мест в родовом храме, почтение и знаки внимания со стороны местных властей — все это приходило к любому после получения им степени сюцай. Даже если получением этой степени и ограничивались все его «ученые» успехи и он так никогда и не мог претендовать на замещение чиновничьей должности,— все равно любой сюцай был уже для простого народа человеком из иного мира, стоящим «по ту сторону» гигантского социального барьера, преодолеть который было дано очень немногим.
Огромная масса студентов — соискателей степени и обладателей низшей степени сюцай представляла собой ту питательную среду, которая вскармливала обладателей второй и третьей степени и создавала немалый резерв кандидатов на официальные должности. Разумеется, должности доставались далеко не всем — их было значительно меньше, чем обладателей двух верхних степеней. Многие из шэныии долгие годы проводили на скамье кандидатов, а некоторым, в том числе всем тем, кто не пошел далее первой степени, получить должность не удавалось вовсе. Это, однако, не значит, что вся эта армия «грамотеев» не находила себе применения. Напротив, представители ее широко использовались на должностях секретарей, писцов, делопроизводителей при канцеляриях чиновников— как правило, они нанимались и оплачивались самими чиновниками, занимавшими высокую (конкурсную) должность (260, 3—5]. Из этой же среды обычно рекрутировалась армия школьных учителей [260, 108]. Наконец, некоторым шэныии было вполне достаточно той славы и почета, тех привилегий, которые им доставались уже только за обладание степенью. К ним относились в первую очередь представители богатых землевладельцев и иных зажиточных слоев общества.
В этой связи заслуживает специального внимания вопрос о социальной и имущественной стратификации средневекового китайского общества. Прежде всего, необходимо всегда иметь в виду, что социальные и имущественные градации в китайском обществе не совпадали, а социальная мобильность была одной из его характернейших черт [293; 366; 488]. В самом деле, коль скоро каждый способный студент потенциально мог и нередко действительно становился шэцьши, получал должность и вслед за этим автоматически оказывался обладателем очень большого жалованья и иных побочных доходов [260], становился землевладельцем (все деньги в стране обычно вкладывались главным образом именно в землю), то отсюда следует, что состав шэньши и землевладельцев должен был часто изменяться. Этой же текучести в рядах землевладельцев способствовала и принятая в Китае система наследования.
Как показывают специальные исследования, состав чинов-ников-шэныии действительно довольно часто менялся. Согласно подсчетам В. Эберхарда [359; 362; 363, 100—119], состав фамилий шэныии в X в. был на 30% обновлен по сравнению с эпохой Тан (VII—X вв.). Данные Э. Кракке подтверждают этот вывод: в списках сдавших экзамены на высшую степень в 1148 и 1256 гг. можно найти лишь 42—43% потомственных шэньши (228, 72—73; 538, 119]. Р. Марш, специально изучавший циркуляцию правящей элиты в Китае в 1600—1900 гг., пришел к выводу, что представители только 4% кланов шэньши занимали конкурсные чиновные должности на протяжении четырех поколений и более — остальные, как правило, возникали и исчезали (т. е. как влиятельные кланы шэньши) за одно-три поколения [596, 188]. Таким образом, хотя в Китае была небольшая группа потомственных шэньши [360, 366; 362, 293], регулярный приток «свежей крови» в ряды шэньши, в том числе высшего ее слоя, правящей бюрократии, был несомненным фактом. Каста ученых-чинов-ников пополнялась не только за счет собственных рядов; в социальном отношении она — при всей ее специфичности и исключительности — не была замкнутой и недоступной для посторонних. Однако это не меняет того, что основная масса ее состава, большая ее часть, выходила из 2% высшего слоя общества, а меньшая — из остальных 98% населения [596,190]. И это обстоятельство дает основание усомниться в том, будто китайская экзаменационная система придавала обществу демократический характер [228, 72; 795, 11—12]56. Практически это означало, что дети землевладельцев-шэмбшы имели преимущественные права и возможности для получения образования, сдачи экзаменов и приобретения степени и должности. Да это и не могло быть иначе, если учесть, как дорого доставалась учеба и какую роль при этом могла и должна была играть семья. К этому можно добавить, что в позднем средневековье детям шэньши даже официально предоставлялись некоторые льготы (например, право учиться в специальных государственных училищах, дававших лучшую подготовку и тем облегчавших сдачу экзаменов) [41, 625; 259, 41].
Таким образом, в сословие шэньши теоретически мог попасть всякий, но практически попадал преимущественно представитель этого же сословия. Не каждый богач-землевладе-лец был шэньши (хотя все стремились стать ими), зато оказаться в рядах шэнъши было для любого верным путем разбогатеть и стать землевладельцем. Иными словами, сословие шэньши и класс богатых и средних землевладельцев4® Китае— это не совсем одно и то же, хотя и во многом эти две социальные группы совпадали [392]. Изучавший проблему источника доходов китайских шэньши Чжан Чжун-ли пришел к выводу, что не следует переоценивать значения земельных доходов и считать именно их основой существования этого сословия. У многих шэньши вовсе не было земли. Из 900 млн. му всей обрабатываемой в конце XIX в. земли в стране только четверть, 225 млн. му, приходилась на долю 1—1,5 млн. шэньши. К тому же в основном этой землей владела верхушка сословия, т. е. прошедшие через все три тура экзаменов и занимавшие конкурсную должность с высокой оплатой чиновники-бюрократы. Эта верхушка, насчитывавшая всего 30—60 тыс. человек, владела 200 млн. му [260, 125 и 146]. Однако именно для этих нескольких десятков тысяч чиновников из числа высшей элиты главным было не владение землей, а занимаемая должность, благодаря которой они становились и богачами, и землевладельцами. Таким образом, хотя именно имущественные привилегии облегчали путь в ряды шэньши, первичным в этой сложной системе взаимозависимых отношений был все-таки социальный, а не экономический момент. Как справедливо подметил Э. Балаш в своих работах по изучению природы бюрократической системы в Китае, социальное положение шэньши не зависело от их наследственных привилегий, территориальных владений, богатства. Напротив, все это вытекало из их социального положения, из их функций в обществе [203, 8]. Иными словами, обладание богатством еще не было абсолютной гарантией высокого социального положения, тогда как преодоление социального барьера было залогом не только высокого социального положения, но и автоматически прилагавшегося к нему богатства. Именно в этой особенности социальной структуры китайского общества и коренились причины столь исключительного по своему значению культа ученых-чиновников. Не богатство землевладельца, не мужество воина, хотя иногда статус его повышался [411], а образованность и ученая степень чиновника представлялись китайцам всегда наивысшей социальной ценностью [294; 677]. И это ни в коем случае не было только результатом культа грамотности, образования или классических книг самих по себе. Наоборот, это было закономерным результатом той системы отношений, которая сложилась в конфуцианском Китае.
Итак, сугубо материальный фактор (стремление к богатству) и факторы идеологические (конфуцианские этические нормы и культы) действовали в данном случае в одном и том же направлении и тем самым способствовали созданию и укреплению в стране культа ученых-чиновников, интеллектуалов-шэныии. Эти ученые-чиновники были в глазах народа наследниками и хранителями древней и великой мудрости конфуцианства, защитниками незыблемых традиций. Разумеется, на практике дело обстояло совершенно иначе. Среди получивших степень и должность в обилии встречались взяточники и лиходеи. Народ нередко стонал под тяжестью сурового правления мздоимцев, облагавших крестьян непомерно высокими налогами. Все это хорошо известно и нашло свое отражение в источниках, в литературе (151], в фольклоре [120, 112—113]. Однако при всем том были в среде этих ученых-чиновников и иные деятели, с именами которых связывалось представление об образцовом управлении, о добродетельных поступках, справедливости, борьбе с взяточничеством и притеснением крестьянства и т. п. Такие чиновники, как, например, небезызвестный минский чиновник Хай Жуй 57, действительно существовали, хотя и сравнительно редко. Зато после смерти их деяния обрастали легендами. Нередко они сами затем подвергались деификации и становились духами-покровителями того города, где прежде управляли. И именно эти легенды о добродетельных чиновниках всегда поддерживали в народе культ мудрых и справедливых ученых-шэныии.
Одним из следствий этого культа следует считать выработанные веками и санкционированные конфуцианской традицией определенные нормы поведения ученых-чиновников [813], и прежде всего подчеркнутое взаимоуважение и самоуважение в их среде. Восходящее еще к древнему культу цзюнь-цзы, к описанным в «Лицзи» ритуалам и церемониалам, это тщательное соблюдение точно установленных регламентов в поступках, движениях, одежде, украшениях, выезде и т. п. было одной из наиболее отличительных, бросающихся в глаза черт всех представителей сословия шэньши. Быть на должной высоте, во всем проявлять свое абсолютное знание правил и этикета, всегда быть внешне на высоте требований, предъявляемых к цзюнь-цзы, соблюдать достоинство, ни в коем случае не «потерять лица», — такой, в самых общих чертах, была линия поведения всех этих людей. Своим подчеркнутым соблюдением правил и этикета они как бы лишний раз давали почувствовать ту вполне реальную и существенную социальную грань, которая лежала между ними, грамотеями-чиновниками, учеными-интеллектуалами и простым народом, малообразованной массой. При этом, разумеется, именно внешнее соблюдение этикета было главным и основным. Лишний шарик на головном уборе или цвет костюма играл в представлении этих людей (да и на самом деле) значительно большую роль, чем наличие или отсутствие искреннего стремления к провозглашенной еще Конфуцием добродетели или справедливости. Поэтому-то и столь важную роль в китайском средневековом обществе играло «сохранение лица», поэтому-то столь страшным и морально непереносимым бедствием для всякого грамотея-интеллек-туала, для всякого стоящего над массой образованного шэньши была «потеря лица», т. е. публичное уличение или обвинение в чем-либо недостойном, недобродетельном, не соответствующем его званию и положению. Не случайно, например, изобличение чиновника, проводившего экзамен, в нарушении правил и тем более во взяточничестве было для него— независимо от полагавшегося за это сурового наказания по закону — гражданской смертью. Словом, «потеря лица», моральная дискредитация в китайском обществе всегда были, и остаются поныне, более суровой и эффективной мерой социального воздействия, чем любой другой вид наказания.
Сложившийся таким образом культ конфуцианских ученых-чиновников, грамотеев-шэньшм, сыграл немалую роль в формировании и закреплении в Китае специфической социальной структуры и в создании очень стабильной и консервативной конфуцианской цивилизации. Этот культ наряду со всеми другими конфуцианскими нормами, культами и институтами позволил сложиться в стране общепринятому представлению о китайской цивилизации и ее месте в мире.
Культ конфуцигнской цивилизации
Именно конфуцианство со всеми его нормами и традициями, со всей его идеологией и санкционированными нм формами социальной структуры обусловило постепенное возникновение и закрепление подлинного культа «Поднебесной», «Срединной империи», рассматривавшейся в качестве центра Вселенной, вершины мировой цивилизации.
Культ китайской конфуцианской цивилизации, как практического воплощения священной воли Неба, находил свое наиболее отчетливое выражение во взаимоотношениях китайцев с внешним миром. Китай, подобно древнему Риму, уже по крайней мере с Хань считал только себя цивилизованной страной, а своих ближайших и отдаленных соседей, весь остальной мир — варварами, не прикоснувшимися к великой цивилизации и потому вынужденными вечно прозябать в темноте и невежестве [228, 60—62; 387; 399; 565, 3—5].
Однако на этом представление конфуцианцев о мире не кончалось. В полном соответствии с их взглядами на роль Китая в варварской периферии, т. е. на роль Китая в мире, считалось, что все некитайские народы — это не только варвары, но и, в силу своего «варварства», как бы «младшие братья» китайцев, потенциальные вассалы и данники китайского императора, «Сына Неба».
чПюбые взаимоотношения конфуцианского Китая с его соседями на протяжении почти двух тысячелетий всегда рассматривались только и именно сквозь эту призму. Как только представители какого-либо племени или соседнего государства прибывали в Китай, специальное управление, ведавшее сношениями с иностранцами, рассматривало прибывших как данников. Назначался чиновник, ведавший сношениями с этим народом. Правителю народа иногда, в знак особой милости, присваивали какой-либо из китайских почетных титулов, а сам этот народ записывался в книги данников. Такие традиции существовали очень долго. Даже в 1793 г., когда в Китай прибыло первое английское посольство («миссия Маккартнея»), на кораблях, везших миссию по китайским водам, развевались флаги с надписью «Носитель дани из английской страны» [310].
Надо сказать, что на протяжении долгих веков народы, с которыми китайцы устанавливали связи, обычно не видели в таких отношениях ничего зазорного для себя. Приезжавшая в средневековый Китай миссия представляла, как правило, народ, находившийся на более низкой ступени развития. Из Китая этот народ получал товары, которых он не мог производить сам и которые высоко ценил (шелк, ремесленные изделия, драгоценности и т. п.). Отправляясь в путь, миссия брала с собой продукты своей страны, рассчитывая получить в качестве эквивалента китайские товары. Воспринимая привезенные товары как дань, китайский двор обычно щедро отдаривал миссию, так что стоимость ответных даров намного превышала «дань» [388, 139—140].
Такие взаимоотношения с близкими и далекими странами были нормой для средневекового Китая. По существу это был обычный обмен. Однако преломленная в умах конфуциански воспитанных китайских историков эта обычная картина в китайских исторических сочинениях получала иную окраску и не выглядела столь безобидной. Судя по многочисленным записям в китайских средневековых хрониках, все такие визиты в Китай (ответных визитов Китай, как правило, не делал) всегда воспринимались и фиксировались именно как явления данников, признание зависимости [388, 137—138, 141]. Со временем подобные хроникальные записи, уже освященные вековой традицией и приобретшие силу неоспоримого документа, получали вполне ощутимую ц реальную силу и могли служить формальным оправданием и предлогом для любых экспансионистских устремлений Китая.