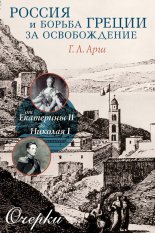Бесспорное правосудие Джеймс Филлис
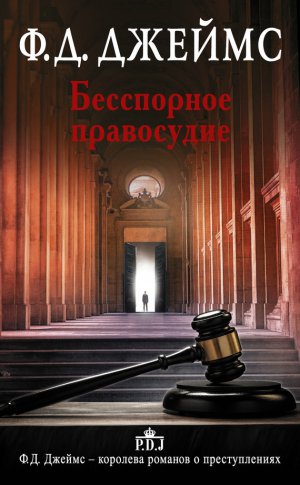
– Это не доказательство. Меня постоянно удивляет способность людей притворяться. Ты тоже часто видишь это, Кейт. Их показывают по телевизору – глаза полные слез, голос дрожит, умоляет найти любимого человека, хотя прекрасно знает, что этот человек лежит в подполе, и он его туда сам засунул. Кстати, по поводу денег. Как объяснить снятие со счета десяти тысяч?
– Напрашивается объяснение – ее шантажировали. Но она сняла деньги до убийства, а не после, так что эта версия не подходит. Может, она хотела кому-то заплатить за убийство Олдридж? Тоже не похоже. Как такая женщина может выйти на наемного убийцу? Как бы то ни было, убийство Олдридж не заказное. Киллеры обычно пользуются оружием и автомобилем, чтобы быстрее скрыться с места преступления. Но это убийство произошло внутри здания. И нельзя отрицать тот факт, что второе убийство сознательная попытка свалить вину за первое на Джанет Карпентер. Не будь она левшой, это преступнику удалось бы.
Сейчас, когда тело увезли, а эксперты, сделав свою работу, удалились, квартира уже не вызывала прежнюю сильную клаустрофобию, однако душная, оскверненная атмосфера все еще порождала гнетущее чувство, словно живые люди забрали весь кислород. Дэлглиш подошел к окну и поднял нижнюю панель. В комнату ворвался утренний бриз, очищающий, по-осеннему свежий. Дэлглиш почти поверил, что вдыхает запах травы и деревьев. Они сидели, не ощущая, что вторглись на чужую территорию – может, потому, что в этой полупустой, лишенной индивидуальности квартире не было ничего, что могло бы привлечь дух покойной.
– Что рассказали жильцы? – спросил Дэлглиш.
Пирс предоставил говорить Кейт:
– Немного, сэр. Мисс Кемп мало что добавила к уже сказанному. Вчера вечером она ничего не слышала, но надо учитывать, что она очень глухая. По ее словам, последний раз она видела миссис Карпентер вчера днем: та постучалась к ней, чтобы сказать, что уезжает и оставляет ей цветы и ключи. Мисс Кемп говорит, что не знала хорошо соседку – никогда не была у той в квартире, как, впрочем, и миссис Карпентер у нее. Но они иногда встречались на лестнице и немного болтали. Так миссис Карпентер узнала, что соседка любит комнатные цветы. На время отъезда они оставляли друг у друга ключи. Такое условие поставил домовый комитет. В прошлом году в одной из квартир потек кран, и никто не мог остановить затопление. Мисс Кемп отлучается только в том случае, если племянник отвозит ее к себе домой или катает по городу. Но она постоянно держит запасные ключи у миссис Карпентер. Дважды в неделю она ходит в магазин на углу и боится, что у нее могут украсть кошелек. Ее успокаивает мысль, что еще одни всегда есть про запас. Просит вернуть их, если миссис Карпентер увезли в больницу. Похоже, ее больше волнуют ключи, чем судьба соседки. Мисс Кемп даже не поинтересовалась, что с ней случилось. Кажется, она думает, что миссис Карпентер упала. У нее два главных страха – падение и грабеж. У меня создалось впечатление, что она считает: избежать их невозможно.
– Ей известно, когда именно миссис Карпентер опустила ей в дверную прорезь ключи? – спросил Дэлглиш.
– Их там не было, когда мисс Кемп запирала на ночь дверь, но она сделала это рано, в шесть часов, перед вечерним просмотром телевидения. Ключи она обнаружила этим утром на ковре, когда пошла проверить, не принесли ли почту. Миссис Карпентер обычно забирает ее корреспонденцию и опускает в отверстие для почты. Коридор перед дверью застелен ковром, поэтому падение ключей не было слышно.
– И ключи никогда не сопровождаются запиской?
– Наоборот. Обычно Карпентер кладет их в плотный конверт, заклеивает, пишет на нем свою фамилию, номер квартиры и дату предполагаемого возвращения. Если ключи срочно понадобятся, безопаснее их надписать.
– На этот раз оказалось не так, – сказал Пирс. – Ключи убийце преподнесли прямо на блюдечке. Миссис Карпентер к этому времени уже написала записку про цветы. Он прочитал ее, вынес цветы на площадку, запер за собой дверь и опустил ключи в щель девятой квартиры. Такой удачи он даже не мог ожидать.
– А что остальные жильцы? – спросил Дэлглиш.
На этот раз ответил Пирс:
– Из двух квартир на цокольном этаже одна никем не занята. В четырех квартирах никто не отозвался. Возможно, жильцы на работе. Девушка, которая впустила нас утром, ничем не смогла помочь. Ее друг сейчас дома, и он не любит полицейских. Они догадываются, что мы здесь не из-за квартирной кражи. Девушка еще на пороге спросила: «Так это убийство? Вот почему вы пришли. Миссис Карпентер мертва?» Отрицать смысла не было, но мы все-таки не раскололись. После этого парочка давала уклончивые ответы, хотя не думаю, что они что-то скрывают, – во всяком случае, убийства это не касается. Просто страх и желание быть в стороне. Девушка – ее зовут Никс – теперь отказывается от своих слов и говорит, что не уверена, работал ли у миссис Карпентер в семь тридцать телевизор. Говорит, что это могло быть радио, и вообще неизвестно, откуда шел звук. Когда мы уходили, она громко требовала, чтобы парень шел немедленно за прочным засовом и одновременно – чтобы не оставлял ее в квартире одну.
– Вчера вечером она открывала кому-нибудь входную дверь?
– Говорит – не открывала, настаивает на этом, но, возможно, лжет. С другой стороны, мы не беседовали с жильцами, которые сейчас на работе. Один из них мог открыть дверь. Супружеская пара из цоколя – безработные. Жена только что получила педагогическое образование и ищет работу. Мужа по сокращению штатов уволили из юридической фирмы. Они еще не вставали, и наш приход их не обрадовал. Супруги до утра были на вечеринке. Боюсь, от них мы ничего не узнаем. Эту квартиру они купили два месяца назад и говорят, что не знали миссис Карпентер. И еще упорно повторяют, что вчера никого в дом не впускали. Клянутся, что в семь тридцать уже уехали в гости.
– Нам немного повезло в последней квартире, – продолжила Кейт. – Там живет миссис Мод Кэпстик, вдова. Она познакомилась с миссис Карпентер на собрании домового комитета, где обсуждали стоимость наружной покраски дома, куда та пришла впервые. Они сидели рядом, и новая знакомая понравилась миссис Кэпстик, ей показалось, что у них много общего, но дальше этого не пошло. Время от времени миссис Кэпстик посылала ей приглашения на кофе, но та всегда ссылалась на дела. Вдова не обижалась – она тоже любила и вела уединенный образ жизни. По ее словам, при встрече миссис Карпентер всегда была очень приветлива, но встречались они не часто. Квартира миссис Кэпстик на первом этаже с выходом в сад, и случайные встречи на лестнице были исключены.
– Вам надо встретиться с миссис Кэпстик, сэр, – вмешался Пирс. – Она ведет колонку по садоводству в одном из глянцевых журналов. Моя тетка его покупает, и я сразу вспомнил фотографию этой дамы в журнале. Воображает себя Элизабет Дэвид в садоводческой журналистике – полезные советы и элегантный, оригинальный стиль. Моя тетка буквально молится на нее. Миссис Кэпстик пишет о своем великолепном саде в Кенте. Мне она призналась, что у нее нет никакого сада и никогда не было. Это сад ее мечты. Так, уверяет она, у читателей рождается представление об идеальном саде – и у нее тоже.
Случайного свидетеля могла удивить та насмешливая снисходительность, с какой Пирс это рассказывал, но его коллеги испытали благодарность к Мод Кэпстик: ее эксцентричность на какое-то время подняла им настроение.
– А как же фотографии? – спросил заинтригованный Дэлглиш. – Разве статьи публикуют без них?
– Она делает их сама – фотографирует отдельные растения или кусты в садах, где бывает, а то и цветы в лондонских парках. Половина удовольствия в том, чтобы найти подходящий кадр, говорит она, и знать, что никто не догадается, где он снят. Прямо она нигде не говорит, что это фотографии именно ее сада. А тот, который у нее здесь, площадью 6 на 8 футов, – жалкий клочок высохшей травы, регулярно посещаемый местными собаками, цветочная клумба – отрада кошек и три не поддающихся определению куста, на которые совершают регулярные набеги соседские дети.
– Удивлен, что она созналась в таком.
Дэлглиша удивила терпимость в словах Кейт:
– Пирс применил свой обычный прием – сидел с неподражаемым выражением мальчишеской симпатии к собеседнику.
– Главное – я узнал ее. Спросил, как часто она бывает в Кенте. Думаю, когда столько лет хранишь секрет, его не терпится рассказать. Это самое увлекательное в работе полицейского. Люди либо таят свои секреты, либо выбалтывают их. Она сказала: «Надо избегать надолго оставаться в реальном мире, молодой человек. Это мешает быть счастливым».
– Надеюсь, она не совсем порвала с реальностью, и ее ответам можно верить. Когда вы делились доморощенными философскими выкладками и обсуждали растительный мир, не сказала ли она чего-нибудь полезного для нас.
– Только то, что точно никого не впускала. Сразу после семи она слышала звонок, но в это время была в душе, а когда подошла к двери, звонить уже перестали. Сама она никого не ждала. По ее словам, пустых звонков бывает много. Иногда на кнопку жмут местные ребятишки, иногда кто-то просто ошибается.
– Звонить мог убийца, – сказала Кейт. – Когда она подошла к двери, его могли уже впустить.
– Кто-то впустил, – сказал Дэлглиш. – Если узнаем кто, тогда по крайней мере нам станет известно время его прихода, если, конечно, он вошел таким способом. Это все?
– Мы спросили миссис Кэпстик, когда она последний раз видела миссис Карпентер, – ответила Кейт. – Оказалось, в воскресенье в половине четвертого. Миссис Кэпстик возвращалась домой после обеда с подругой и увидела миссис Карпентер. Та шла в церковь Святого Иакова в конце квартала. Значит, тогда она была жива. Но ее информация ничего нового не дает. Мы это и так знаем.
Могла бы не давать, подумал Дэлглиш, если бы не одна удивительная новость. Ничего в квартире не говорит о том, что миссис Карпентер была церковным человеком; впрочем, здесь вообще ничего не говорит о ее личности – разве что ее склонность к уединению. Если судить по этому месту, трудно вообразить более одинокое существование. Идти в церковь днем в воскресенье довольно необычно, если, конечно, там нет по какой-то причине службы. Возможно, в церкви ею была назначена встреча. Не первый случай в его практике, когда в таком тихом, безлюдном месте устраиваются тайные свидания или передаются письма. Если ей хотелось поговорить без свидетелей и в то же время не рисковать и не приглашать постороннего в квартиру – лучшего места не найти.
– Стоит туда зайти, сэр? – спросила Кейт. – Полагаю, церковь может быть открыта.
Дэлглиш подошел к бюро и взял фотографию миссис Карпентер с внучкой. Минуту он внимательно, с бесстрастным видом ее изучал, потом положил в бумажник.
– Есть шанс. Она почти всегда открыта. Я знаю отца Престейна, священника этого прихода. Если он имеет к нашей истории отношение, у нас будут сложности.
В улыбке на лице Дэлглиша отразилось не только сожаление, но и лукавство. Кейт хотелось продолжить разговор, но она почувствовала себя на незнакомой территории. Есть ли какая-нибудь область, подумала она, где шеф ощущает себя неуверенно? Впрочем, он говорил, что его отец пастор. Поэтому он знал ту часть жизни, которая была ей совсем не знакома: вместо церкви Святого Иакова могла быть мечеть – это дела не меняло. Религия в любом качестве – как практическое руководство в жизни, как источник легенд и мифов или как философская категория – никаким образом не присутствовала в квартире на восьмом этаже в доме послевоенной постройки Эллисон-Фейруэзер. Нравственное воспитание Кейт отличалось простотой. Какие-то проступки – например, чтение вместо уборки квартиры или пропуск каких-то товаров при покупках по списку – были неприятны бабушке или мешали ей и потому признавались неправильными. Другие считались незаконными и потому опасными. В целом закон казался более разумным и более последовательным руководством по морали, чем эксцентричные требования бабушки. Общеобразовательная школа в бедном районе, где она училась, пытаясь примирить религиозные предпочтения семнадцати национальностей, довольствовалась тем, что считала расизм величайшим, если не единственным, смертным грехом, а все веры одинаково правомерными – или неправомерными, кто как хочет. Представителям меньшинств, их праздникам и обрядам уделяли больше внимания – видимо, потому, что христианство получило нечестный рывок на старте и теперь могло само позаботиться о себе. Собственные представления Кейт о морали, которые она никогда не обсуждала с бабушкой, в детстве были интуитивными, а в юности складывались без нажима извне, только исходя из собственной личности и опыта. Иногда ей это мешало, но ничего другого у нее не было.
Ее озадачило, почему миссис Карпентер пошла в церковь. Молиться? Если ходишь в церковь, в этом есть некое достоинство, и потому больше надежды на успех. Просто передохнуть? Конечно, нет – дом совсем рядом. С кем-то встретиться? Вот это возможно: просторная церковь – хорошее место для встречи. Но Кейт не ждала ничего важного от посещения церкви Святого Иакова.
Стоящий на посту в холле молодой констебль отдал им честь и сбежал по лестнице к машине.
– Спасибо, Прайс, – остановил его Дэлглиш и повернулся к Пирсу: – Возвращайся в квартиру, Пирс, и начинай следствие. Потом свяжись с Полет-Корт. Скажи им как можно меньше. Лэнгтону будет очень тяжело.
Но Пирса беспокоили собственные мысли: «Ничего не понимаю, сэр. Они не мясники. Это убийство не в их духе».
С легкой примесью раздражения Кейт сказала:
– Не похоже на первое? Но убийства явно связаны. Иначе и быть не может. Если мы правы и преступник старался выставить Карпентер убийцей Олдридж, тогда дорожка вновь ведет в Полет-Корт.
– Только в том случае, если убийца из «Чемберс». Но я начинаю в этом сомневаться. Если рассматривать непосредственное убийство отдельно от истории с париком и кровью…
– Мое мнение: убийство – внутреннее дело, а Карпентер как была, так и осталась главной подозреваемой, – перебила его Кейт. – У нее было все – орудие убийства, мотив, возможность.
– Нам уже кое-что известно, – сказал Дэлглиш. – На время убийства Карпентер у трех членов коллегии есть алиби. Это Ульрик, Костелло и Лэнгтон. Вчера вечером я беседовал с ними, и ни один из них не успел бы добраться до Седжмор-Кресент к семи тридцати. Сейчас мы с Кейт зайдем в церковь, благо она совсем рядом, а потом встретимся.
Народу на улице было мало. Слух об убийстве еще не распространился в районе. Когда это случится, неподалеку от дома, как это обычно бывает, соберутся зеваки, старательно изображая, что оказались здесь случайно.
Дэлглиш произнес:
– Отец Престейн – удивительный человек. Говорят, что ему больше, чем кому-либо другому в Лондоне, люди открывают свои секреты – и в исповедальне и вне нее. Он своего рода духовник писателей, принадлежащих к англиканской церкви: романистов, поэтов, ученых. Они не представляют себе обрядов крещения, венчания, исповеди или отпевания без участия отца Престейна. Жаль, что он никогда не напишет автобиографию.
Церковь была открыта. Массивная дубовая дверь легко открылась от толчка Дэлглиша, и они вошли, как в пещеру, в сумрачное, сладко пахнущее благовониями помещение, озаряемое, словно далекими звездочками, мерцанием свеч. Когда глаза Кейт привыкли к полумраку, величественная церковь обрела очертания, и девушка застыла в изумлении. Восемь изящных мраморных колонн вздымались к куполу, украшенному красными и синими медальонами в окружении резных ангелов с кудрявыми локонами и распростертыми крылами. Позади главного престола была установлена запрестольная позолоченная перегородка; при свете темно-красных лампад Кейт различала на ней нимбы святых и митры епископов, стоящих в ряд согласно рангу. Южная стена была полностью расписана розовыми и голубыми фресками. Это напомнило ей иллюстрации к «Айвенго» Вальтера Скотта. Противоположная стена расписывалась в том же духе, но работы приостановили на полпути, как будто иссякли средства.
– Одно из последних достижений Баттерфилда, хотя, боюсь, не зашел ли он на этот раз слишком далеко, – сказал Дэлглиш. – Как тебе это нравится?
Этот неожиданный вопрос, совсем не в духе шефа, смутил Кейт. После минутного раздумья она ответила:
– Производит сильное впечатление, но я не чувствую себя здесь легко и просто.
Ответ был честный, но Кейт боялась, не прозвучал ли он глупо.
– Интересно, чувствовала ли себя здесь легко миссис Карпентер?
Кроме них, в церкви была средних лет женщина с живым, энергичным лицом, она стирала пыль и отчищала до блеска киоск с религиозной литературой. Женщина бросила на них мимолетный взгляд, который, как показалось Кейт, не только приветствовал их, но и успокаивал, как бы говоря, что здесь их беспокоить не будут и к проявлениям религиозных чувств отнесутся с тактом. Кейт подумала, что англичане считают, что молиться надо в одиночестве, равно как и совершать необходимые физические отправления.
Дэлглиш обратился к женщине, извинившись за то, что прервал ее работу:
– Мы из полиции и находимся здесь по работе. Простите, вы были в церкви, когда миссис Карпентер приходила сюда днем в воскресенье?
– Миссис Карпентер? Не думаю, что знаю ее. Наверное, она не принадлежит к прихожанам нашей церкви? Но я была здесь в воскресенье между службами. Мы стараемся не закрывать на это время церковь, и потому члены паствы поочередно здесь дежурят. На этой неделе я была два раза, замещая мисс Блэк, которая лежит в больнице. Может, я ее и видела. С ней – я имею в виду миссис Карпентер – ничего не случилось?
– Боюсь, на нее напали.
– Она очень пострадала? Мне очень жаль. – Приветливое лицо омрачило искреннее сожаление. – Наверное, ограбление. Вскоре после того, как она от нас ушла? Это ужасно.
Дэлглиш показал женщине фотографию миссис Карпентер.
– Ах, вот вы о ком, – сразу ответила женщина. – Да, она была здесь в воскресенье днем. Я хорошо ее помню. К исповеди пришли только трое, одна из них – она. По воскресеньям исповедь у нас с трех до пяти. Отец Престейн будет очень расстроен, узнав, что с ней стряслось. Если хотите его видеть, он сейчас в риз-нице.
Дэлглиш поблагодарил ее и убрал фотографию. Когда они двинулись вдоль бокового нефа, Кейт обернулась. Женщина стояла с тряпкой в руке и смотрела им вслед. Встретив взгляд Кейт, она вновь согнулась над киоском и стала ожесточенно его тереть, словно ее поймали на недостойном любопытстве.
Просторная ризница располагалась справа от главного престола. Дверь была открыта, и, как только они возникли на пороге, пожилой человек повернулся к ним навстречу. Он стоял у шкафа, держа в руках тяжелую книгу в кожаном переплете. Поставив ее на полку, он закрыл дверцу шкафа и сказал без тени удивления в голосе:
– Никак, Адам Дэлглиш? Входите, пожалуйста. Кажется, прошло шесть лет со дня нашей последней встречи. Рад вас видеть. Надеюсь, вы в добром здравии?
Отец Престейн не произвел на Кейт того внушительного впечатления, какого она ожидала. Ей он представлялся выше, с худым, одухотворенным лицом ученого монаха. Росту в отце Престейне было не больше пяти футов пяти дюймов. Этот старый человек совсем не казался немощным. Седые волосы по-прежнему оставались густыми, подстрижены они были просто, без придания определенной формы, а круглое, луно-образное лицо больше подошло бы, по мнению Кейт, комику, чем священнику. На его губах играла веселая улыбка. Однако глаза под стеклами очков в роговой оправе были проницательными и добрыми, и, когда он заговорил, Кейт подумала, что редко встречала более приятное лицо.
– Спасибо, святой отец, на здоровье не жалуюсь, – ответил Дэлглиш. – Разрешите представить вам инспектора Кейт Мискин. Должен признаться, мы здесь по делу.
– Я так и думал. Чем могу служить?
Дэлглиш опять извлек фотографию.
– Как я понимаю, эта женщина, миссис Джанет Карпентер, приходила в воскресенье днем исповедоваться. Она жила на Кулстон-Корт, десять. Сегодня утром женщину нашли в ее гостиной с перерезанным горлом. Нет никаких сомнений, что это убийство.
Отец Престейн взглянул на фотографию, но в руки не взял. Затем незаметно перекрестился и на мгновение замер с закрытыми глазами.
– Мы будем рады любой информации, святой отец, которая помогла бы нам понять, почему ее убили и кто убийца. – Голос Дэлглиша звучал хоть и мягко, но в нем была непреклонность и твердость.
Отец Престейн, без выражения ужаса или удивления, просто сказал:
– Конечно, я помогу, если это в моей власти. Таков мой долг и таково мое желание. Но до этого воскресенья я никогда не встречал миссис Карпентер. Все, что я знаю, сказано на исповеди. И тайну исповеди я свято сохраню. Мне очень жаль, Адам.
– Этого я ожидал – и боялся.
Дэлглиш не стал спорить. И что, подумала Кейт, это все? Она старалась скрыть свое недовольство и чувство, которое было ближе к раздражению, чем к разочарованию.
– Вам, конечно, известно, – сказала она, – что убита также Венис Олдридж, королевский адвокат. Две смерти почти наверняка связаны. Ответьте хотя бы, надо ли нам продолжать искать убийцу мисс Олд-ридж?
В устремленных на нее глазах Кейт прочла сострадание, относившееся не только к убитым женщинам, но и к ней самой. Ее это возмутило, как возмутила и непреклонная воля, которую, она чувствовала, сломить нельзя.
– Это убийство, святой отец, – произнесла она более резко. – Убивший два раза может убить и третий. Скажите нам только одно: призналась ли миссис Карпентер в убийстве Венис Олдридж? Не теряем ли мы время в поисках другого преступника? Миссис Карпентер мертва. Ей все равно, нарушите вы тайну исповеди или нет. Она наверняка хотела бы, чтобы вы помогли. Хотела бы, чтобы ее убийцу поймали.
– Дитя мое, тогда я нарушу слово, данное не Джанет Карпентер, – сказал отец Престейн и спросил, обращаясь к Дэлглишу: – Где она сейчас?
– Ее увезли в морг. Вскрытие тела будет сегодня во второй половине дня, но причина смерти очевидна. Как я сказал, ей перерезали горло.
– Есть кто-то, с кем я мог бы повидаться? Кажется, она жила одна.
– Насколько нам известно, она жила одна, и родных у нее не было. Однако вы, святой отец, должны знать больше, чем я.
– Если близких нет, я помогу с организацией похорон. Думаю, она хотела бы заупокойную службу. Держите меня в курсе, Адам.
– Конечно. А мы тем временем продолжим расследование.
Отец Престейн провожал их по нефу к выходу. Уже у дверей он обратился к Дэлглишу:
– Возможно, я смогу чем-то помочь. Покидая церковь, миссис Карпентер сказала, что напишет мне письмо. Она разрешила использовать его по моему усмотрению – даже показать полиции, если я сочту нужным. Впрочем, она могла передумать и не отправить письмо. Но если оно написано и дает право поделиться с вами его содержанием, тогда, полагаю, я так и по-ступлю.
– Вчера вечером она отправила письмо, – сказал Дэлглиш. – Чтобы быть точным – ее видели выходящей из дома с письмом в руке.
– Возможно, это как раз то письмо, которое бедная женщина обещала написать. Если оно отправлено по первому разряду, то может прийти завтра утром, хотя кто знает. Странно, что, проживая в такой близости от церкви, она не опустила его в наш ящик, но, может быть, она сочла, что почта надежнее. Корреспонденцию обычно приносят сразу после девяти. В восемь тридцать я начинаю служить утреннюю мессу. Если надумаете прийти – церковь открыта.
Они поблагодарили священника и обменялись рукопожатиями. Больше говорить не о чем, подумала Кейт.
Глава тридцать четвертая
В тот же день в шесть часов Хьюберт Лэнгтон смотрел через окно на залитый газовым светом дворик.
– Помните, я стоял как раз на этом месте за два дня до смерти Венис, – сказал он, – и мы говорили, что она может стать главой коллегии. Прошло всего восемь дней, а кажется – вечность. И вот второе убийство. Кошмар за кошмаром. Венис могла жить в таком мире, я – нет.
– Эти убийства не имеют отношения к «Чемберс», – возразил Лод.
– Похоже, инспектор Тарант думает иначе.
– Но он также считает – хотя эту информацию из него выбили с трудом, – что Джанет Карпентер убита между семью и восьмью часами. А в этом случае большинство из нас получает лучшее из алиби – его обеспечивает сам Дэлглиш. Все кончилось, Хьюберт. По крайней мере, все самое худшее.
– Вы так считаете?
– Конечно. Джанет Карпентер убила Венис.
– Не думаю, что полиция того же мнения.
– Может, полицейских это не устраивает, но другого подозреваемого им не найти. Теперь известен мотив преступления. Тарант в какой-то степени это признал, когда рассказал нам, кто такая миссис Карпентер. Могу представить, как это произошло. Миссис Уотсон неожиданно не пришла на работу, и миссис Карпентер оказалась одна в коллегии в тот день, когда Венис задержалась на работе. Карпентер не удалось справиться с желанием сказать той прямо в глаза, что она косвенно виновна в смерти ее внучки. Представляю, что ответила ей Венис. В тот момент она вскрывала письма. Нож лежал тут же на столе. Карпентер схватила его и нанесла удар. Скорее всего она не хотела убивать Венис, но вышло именно так. Если бы дело дошло до суда, ей скорее всего это сошло бы с рук.
– А второе убийство?
– Можете себе представить кого-то из «Чемберс», кто способен перерезать женщине горло? Предоставьте полиции распутывать смерть Джанет Карпентер, Хьюберт. Это их работа – не наша.
Лэнгтон помолчал, потом спросил:
– А как Саймон к этому относится?
– Саймон? Думаю, почувствовал облегчение, как и все мы. Неприятное ощущение – находиться под подозрением. Вначале такой опыт захватывает своей новизной, но с течением времени начинает утомлять. Кстати, Саймон не переваривает Дэлглиша. Непонятно почему – тот ведет себя исключительно цивилизо-ванно.
Лод помолчал, глядя на Лэнгтона, и заговорил мягче:
– Может, мы лучше утвердим повестку на тридцать первое? Вы согласны с основными пунктами и порядком обсуждения? Руперту и Кэтрин предлагают два места в «Чемберс». С Гарри подписывается контракт еще на год с возможностью дальнейшего продления. Валерию утверждают в должности секретаря коллегии, и мы ищем ей помощницу. По словам Гарри, она очень перегружена в последнее время. Вы объявляете о своем уходе в конце года, и решено, что я сменю вас на этом посту. Предлагаю, чтобы удовлетворить сотрудников отделения в Солсбери, начать собрание с краткого со-общения о смерти Венис. Так как полиция не посвящает нас в обстоятельства дела, сказать особенно нечего, но работники коллегии ожидают этого сообщения. Однако держите все под контролем. Нам не нужны вопросы, предположения. Говорите кратко – только факты. И еще – вы уверены, что хотите сообщить о своем уходе в конце собрания, а не в начале?
– В конце. Не нужно тратить время на официальные выражения сожаления, тем более неискренние.
– Не преуменьшайте своих заслуг перед коллегией. Впрочем, найдется более подходящее время для официальных проводов. Кстати, мне звонили из Солсбери. Там хотят, чтобы собрание началось с двух минут молчания. Я поделился этим предложением с Дезмондом. Он сказал, что до сих пор поступался принципами, чтобы казаться человеком, готовым на все, что мы здесь затеваем, но есть все-таки пределы лицемерию.
Лэнгтон даже не улыбнулся. Подойдя к письменному столу, он взял в руки проект повестки дня, написанный изящным почерком Лода.
– Мы еще не продумали траурную церемонию, – сказал он. – Венис еще не кремировали, а на следующей неделе все, с чем она была не согласна, будет утверждено. Неужели от нас ничего не остается после смерти?
– Любовь у тех, кому повезло. Возможно, ока-занное влияние. Но не власть. Мертвые бессильны. Вы верующий человек, Хьюберт. Помните Экклезиаста? Что-то вроде того, что живая собака лучше мертвого льва?
– «Живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают, – тихо произнес Лэнгтон. – И уже нет им воздаяния, потому что и память их предана забвению. И любовь их, и ненависть их, и ревность уже исчезли, и нет им более части во веки ни в чем, что делается под солнцем»[29].
– Это касается и решений в «Чемберс», – отозвался Лод. – Если не возражаешь, Хьюберт, я возьму проект и отдам его на перепечатку и копирование. Может, кто-то и посетует, что о повестке дня сообщают слишком поздно, но у нас были другие заботы.
Лод направился к выходу, но у самых дверей обернулся.
«Знает ли он? – подумал Лэнгтон. – Или собирается сказать, а может, спросить?» – И в ту же минуту понял, что Лод думает то же самое. Но никто из них ничего не сказал. Лод вышел и закрыл за собой дверь.
Глава тридцать пятая
На следующее утро Дэлглиш попросил Кейт сопровождать его в церковь, а Пирсу поручил продолжать дознание в Мидл-Темпл. Кейт казалось, что второе убийство, оттеснившее на время внимание от первого, заставило ускорить расследование из-за нависшей опасности – большей, чем нападение на мисс Олдридж. Если замешан один и тот же мужчина – в том, что убийцей миссис Карпентер был мужчина, Кейт не сомневалась, – тогда он принадлежит к самому страшному типу, готовому убивать вновь и вновь.
Отец Престейн уже был в церкви и на звонок Кейт открыл боковую дверь. По узкому коридору он проводил полицейских в ризницу и там спросил:
– Хотите кофе?
– Если вас не затруднит, святой отец.
Священник открыл шкафчик и вынул оттуда кофеварку, сахар и две кружки. Налив воды и включив кофеварку в сеть, он сказал:
– Скоро Джо Поллард привезет молоко. По средам он помогает мне на службе. Мы с ним выпьем кофе после нее. А вот и он. Я слышу шум мотора.
В ризницу ворвался молодой человек в мотоциклетной экипировке, более подходящей для путешествия по Антарктике, чем для поездки по осенней Англии. Эта одежда придавала ему поистине огромные размеры. Он снял с головы шлем.
– Доброе утро, святой отец. Простите, что чуть не опоздал. Сегодня мой день готовить детям завтрак, да и на Кен-Хай-стрит жуткая пробка.
Представляя его, отец Престейн заметил:
– Джо всегда жалуется на пробки, но я, сидя на заднем сиденье мотоцикла, никогда не замечал, что это его особенно волнует. Он лавирует между автобусами с самым озорным видом, а вслед нам несутся про-клятия.
С поразительной быстротой Джо стянул с себя кожаные одежды, шарфы и джемпера, облачился в сутану и натянул через голову саккос, проделав все это с ловкостью, обретенной долгой практикой.
Отец Престейн, молча надев сутану, сказал:
– Увидимся после мессы, Адам.
Дверь за ними закрылась. Из-за прочной, обитой железом двери не доносилось ни звука. Вероятно, какие-то прихожане уже собрались, подумала Кейт. Она представила себе этих ранних пташек: несколько старух, мужчин еще меньше, ищущие тепла бездомные, которых привлекла открытая дверь. Могла ли быть среди них миссис Карпентер? Кейт было трудно это представить. Кажется, отец Престейн говорил, что она не принадлежала к числу постоянных прихожан. Так что заставило ее прийти в церковь за советом, исповедоваться, получить отпущение грехов? Каких грехов? Может, им повезет, и тогда они узнают это прежде, чем покинут церковь. Если, конечно, миссис Карпентер написала обещанное письмо. Возможно, они возлагают на него слишком большие надежды. Миссис Карпентер видели выходящей из дома с письмом в руке, но оно могло быть адресовано кому угодно.
Кейт привыкла сидеть молча. Очевидно, что Дэлглиш не расположен говорить, а она уже давно научилась чувствовать его настроение и всегда молчала, если молчал он. Обычно это ей давалось легко. Дэлглиш принадлежал к тем людям, молчание которых не вызывает смущения, а, напротив, приносит облегчение. Но сейчас ей хотелось поговорить – убедиться, что он разделяет ее нетерпение и беспокойство. Дэлглиш сидел неподвижно, склонив голову, его пальцы окружали кружку, но не дотрагивались до нее. Может быть, он ждал, когда та остынет, а может, вообще забыл о кофе.
Наконец Кейт поднялась со словами:
– Отсюда мы не услышим, когда привезут почту. Пойду подожду у дверей.
Дэлглиш не ответил. С кружкой в руке Кейт вышла в узкий коридорчик, ведущий к боковой двери. Время тянулось изнурительно медленно. Но теперь, когда Дэлглиша рядом не было, она хотя бы могла избывать нетерпение в нервной ходьбе и частом поглядывании на часы. Девять часов. Кажется, священник сказал, что почту привозят в девять или чуть позже. «Чуть позже» может означать разное. Можно прождать и полчаса. Сейчас пять минут десятого. Семь минут. И вот это случилось. Она не слышала шагов за дверью – просто в прорезь для почты посыпалась корреспонденция и с глухим звуком упала на пол: два больших, плотных конверта, пара счетов и пухлый белый конверт с пометкой «в собственные руки», адресованный отцу Престейну. Уверенный почерк образованного человека. Кейт видела такие конверты в квартире миссис Карпентер. Это именно то письмо, которое ждут. Кейт отнесла его Дэлглишу со словами:
– Вот оно, сэр.
Дэлглиш взял письмо и положил на стол, а рядом сложил стопкой остальную почту.
– Похоже, оно, Кейт.
Ей с трудом удавалось скрыть нетерпение. Конверт, казавшийся особенно белым на темной поверхности дубового стола, выглядел неким таинственным знамением.
– Как долго длится месса, сэр?
– Простая месса без музыки и проповеди около получаса.
Кейт тайком бросила взгляд на часы – больше пятнадцати минут ждать.
Но полчаса еще не прошли, как дверь отворилась, и в ризницу вошли отец Престейн и Джо. Молодой человек быстро снял сутану, влез в многослойную форму мотоциклиста и разом превратился в огромное металлическое насекомое.
– Сегодня я не останусь на кофе, святой отец, – сказал он. – Да, чуть не забыл, Мэри просила вам передать: она приготовит цветы для Девы Марии в воскресенье, ведь мисс Причард больна. Вы знаете, она перенесла операцию?
– Знаю, Джо. Я собираюсь навестить ее сегодня днем, если, конечно, она принимает посетителей. Поблагодари от меня Мэри, хорошо?
Оба вышли из ризницы, Джо продолжал говорить. Хлопнула входная дверь. У Кейт возникло чувство, что с уходом Джо ушел и нормальный мир, в котором она жила и который понимала, ушел, оставив ее физически и духовно одинокой и неспокойной. Запах ладана стал удушающим, а сама ризница вызывала клаустрофобное ощущение. Ее охватило бессознательное желание схватить письмо, вынести на свежий воздух и там прочесть: ведь это всего лишь письмо, хотя важное и, возможно, жизненно важное для расследования.
Вернулся отец Престейн. Взял письмо со словами: «Я ненадолго отлучусь, Адам» – и вышел из ризницы.
– А он не может уничтожить письмо? – Кейт пожалела о своих словах, как только они слетели с ее языка.
– Нет, не может. А даст его нам или нет – зависит от содержания.
Они ждали, и ожидание было долгим. «Он должен передать нам это письмо, – думала Кейт. – Это свидетельство. Нельзя его скрывать. Должен быть способ заставить отдать письмо. Нельзя утаивать улику, даже учитывая тайну исповеди. И почему священника так долго нет? Чтобы прочесть письмо достаточно десяти минут. Что он там делает? Может, молится своему Богу перед престолом».
Почему-то ей припомнился разговор с Пирсом о непривычном выборе учебной дисциплины. Поразительно, как терпеливо выслушивал он ее вопросы.
– Что тебе дало богословие? Все-таки ты потратил три года. Научило жить? Ответило на вопросы?
– Какие вопросы?
– Главные вопросы. Те, на которые трудно найти ответ. Почему мы здесь? Что случается после смерти? Есть ли на самом деле свобода воли? Есть ли Бог?
– На эти вопросы богословие не дает ответа. Оно как философия – учит, какие вопросы надо ставить.
– Какие ставить вопросы, мне ясно. Меня интересуют ответы. А что насчет того, как жить? Разве это не из области философии? Что ты сам думаешь?
Пирс ответил сразу и, как ей показалось, честно:
– Быть, насколько возможно, счастливым. Не причинять зла другим людям. Не ныть. Вот в такой последовательности.
Разумная жизненная установка – не хуже других. Она сама придерживалась практически такой же. Чтобы этому научиться, нет необходимости поступать в Оксфорд. Но чем она поможет, когда перед тобой тело замученного и убитого ребенка, или эта женщина, безжалостно забитая, как скот, с рассеченным до кости горлом? Возможно, отец Престейн думает, что знает ответ. Но разве ответ можно отыскать в этой тусклой, пропахшей ладаном комнате? Впрочем, надо верить в то, что ты делаешь, не важно, кто ты – священник или полицейский. В какой-то момент ты должен сказать: я выбрал этот путь и считаю, что он правильный. И буду ему верен. Сама она избрала работу в полиции. Отец Престейн предпочел эзотерическую деятельность. Если их убеждения вступят в конфликт, будет трудно обоим.
Дверь отворилась, и в ризницу вошел отец Престейн. С побледневшим лицом он протянул письмо Дэлглишу, сказав:
– Она разрешила отдать письмо. Я выйду, чтобы вы спокойно его прочли. Полагаю, вам нужно взять письмо с собой.
– Да, вы правы, святой отец. Но я, конечно, напишу расписку.
Отец Престейн не положил письмо обратно в конверт.
– Оно длиннее, чем я предполагал, – удивился Дэлглиш. – Она не могла успеть к почте в понедельник. Должно быть, писала целый день.
– Миссис Карпентер преподавала английский язык, – сказал отец Престейн. – Писать для нее – не труднее, чем говорить. Думаю, ей надо было написать это письмо, чтобы открыть правду не только нам, но и себе. Я вернусь, чтобы вас проводить.
Священник снова вышел, закрыв за собой дверь.
Дэлглиш разложил письмо на столе. Кейт придвинула ближе стул, и они стали читать вместе.
Глава тридцать шестая
Джанет Карпентер не тратила время на вступление. Ее письмо было продиктовано внутренней потребностью, а не только обещанием, данным отцу Престейну.
Святой отец!
Самоубийство Рози было для меня почти облегчением. Это звучит ужасно, признаваться в этом трудно. Но не думаю, что мне удалось бы не сойти с ума, живя рядом с ней, источавшей такую боль. Она нуждалась во мне, я не смогла бы ее оставить. Нас объединяло одно горе – смерть моего сына, смерть ее дочери. Но смерть Эмили ее убила. И если бы не снотворные таблетки, которые она запила бутылкой красного вина, она все равно умерла бы с горя – только медленно. Она бродила по дому, как живой мертвец, с остановившимся взглядом и делала обычную домашнюю работу, как запрограммированный робот. Случайная улыбка на ее лице казалась судорогой. Ее покорное молчание было ужаснее, чем самые страшные вопли отчаяния. Когда я пыталась ее утешить, заключая в свои объятия, она не сопротивлялась, но и не отзывалась на ласку. Мы все время молчали. Ни у одной из нас не было слов. Может, в этом было наше несчастье. Я знала, что сердце ее разбито, и теперь понимаю, что эта фраза не сентиментальное преувеличение – все в Рози было разбито. Ужасная кончина Эмили не оставляла ее ни на час. Удивительно, что, находясь в таком страшном состоянии, полностью утратив себя, она нашла в себе силы и желание прекратить эти муки и даже написала мне последнее внятное письмо.
Я страдала вместе с ней и еще – за нее. Конечно, я тоже любила Эмили. Я оплакивала мою дорогую Эмили и всех умерших насильственной смертью детей. Но у меня страдание переросло в гнев – страшный, всепоглощающий, и с самого начала он сосредоточился на Венис Олд-ридж.
Если бы Дермота Била не признали виновным, я могла бы придумать, как ему отомстить. Но Бил сидит в тюрьме и будет сидеть как минимум двадцать лет. Когда он освободится, меня уже не будет на этом свете. И тогда моя ненависть обрела другую цель – женщину, благодаря которой его не осудили на первом суде. Она блестяще его защищала, этот процесс стал для нее триумфом, мастерски проведенный перекрестный допрос свидетеля обвинения, еще один личный успех. И Дермоту Билу дали возможность снова убивать. На этот раз его жертвой стала Эмили, которая ехала на велосипеде домой из деревни, расположенной в миле от нас, и везла корзинку с продуктами. Позади нее на пустынной дороге раздался шум колес автомобиля. Но на этот раз Олдридж его не защищала. Я слышала, она никогда дважды не становится защитником одного и того же клиента. Даже у нее недостает на это самонадеянности.
Не думаю, что моя ненависть к Олдридж была наивной. Я знала, что существует и противоположное мнение: ее коллеги-адвокаты скажут, что она просто делала свою работу. Защитник положен любому обвиняемому – даже если его вина очевидна, а преступление чудовищно, даже если он внушает отвращение своим видом или характером. Адвокату не обязательно верить в невиновность подсудимого, ему нужно только подвергнуть проверке свидетельства против него и, если в них есть слабое место, увеличить лазейку, чтобы преступник мог благополучно пролезть сквозь нее и выбраться наружу чистеньким. Она вела беспроигрышную игру согласно сложным правилам, которые должны были, или мне так показалось, сбить с толку оппонентов, игру, в которой на кон подчас ставилась человеческая жизнь. Я хотела только одного – чтобы она хоть раз заплатила за свою победу. Большинство из нас платят за то, что совершают. У поступков есть последствия. Это надо усвоить с детства, но некоторые так и не усваивают эти уроки. Олдридж одерживала победы, и на этом все для нее заканчивалось – другие должны были переживать последствия этих побед, расплачиваться за них. Теперь я хотела, чтобы заплатила она.
Только после смерти Рози мой гнев и ярость перешли в то, что теперь я вынуждена признать как наваждение. Возможно, это частично связано с тем, что, когда я перестала заботиться о Рози и утешать ее, у меня появилось время размышлять о случившемся. И еще с тем, что после смерти Рози я утратила веру. Я не говорю о христианской вере, о традиции Высокой церкви[30], в которой я воспитана и которую привыкла считать родным домом. Я больше не верила в Бога. Не то чтобы я была рассержена на Него, что по крайней мере было бы объяснимо. Бог, наверное, привык к человеческому гневу. В конце концов, это происходит с Его ведома. Нет, я просто проснулась как-то утром, зная, что меня ждет все то же горе, те же рутинные дела, и вдруг поняла: Бога нет. Словно всю жизнь я ощущала биение невидимого сердца, а теперь оно остановилось.
Я не испытала огорчения – только бесконечное одиночество и покинутость. Казалось, все живое умерло вместе с Богом. Мне стал постоянно сниться один и тот же сон, после которого я просыпалась не с воплями ужаса, как Рози, когда ее преследовали кошмарные видения смерти Эмили, а с тяжелым чувством глубокой печали. В этом сне я стояла на пустынном морском берегу, заходило солнце, волны бились о мои ноги и откатывались, унося с собой гальку. Не было птиц, и я знала, что море безжизненно, на всей земле не было жизни. А потом из моря начинали выходить мертвецы, бесконечное число мертвецов, они проходили мимо, не глядя на меня и не заговаривая. Среди них были Ральф, и Эмили, и Рози. Они не видели и не слышали меня, а когда я звала их и пыталась до них дотронуться, они в моих руках обращались в морской туман. Спотыкаясь, я спускалась по лестнице и, доведенная до отчаяния, включала Би-би-си, чтобы услышать обнадеживающий человеческий голос. Именно в этой пустоте и одиночестве взрастала моя одержимость.
Сначала у меня возникло примитивное желание, чтобы дочь Олдридж тоже кто-то убил и избежал наказания, но это было из области фантазий. Организовать это я не могла, да по-настоящему и не хотела. В чудовище я не превратилась. Но из этой фантазии вырос более реалистичный план. Предположим, что молодой человек, обвиняемый в серьезном преступлении – убийстве, изнасиловании или грабеже, оправдан при содействии Олдридж и после освобождения обольщает или даже женится на ее дочери? Я знала, что у нее есть дочь. В одном из воскресных журналов была статья из популярной серии о звездных матерях, и к ней прилагалась фотография Олдридж и дочери после одного из успешных процессов знаменитого адвоката. Эта постановочная, лишенная сентиментальности фотография показывала их обеих, причем дочь Октавия, глядя в объектив, не могла скрыть смущения и неловкости. Фотография сказала мне больше любой статьи, показывающей с самой лучшей стороны главную героиню. Безжалостный глаз объектива рассказывал старую историю об успешной красавице матери и о простенькой, озлобленной дочери.
Но на реализацию этого плана требовались деньги. Молодому человеку надо было предложить такую сумму в наличных, чтобы тот не смог отказаться. Следовало переехать в Лондон, узнать как можно больше о Венис Олдридж, о ее повседневной жизни – где они с дочерью живут, в каком суде она появится в следующий раз. Придется, конечно, присутствовать на всех судебных процессах, где подсудимый – молодой человек, обвиняемый в серьезном преступлении. Все это представлялось реальным. Я решила продать свой дом, где жила с Рози и Эмили. Закладную я давно уже выкупила. Денег от продажи хватит на небольшую удобную квартиру в Лондоне, и еще останется больше, чем надо, на подкуп нужного лица. В Лондоне попытаюсь устроиться уборщицей в Мидл-Темпл, в надежде со временем перебраться в «Чемберс», ближе к Олдридж. Это потребует времени, но я не торопилась. Октавии еще шестнадцать, а в моем плане она должна быть совершеннолетней. Я не хотела, чтобы мать передала ее под опеку суда, дабы предотвратить нежелательный брак. Мне предстояло вычислить нужного человека. От этого выбора зависел успех всего предприятия. Здесь нельзя сплоховать. Но у меня было одно преимущество: я работала учительницей больше тридцати лет и почти все время имела дело с молодежью. Я не сомневалась, что сумею распознать в выбранном кандидате нужные мне качества – тщеславие, энергичность, беспринципность, жадность. А устроившись на работу в «Чемберс» и получив доступ к бумагам Венис Олдридж, я буду больше знать о его жизни, его прошлом, чем он обо мне.
Все развивалось в соответствии с планом. Детали не имеют значения, полиции многое уже известно: я знаю, что они разговаривали с мисс Элкингтон. Я получила то, что хотела – квартиру в Лондоне, где можно было уединиться, работу в «Чемберс», даже редкий доступ в дом Олдридж. Все шло так гладко, что, будь я суеверна, могла бы подумать, что моя великая месть была предопределена, и моя маленькая хитрость затерялась в облаках умиротворяющего ладана. Тогда я не употребляла слово «месть». Я представляла себя в более благородной роли – поборницы справедливости, желающей проучить виновную. Теперь я знаю: планировалась месть, я жаждала удовлетворения от мести, а моя ненависть к Венис Олдридж была более личной и более сложной, чем мне хотелось признавать. Теперь я поняла – это было неправильно, это было зло. Но я также понимаю, что это спасло меня от сумасшествия.
С самого начала я отдавала себе отчет в том, что успех моего дела во многом зависит от случая. Я могла не найти подходящего молодого человека, или он мог не понравиться Октавии. Знание того, что не в моей власти полностью контролировать события, парадоксальным образом делало мое предприятие более рациональным и реальным. Не ради каприза я изменила мою жизнь. Нужно было продать дом, уехать, не видеть любопытных взглядов посторонних людей и жалостливых глаз друзей, не слышать тщательно подобранных слов, которые могут говорить обо всем – о любви соседей или молчаливой терпимости. Когда я попросила их: «Не пишите мне, я должна побыть несколько месяцев совсем одна, освободиться от прошлого», то прочла чувство облегчения в их взглядах. Трудно жить рядом с таким горем. Некоторые друзья, особенно с детьми, написав одно письмо или отдав визит, отходили в сторону, как будто я была заразная. Существуют такие страшные беды, и убийство ребенка одно из них, которые пробуждают наши затаенные страхи, те страхи, о которых мы не осмеливаемся думать, боясь, что злая судьба, прознав о глубине нашего воображаемого ужаса, возьмет и сделает его реальным. Истинные страдальцы – всегда изгои в нашем мире.
А потом я встретила мистера Фроггета. До сих пор не знаю его имени. Он навсегда останется для меня мистером Фроггетом, а я для него – миссис Гамильтон. Я назвала мою девичью фамилию, потому что ее привычное звучание позволяло не выдать себя. Он не знает моего настоящего имени, прошлой жизни, не знает, где я жила или работала. Впервые мы встретились во Втором суде Олд-Бейли. Есть люди, которые регулярно посещают важные или любопытные процессы, особенно в Олд-Бейли, и после первой встречи я видела его всякий раз, когда приходила в зал суда. Скромный, небольшого роста мужчина приблизительно моего возраста, всегда опрятно одетый, он, как и я, терпеливо сидел в течение всего процесса, тогда как любители сенсаций уходили в поисках более живого развлечения, и делал записи своими небольшими изящными руками, как если бы следил в театре за игрой главных актеров. Но то, что мы видели, был спектакль. Некоторые участники знали свои реплики и саму пьесу, другие были неопытными любителями, впервые выступавшими на устрашающей, незнакомой сцене, но каждый играл свою роль в захватывающем представлении: ведь никто не знал, чем все закончится.
После нескольких встреч в суде мистер Фроггет стал робко со мной здороваться, но не заговаривал до тех пор, пока мне не стало дурно во время вступительного слова прокурора по одному из самых отвратительных дел, связанных с надругательствами над детьми. Это был первый из подобных процессов. Я знала, что временами мне будет трудно присутствовать в зале суда, но такого я и вообразить себе не могла: прокурор в парике и мантии спокойным голосом образованного человека красочно и без всяких эмоций обрисовал те муки и деградацию, на которые обречены дети в приюте. Этот процесс мне ничего не дал. Я рано поняла, что большинство преступлений на сексуальной почве совершаются мужчинами, вызывающими отвращение, или еще чаще жалкими созданиями, при появлении которых на скамье подсудимых мне сразу становилось ясно, что они не подходят для моего плана. При первых признаках дурноты я опустила пониже голову, и обморочное состояние отступило. Понимая, что нужно уходить, я постаралась сделать это как можно незаметнее, но я сидела в самой середине плотно заполненной скамьи и не могла не причинить другим беспокойства.
Когда я вышла в общий зал, ко мне подошел этот маленький человек. «Простите, – сказал он, – но я вижу, что вам плохо и с вами никого нет. Могу я чем-то помочь? Может, вы разрешите пригласить вас на чашку чая? Здесь рядом есть приличное кафе. Я туда иногда захожу, там очень чисто».
Слова, сам тон, чопорное соблюдение формальностей, граничащее с робостью, было совсем не современным. Помнится, мне пришла в голову смешная картинка: мы стоим с ним рядом на борту «Титаника»: «Разрешите, мадам, взять вас под свое покровительство и проводить к спасательной шлюпке». Глядя в глаза за толстыми стеклами очков и видя в них искреннюю обеспокоенность, я не испытывала к нему недоверия. Женщины моего поколения инстинктивно чувствуют, можно ли доверять мужчине – современные женщины утратили этот инстинкт. Поэтому я пошла с ним в «приличное» маленькое кафе, одно из многочисленных мест, где питаются клерки или туристы, там на ваших глазах вам сделают сандвичи с самыми разными наполнителями, хранящимися тут же под стойкой, с яйцами, сардинами, тунцом, ветчиной, и подадут ароматный кофе или крепкий чай. Он усадил меня за квадратный столик в углу, покрытый скатертью в красно-белую клетку, и принес две чашки чая и два эклера. После кафе он проводил меня до метро и распрощался. Мы назвали друг другу только наши фамилии – и ничего больше. Он не спросил, далеко ли мне ехать или где я живу, и я почувствовала его естественное нежелание казаться любопытным, страх, что я могу увидеть за его добрым поступком корыстное желание навязать мне дружбу.
Так началось наше знакомство. Дружбой это назвать нельзя – ведь я не была с ним откровенна, но некое дружеское участие без обязательств в наших отношениях присутствовало. Мы привыкли после судебных процессов пить вместе чай в том же самом кафе или в других, того же типа. После нашей первой встречи я заволновалась, но не по поводу проявления новым знакомым любопытства, меня беспокоило то, что ему покажется странной моя скрытность, а еще более странным мое присутствие неделя за неделей в зале суда, где передо мной разворачивалась печальная, часто предсказуемая картина человеческой слабости – слабости и порочности. Но, похоже, это совсем не тревожило его. Он был помешан на криминалистике, и ему казалось только естественным, что и я разделяю этот интерес. Фроггет много рассказывал о себе и, казалось, не замечал, что я проявляю скрытность. На третьем свидании он поведал мне нечто, что поначалу испугало меня, но потом я поняла, что никакой опасности нет, и даже увидела в этом благоприятный знак для своего предприятия. В свое время он преподавал в школе отца Венис Олдридж и хорошо знал ее ребенком. Он называл себя – и тогда впервые я заметила в нем признаки тщеславия, а потом утвердилась во мнении, что оно вообще присуще его личности, – ее наставником, привившим девочке вкус к профессии юриста, что позволило ей сделать первые шаги к блестящей карьере. Чашка дрогнула в моей руке, и чай пролился на блюдце. Подождав, пока волнение уляжется, я слила его обратно. Не глядя на собеседника, я постаралась задать вопрос ровным, непринужденным голосом:
– А сейчас вы с ней видитесь? Думаю, ей было бы приятно знать, что вы по-прежнему интересуетесь ее судьбой. Возможно, она помогла бы вам устроиться на работу в суде.
– Нет, я с ней не встречаюсь. И всегда стараюсь сесть подальше, чтобы она не заметила меня. Не то чтобы я боялся, но это может выглядеть, как желание попасться ей на глаза. Столько лет прошло, она могла меня забыть. Однако я стараюсь не пропускать ни одного процесса, где она ведет защиту. Следить за ее карьерой стало моим хобби, хотя мне не всегда удается узнать, где она будет выступать в очередной раз.
– Может быть, я смогу вам помочь, – вырвалось у меня. – У меня подруга работает в «Чемберс». Она занимает скромное положение и прямо спросить не может, но там должно быть расписание судов. Постараюсь узнать для вас, когда и в каком суде будет выступать мисс Олдридж.
Мистер Фроггет был искренне, чуть ли не до слез благодарен. «Вам понадобится мой адрес», – сказал он и, вытащив записную книжку, набросал несколько слов маленькой, похожей на лапку, рукой. Затем вырвал страничку и подал мне. Если он и посчитал странным, что я в ответ не дала ему мой адрес, то виду не показал. Я увидела, что он живет – наверное, и сейчас продолжает там жить – в Гудмейсе, графство Эссекс, в одном из современных многоквартирных домов с типовой безликой планировкой. После этого я время от времени посылала ему открытки – только дата и место – например, Винчестерский Суд Короны, 3 октября – и подписывалась инициалами Дж. Г. Конечно, я не всегда присутствовала на этих процессах: если подсудимая была женщина или по каким-то причинам совсем не подходящий для моих целей мужчина, я не утруждала себя поездкой.
Но эти изредка случавшиеся полчаса ни к чему не обязывающего общения стали самыми счастливыми моментами моей мучительной теперешней жизни. Возможно, «счастливыми» не совсем точное слово. Счастье не то чувство, какое я могу сейчас переживать, и у меня нет надежды пережить его вновь. Скорее, то было чувство удовлетворения, покоя, возвращения в нормальную жизнь, и это приносило облегчение. Должно быть, со стороны, если бы кто-то обратил на нас внимание, мы показались бы странной парой. Но никто не обращал. Таков Лондон – город тружеников, болтающих между собой перед тем, как отправиться домой, туристов с фотоаппаратами, картами, трескотней на непонятных языках, одинокого клиента с чашкой чая – они заходили в кафе, даже не глянув в нашу сторону. Все это было так недавно и одновременно давно: ритмичный гул города за окном, подобно шуму далекого моря, шипение кофеварки, запах сандвичей, стук чашек и звон бокалов. И на этом фоне мы обсуждали дневные события, делились впечатлениями от свидетелей, оценивали достоверность их показаний, взвешивали слова адвоката, предвосхищали возможный вердикт, старались угадать настроение судьи.
Только однажды я приблизилась, опасно приблизилась к моей навязчивой идее. В этот день обвинение представляло свои доказательства.
– Но она не может не знать, что он виновен, – сказала я.
– Это не важно. Ее работа – защищать, вне зависимости, считает она его виновным или нет.
– Мне это известно. Но если веришь, что твой клиент невиновен, это вливает дополнительные силы.
– Это может помогать, но не является основным в работе. – Подумав, он добавил: – Вот возьмем меня. Предположим, меня ложно обвинили в преступлении – скажем, в недостойном поведении в отношении юной девушки. Я живу один. По натуре отшельник, не очень располагаю к себе людей. И вот мой адвокат должен бегать по «Чемберс», судорожно ища барристера, который поверит в мою невиновность еще до защиты. В основе нашего законодательства – презумпция невиновности. Есть страны, где арест уже является доказательством вины, и последующий судебный процесс – по сути сольный концерт обвинения. Надо радоваться, что мы не живем в такой стране.
Он говорил с исключительным напором. Впервые я ощутила в нем личное убеждение, глубоко и искренне прочувствованное. До сих пор я видела в его увлечении правом всего лишь непреодолимый интеллектуальный интерес. Теперь впервые я заметила признаки страстной внутренней преданности идее.
Мистер Фроггет посещал все Суды Короны, на которых выступала Венис Олдридж, но особенно он любил, когда слушание велось в Олд-Бейли. Судебный зал номер один в Олд-Бейли был окутан для него романтическим флером. «Романтика» – странное слово применительно к месту, происхождение которого восходит к Ньюгейту, жуткой тюрьме прошлых лет, публичным казням, пыточным дворикам, где заключенные терпели страшные муки до самой смерти, чтобы сохранить семьям право наследования. Мистер Фроггет знал все это, но история криминалистики, казалось, только восхищала его и никогда не действовала угнетающе. В его одержимости было что-то болезненное – ведь его восхищало именно уголовное право, – но не отталкивающее, иначе я не водила бы с ним дружбу. Его одержимость была интеллектуальной. Моя – совсем другого толка, но с течением времени я стала понимать его страсть и даже ее разделять.
Иногда, когда процесс в Суде номер один обещал быть особенно интересным, я присоединялась к Фроггету, даже если Венис Олдридж не вела защиту. Это было важно: он не должен был заподозрить, что меня интересует только защита. И так, раз за разом, я вставала в очередь у входа для публики, проходила мимо охранников, взбиралась по казавшейся бесконечной лестнице к общей галерее, занимала место и ждала появления мистера Фроггета. Часто он приходил сюда раньше меня. Ему нравилось садиться во второй ряд, ему было непонятно, почему я не присоединяюсь к нему, пока я наконец не убедилась, что мисс Олдридж не смотрит в зал, а если бы и посмотрела, не узнала меня. В суд я надевала свой лучший костюм и шляпку с полями – в другое время Олдридж видела меня только в рабочей одежде. Риска практически не было, однако прошло несколько недель, прежде чем я осмелилась садиться близко к разыгрываемому действию.
Членов судебного заседания мне было видно так же хорошо, как судью. Внизу, с левой стороны, находилась скамья подсудимых – застекленное со всех сторон помещение, напротив нас – присяжные, справа – судья и прямо под нами – барристеры. Мистер Фроггет рассказал, что только однажды с первого ряда галереи сфотографировали подсудимого, приговоренного к смертной казни. Тогда на скамье подсудимых сидели Криппен и его любовница Этель ле Нев. Эта фотография наутро появилась в газете, и после этого был принят закон, запрещающий съемку в зале суда.
Он вываливал на меня большое количество информации, исторических справок. Когда я заметила, что место для свидетельских показаний слишком мало – небольшое деревянное возвышение с навесом, вроде миниатюрной кафедры проповедника, Фроггет объяснил мне, что навес сохранился с тех времен, когда судебные процессы происходили на открытом воздухе, и свидетелю требовалось прикрытие. А когда я спросила, почему судья, такой величественный в алой мантии, никогда не сидит в центре, Фроггет ответил, что место в центре предназначено для лорд-мэра Лондона. Он больше не председательствует на процессах, но четыре раза в год в полном облачении проходит в процессии через Главный зал в Суд номер один вместе с начальником городской полиции, шерифами, оруженосцем и судебным глашатаем, несущим меч и жезл. Мистер Фроггет рассказывал это с сожалением в голосе: ему очень хотелось бы увидеть эту процессию самому.
По его словам, именно в этом суде проходили самые знаменитые криминальные процессы столетия. Седдон, отравивший свою квартирантку мисс Барроу мышьяком; Рауз – главное лицо из Дела о Пылающем автомобиле; Хай, растворявший тела жертв в кислоте, – все они сидели на этой скамье, когда услышали смертный приговор. Ведущие к ней ступени были истоптаны мужчинами и женщинами, отчаянно надеявшимися на помилование или исполненными ужаса перед неминуемой смертью, некоторых волокли вниз в слезах и рыданиях. Мне казалось, сам воздух в этих стенах отравлен густой примесью страха, но, вдыхая его, я ничего не чувствовала. Возможно, это было связано с порядком и достоинством в зале суда, который был меньше, элегантнее и интимнее, чем я воображала; богатство резьбы на высеченных из дерева королевских гербах за спиной судьи, Меч Правосудия шестнадцатого века, мантии и парики, вежливое соблюдение формальностей, тихие голоса – все наводило на мысль о порядке и благоразумии и возможной справедливости. И все-таки это была арена, хотя пол здесь не был устлан пропитанной кровью соломой, и противники не выходили под звуки труб, обнаженные до пояса, со щитами и мечами в руках, отдавая поклон цезарю.