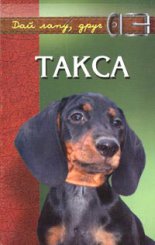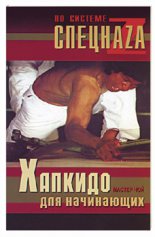Венец всевластия Соротокина Нина
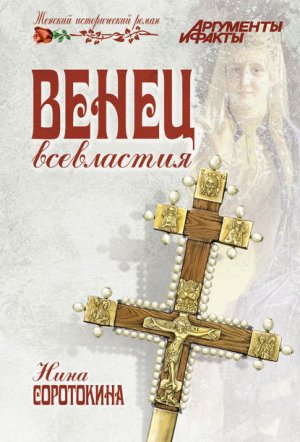
– Люду в тягость, государству в пользу. А правильно, нет ли, рассудить может только время. И еще скажу. Ты юноша сметливый, поэтому о том, что я тебе рассказал, – не болтай лишнего. В Москве про Новгород вообще всуе не говорят. Не принято.
Дождался… пришедший и хозяин перешли на шепот. От кого хоронятся-то? Паоло чуть шире отворил дверь. Речь шла об исповеди. Какой-то чистый душой человек, клирошанин, исповедовался самому архиепископу Геннадию. Дальше шепот сделался совсем невнятен, а потом вдруг громко, словно всхлип:
– И разгласил Авдей в простоте своей!
– Что разгласил? – стараясь выглядеть спокойным, спросил Курицын.
Максим склонился к самому уху дьяка. «Ну что бубнишь-то, – мысленно ругал шептуна Паоло. – Чего такого особенного мог ваш Авдей разгласить?» Маским отпал от дьякова уха, перевел дух и, сопя, принялся за рыжики. Курицын выглядел очень встревоженным.
– Зря, – сказал он негромко. Теперь Максим говорил уже не шепотом, а в голос, гневно:
– Геннадий посадил Авдея в ледник под палату. То есть поступил с несчастным Авдейкой так же, как когда-то с ним самим поступил митрополит Геронтий. Усекаешь, Федор Васильевич?
– А дальше?
– Дальше учинил над Авдейкой розыск, тот раскаялся, но имен не назвал. Тогда архиепископ Геннадий наложил на Авдея епитимью, велел во время службы стоять перед церковью, а внутрь не входить. А еще через неделю стал обыскивать все священство и обвинять всех подряд в еретичестве. Это, говорил, в Москве еретики живут в ослабе, а здесь, в Новгороде, я хулу на веру Христову не потерплю.
Вот те раз, Паоло поежился, как от озноба.
– Кто же ее трогает, веру Христову, – устало сказал Курицын. – Мы как раз к Христу и стремимся. Не еретичество это, а новая вера.
«Кто же это – мы? – исходил от страха и любопытства Паоло. – Кого обвиняют в ереси и при чем здесь учитель?»
– И еще прилюдно жалуется Геннадий, что досаждает ему чернец Самсонка. Де, бранит его этот чернец беспрестанно и рассылает на него хулительные грамоты по все московской земле.
– И это правда?
– Да что Самсон может разослать? Да еще по всей земле? Он и в грамоте-то не силен, а силен языком трещать. Какие-то у него со священником в кончанской церкви сшибки были.
Священник тот донес Геннадию, что Самсон якобы не причащается и кричит при этом: «У кого причащаться-то, если все поставлено на мзде и симонии». Геннадию всюду чудятся стригольники, а здесь старый лозунг налицо. Геннадий письма пишет по монастырям и призывает учинить полный разгром еретикам, и не так, как в прежних годах было, когда еретиков сажей мазали и по городу возили на лошадях задом-наперед, а чтоб окончательно искоренить ересь – с казнями и кострами.
– Ему бы, Геннадию, паству свою блюсти да делом толковым заняться.
– Дело-то у него есть. И архиепископа Геннадия сил немерено, – с готовностью откликнулся Максим. – Он сейчас занят составлением полного свода Библии.
– Вот это доброе дело, – оживился Курицын. – Ветхий Завет на русский не переведен. Его-то нам и не хватает.
– У Геннадия справщиков и переводчиков целая артель. Главные у них – Герасим Поповка и брат его Дмитрий Герасимов.
– Дмитрия я знаю, достойный юноша.
– Им помогает поп Вениамин. Родом он славянин, а верой – латынянин.
– Вот как? – удивился Курицын. – При Геннадии латыняне завелись? При его-то нетерпимости! Хотя для дела этот латынянин зело необходим.
– Геннадий грамотности алчет. Ему мало Вениамина-латынянина. Там еще трудится монах-доминиканец. Имени его не знаю, но человек сумрачный.
– Ай да архиепископ! – рассмеялся Курицын. – Как бы мы с ним поладили славно, если бы называл он белое белым, а черное черным, если бы не возводил на нас напраслину.
– Так ведь не выдуманная она – напраслина-то, Федор Васильевич. И перечислять все безобразия язык устанет. Пьяный поп Кондрат плясал в храме пред иконами и кукиш показывал – было! Поп в церкви… – Максим снизил голос до шепота, – да знаете вы, уличанский храм в Плотниках… Так тот поп скрытно исповедует жидовскую веру и имеет двух жен, обе невенчанные. Венчанная-то у него померла. Архиепископ о том пока не ведает, но узнает со временем, пыль поднимет до небес. И ведь за дело! Нашелся охальник, который нательный крест со шнурком нацепил на ворона. А ворон, птица злая и глупая, полетел на свалку мертвечину искать. И видели православные, как крест святой по собачьему трупу елозил. А Геннадий и рад – вон что еретики вытворяют. А мы-то здесь при чем?
– Горько это и страшно, потому что нас с этими бесами, развратниками и вероотступниками смешают, всех засунут под одну крышку.
– Да кто засунет-то?
– Люди. А проще говоря – время.
Собеседники опять принялись за еду, и Паоло, получив передых, понял, что замерз до дрожи. Ног от холода он вообще не чувствовал. Вылезая из постели, он накинул на плечи одеяло, а про ноги не подумал, тем более что босому куда ловчее идти на цыпочках, каждую половицу чувствуешь, не дашь ей скрипнуть. Теперь следовало немедленно обуться, потому что калекой безногим на Руси не проживешь, разве что у храма побираться.
Разгоряченный Максим вдруг откинул капюшон с лица, и Паоло увидел, что тот гораздо моложе, чем он его представлял. Голос Максима был глух, речи разумны, и Паоло сочинил себе образ старца, а с Курицыным беседовал русоголовый, синеокий молодой человек, курносый и, наверное, в других обстоятельствах – смешливый.
Когда Паоло в валяных сапогах вернулся к двери, разговор за столом шел уже о выборе нового митрополита. Эта тема была Паоло вполне понятна, потому что волновала всех. Уж год прошел, как преподобный Зосима оставил свой пост. Максим с Курицыным перебирали разные кандидатуры. Вспомнили даже митрополита западной митрополии, униата Захария, которого православный мир прозвал Чертом, прости, Господи, а потом опять вернулись к новгородским делам. Здесь Паоло услышал такое, что у него глаза на лоб полезли. Оказывается, архиепископ Геннадий восклицал во всеуслышание, что преподобный Зосима оставил свой пост не ради немощи своей, а удалили его сильные духом, понеже тот Зосима пьяница и подвержен содомскому греху. Ой, страсти какие!
Курицын быстро перекрестился:
– Свят, свят, чур меня… Геннадий не брезгует ничем. Неужели он сам в это верит. Про митрополита… такое!
– Вот и я говорю, – поддакнул Максим. – Если Геннадию полную волю дать, то закинет он большую сеть. Каждый новгородец станет еретиком. На кого опереться, у кого помощи просить?
– А Юрьевский старец жив еще?
– Бог продлевает жизнь преподобного, но дни его сочтены.
Речь шла о престарелом архимандрите Юрьева монастыря, расположенного близ Новгорода, обители славной и богатой традициями.
– Надо подумать…
Курицын вдруг встал и со светильником в руке так быстро прошел в спальную горницу, что Паоло еле успел отскочить от двери и придать себе вид сонный и непонимающий.
– Ты что? – спросил Курицын и подошел к поставцу, на котором вместо посуды и утвари лежали книги.
– По нужде, – быстро ответствовал Паоло.
– А? Ну иди…
Взгляд Курицына был задумчив, видно было, что он сразу же забыл про своего воспитанника, но, добираясь ощупью до нужника, Паоло молился с опаской: «Оборони, пресвятая Дева-заступница. Федор Васильевич-то умен. Если он меня заподозрит в чем, жди беды».
Заснул Паоло уже под утро, а когда проснулся, Сидор сообщил, что господин давно отбыл по приказным делам, а ночной гость… так он ничего не знает про ночного гостя, его и след простыл, он и думать о нем забыл, чего и Паоло советует.
Паоло потянулся сладко. Во дворец можно было не торопиться. Да и не нужен он там никому. Главная задача – выбраться наружу, а уж если вышел, то с возвращением можно погодить. Паоло с удовольствием подумал о завтраке, порадовался, что кончилась вьюга. Скоро потянет теплом, засияют на солнце узорные сосульки, а там и до лета рукой подать.
Взгляд его скользнул к поставцу. Миг – и сердце в груди забилось, как барабан. В тайном ящике для бумаг, который Курицын берег как зеницу ока и в который при Паоло никогда не заглядывал, торчал ключ. Забыл! Забыл, взволнованный встречей с Максимом и новгородскими неприятностями.
Паоло оделся. Подошел к рукомою. Потом опять сел на лавку и стал смотреть на ключ. Если дьяк вернется и застанет его рядом с открытым ларцом… выгонит из дома к чертовой матери. И не пожалеет никогда. Курицын такой человек, что иногда кажется – из воска слеплен, а иной раз – тверд, как столб гранитный.
Он вскочил на ноги резво, бросился к ларцу, словно тот был живым и его следовало поймать, как дикого зверька. Быстрота в движениях объяснялась только одним – не передумать бы! Трясущимися руками он повернул ключ, откинул крышку… И в самой верхней бумаге, а их там было – ворох, он нашел ответ на мучивший его вопрос.
Это было письмо, но писано оно было не к Курицыну, а сов сем к другому лицу. Похоже было, что кто-то снял копию и переслал ее дьяку. От кого же такое грозное послание… Паоло перевернул лист. Понятно, от архиепископа новгородского Геннадия. «Стала беда с тех пор, как приехал Курицын из Венгрии и еретики из Новгорода перебежали в Москву. Курицын у еретиков главный заступник, а о государевой чести попечения не имеет. Теперь же беда стала земская и нечесть государская большая. Церкви старые, извечные вынесены из города (по случаю строения новых стен), да и монастыри старые извечные с места переставлены. Но этого мало: кости мертвых вынесены в Дрогомилово, да на тех местах сад развели. Если же государь наш, князь великий, еретиков не обыщет и не казнит, то как ему со своей земли позор снести?»
Вот кто, значит, есть дьяк Курицын! Он у еретиков «главный заступник». Но это еще вопрос, кому верить… Паоло аккуратно положил свиток на место, потом осторожно, так кошка лапкой пробует воду, поднял за краешек обложной лист книги, заглянул. «Сказание о Дракуле Воеводе». Кто такой Дракула, почему не знаю? И ведь не спросишь! Ладно, это потом.
Что там еще, под неведомым Дракулой? «Лаодикийское послание» – было написано на титульном листе. Стихи какие-то… таблица. Паоло готов был руку дать на отсечение, что своей волей Курицын никогда, ни при каких обстоятельствах не покажет ему эти тайные бумагу. А может, сия Лаодикийская таблица приспособлена для составления гороскопов?
Паоло задыхался от напряжения, лоб взмок. Он быстро запер ларец. Попробуй у него кто-либо силой отнять ключ, так, пожалуй, и не разомкнет руку-то. Ее как судорогой свело. Ему нужна глина. Хороший, влажный кусок мягкой глины, чтобы сделать оттиск. А там уж он найдет, где заказать ключ. Будет ключ, можно сделать копию. Но где найти глину зимой? Разве что в подвале под палатами…
15
В мае Елена Волошанка получила из Литвы письмо от Лёнушки. Письмо было передано шляхтичем тайно, что само по себе подразумевало – родителей в известность не ставить. Оленушка была человеком скромным, набожным, не по букве, а истинно, поэтому старалась придать письму строгий и благочестивый тон, но меж строк плескался восторг: как это сподобило судьбу подарить ей такое богатство, такую радость и счастье? Из письма следовало, что Александр, супруг ее, и пригож, и ласков, и умен, и обходителен, словом, Елена поняла, что Оленушка влюбилась без памяти в своего мужа, и искренне порадовалась за названую сестру.
Всем этим Елена поделилась с верным другом покойного мужа, а стало быть, и ее – дьяком Курицыным, поделилась как бы между прочим, и тем удивительнее была реакция Федора Васильевича. Тот вдруг озаботился сильно, а потом сказал и вовсе несуразную фразу:
– Хорош улов, да не ко времени.
И как это понимать?
Дьяк шел к Елене с совершенно особым и чрезвычайно важным сообщением, а теперь все медлил, не зная, как приступить к важному разговору. Они сидели на скамье под яблонями в саду, с горки отлично было видно, как блестит за стенами Кремля Москва-река. Иные яблони уже распустились, другие только набирали сок в бутонах. Пчелы гудели… Жара была почти летняя, и Федор Васильевич расстегнул верхние пуговицы своей богатой опашени.
Заметь эту пару сейчас кто-то из злопыхателей, и он не посмел бы сказать дурного слова. Все знали, что любовь к покойному Ивану Молодому Курицын перенес на сына его – Дмитрия. Дьяк давно привык к мысли, что отрок со временем будет великим князем на Руси, а потому принимал самое горячее участие в его воспитании, искал и учителей достойных и лекарей знающих.
Курицын так давно был вдов, и при этом столь нарочито равнодушен к женщинам, что в глазах людей утратил не только пол, но и возраст. Он был правой рукой царя, главным советником его в делах внешних (со внутренними делами Иван Васильевич справлялся сам и редко спрашивал совета).
Коли дьяк на таком посту, ему не до утех женских. Да и стар уже. Иные считали его ровесником царю, другие говорили – что вы, он старше государя! Федор Васильевич не спорил и не торопился сообщить истину. Жизнь подносила ему так много сюрпризов и неожиданностей, что возраст он набирал, как бы пренебрегая прожитыми годами и календарным временем. Один турецкий плен чего стоит! Десять с лишком лет назад был он направлен послом в Венгрию, прожил там четыре года, а по дороге домой был захвачен турками. Житье в Туретчине было долгим. Хорошо еще, что не продали его в рабство. Хороший переводчик на рынке много стоит. А Курицын знал венгерский, польский, молдавский, греческий, латынь. Из плена вызволил его государь. Дьяк вернулся в Москву с седыми висками. А теперь что считать? Все его года, все сорок восемь лет, ему принадлежат.
Но подсматривать за героями нашими было некому. Сад Елены Волошанки, равно как и двор ее, находятся за высоким забором. Отдельное жилье было даровано еще Ивану Молодому, а по смерти супруга было сохранено за его вдовой. Последний пожар сильно потрепал постройку, но не скажешь, как про царский двор, мол, выгорел дотла. Обновили, подчинили, заменили сгоревшие бревна новыми – можно дальше жить.
Пробили часы на новом княжеском дворе. Раньше часовая машина, прозываемая «частомерье», стояла подле храма Благовещения. Теперь там идет строительство, возводят для государя Ивана палаты каменные. Частомерье было старым, установлено оно было более восьмидесяти лет назад. Тогда для всех это было диво-дивное, молот ударял в колокол каждый час, размеряя часы дневные и ночные, и ударял тем колоколом не человек, а самодвижная хитрость. Часы порушил пожар, и находились они в полном небрежении до тех пор, пока флорентийский мастер не вернул им по приказанию царя былую силу. Большая радость для всех слушать опять их мелодичный перезвон и соотносить себя со временем.
Курицын наконец решился.
– Я должен донести до вас, княгиня, известия неприятные. Горе мне, редко прихожу к вам теперь с хорошей вестью.
– Не томите… Иль дурное о Дмитрии?
– Нет, нет! Разговор на сей раз пойдет о вашем батюшке. Дошли до нас сведения, что господарь волошанский Стефан напал на литовские владения.
– Быть не может! Это вы точно знаете?
– Да уж куда точнее. Из Литвы прибыл посол Станислав Петряшкович. Он теперь и пеняет государю Ивану и помощи от него против Волошии ждет.
Елене не надо было долго объяснять сущность происшедшего. Раз заключили мир с Литвой, то, стало быть, по обычаю и по старине иметь общих друзей и врагов. Но не может быть того, чтоб господарь Стефан стал врагом московскому государю.
– Что же теперь будет? – спросила она упавшим голосом.
– Грамоты будем составлять, печати вешать, послов звать да гонцов гнать. Государь уже повелел искать способ, чтоб примирить Александра и вашего батюшку.
Курицын не раз упреждал Елену, объяснял ей, как вести себя с царем, де, не сказала бы по недомыслию чего лишнего. И сейчас они обсудили происшедшее во всех подробностях. Елена покорно кивала головой.
– Теперь я понимаю, почему вы так сказали про письмо Ленушки… про улов ни ко времени. Но ведь одно другому не мешает. Я так рада за Лёнушку, что послал ей Господь любовь. Вот так едешь неизвестно куда, и приедешь к любимому.
– Разумеется, я очень рад за княгиню Елену, – поспешно сказал Курицын. – А это – просто пословица, случайно с языка сорвалась. Я о своих делах думал.
В глазах Елены не прозвучал вопрос – каких? Дела дьяка Курицына были столь обширны, что женского ума как бы и не касались. Однако, позволь себе Курицын откровенничать на этот раз, она бы все поняла и приняла размышления дьяка близко к сердцу.
Когда Иван отдавал дочь Елену в Литву, то в расчеты его меньше всего входила счастливая жизнь супругов. Любить мужа жена обязана, это всякий знает, но не настолько, чтоб ради него забыть отчизну свою, отца и нужды государства Московского. Иван поставил на дочь, как на кречета в охоте, как на бойка-петуха, прости, Господи. Елена должна была стать своим человеком во вражеском стане и доносить о каждой мысли мужа, о каждом его намерении. Более того, царь замыслил окружить дочь русским штатом, чтоб были рядом с дочерью мудрые и умелые соглядатаи. Если Елена умом не все объемлет, то толковый человек сообразит послать в роковой час нужную грамотку государю Московскому.
И вдруг посол Петряшкович после недостойного, невразумительного приветствия заявляет Ивану, что, де, ты, государь, хотел оставить при дочери своей на первое время, пока она не обвыкнет к новой жизни, несколько твоих бояр и детей боярских.
– Именно, это и договором предусмотрено.
– Согласуясь с твоим желанием, мы оставили их на какое-то время, но не на всю же жизнь! – здесь голос посла дал слабину, в нем прозвучала неприкрытая обида. – Теперь княгиня попривыкла к новому жилью и положению. Пребывает она в здравии и счастии, и пора бы уже боярам твоим и слугам отбыть в Московию. Мой господин, Великий князь Литовский и Русский, говорит: «В Литве, слава Богу, есть кому служить княгине. Стоит ей только слово сказать, все будет тут же выполнено. Приказ дочери вашей свят. Она великая княгиня наша».
Государь Иван выслушал заявление посла молча, только брови насупил, приспустил веки, и глаза стали как щелочки. И щелочки эти глядели поверх посла, словно пытались досмотреться до далекой Литвы и узреть, что там происходит на самом деле.
Петряшкович выждал подобающую важному приему паузу и продолжил свои речи. Теперь посол щедро подливал елей в каждую фразу и кланялся поминутно, но весь вид Ивана говорил, что речи эти он находит дерзкими.
– Ты, великий царь, просил поставить для дочери своей новую церковь греческой веры на переходах, подле ее хором, но князь великий Александр говорит, что пункт сей попал в брачный договор по недомыслию послов наших, а потому передает, что князья наши и паны имеют записи от предков наших, чтоб церквей греческого закона в Литве не прибавлять. А посему старый закон нарушать не годится, – он передохнул и продолжал: – Для великой княгини Елены в Вильне есть греческая церковь. Она стоит совсем близко от княжеских покоев и, если ее милость захочет идти в церковь конно или пеше, ей тут же будут предоставлены слуги.
Вот здесь государь и излил свой гнев. Он читал эти «записи от предков наших». Литовский князь Ягайло-вероотступник после брака с Ядвигой и объединения княжества Литовско-Русского с Польшей клятвенно обещал польским панам, что будет обращать подданных своих в латинство и церквей православных не возводить.
Но не даст он Литве с Москвой шутки шутить. Александр думает, если он Елену заполучил, то уже и хозяин! Лицо Ивана покраснело, голова вскинулась, и борода угрожающе распушилась.
– По недомыслию, говоришь? А мирный договор вы тоже по недомыслию составляли? Я просил построить церковь греческую не только для дочери моей, но и для себя. Для себя, понял? А господину своему передай… – Дальше последовал такой поток брани, что послу впору было заткнуть уши.
Стоявший рядом с троном Курицын похолодел, сидящие вдоль стен бояре закивали высокими шапками, кто-то прыснул в кулак. Оставалось только надеяться, что послу Петряшковичу хватит ума не передавать Александру эту брань дословно. Да и забудет он половину. А если не забудет, то тоже беда не велика… пока. Литве сейчас необходим мир с Русью, Вильно все стерпит. На них Стефан молдавский напал, и хан крымский Менгли-Гирей уже в седле.
Это с Литвой Иван воевал, а с Крымом ему делить было нечего. Надо сказать, что Менгли-Гирея очень удивил внезапный мир Ивана с Литвой, да и узнал он об этом случайно, как бы стороной. Курицын потом сам составлял письмо в Крым с объяснениями: «Мы не известили тебя, брат, о союзе с Литвой, потому что была зима. Друг Менгли-Гирей, помирись и ты с Литвой. Но если Александр с тобой не помирится, то мы с тобой будем против него заодно».
Менгли-Гирей согласился помириться с Литвой, но тут же попросил у русского царя серебряные чары да два ведра, и чтоб хорошей работы. Ну и еще кой-чего попросил – по мелочам.
С крымским ханом легко договориться, он на подарки падок. Другое дело – Литва. Курицын понял, на что более всего Иван гневается. В грамоте от Александра, и посол это понимал, не величали Ивана III так, как было подписано под мирным договором. «Иоанн, Божьей милостью, государь всея Руси, и великий князь Владимирский, и Московский, и Новгородский, и Псковский, и Тверской, и Югорский, и Болгарский и иных…» – вот как надо было писать, а не просто «великий князь Иоанн». Курицын понимал эту обиду и был целиком на стороне царя.
Посол Петряшкович отбыл в Вильно, а вслед ему был направлен тайный гонец Михайла Погожев с грамотой. Иван писал дочери: «Сказывали мне, что ты нездорова, и я послал известить тебя Михайлу Погожего, чтоб ты бы с ним мне отписала, чем неможешь и как тебя нынче Бог милует”. Грамота была написана для отвода глаз. Главное должно было быть передано Лёнушке на словах. Отцовский наказ был таков: «Быть верной Руси, не держать при себе людей латинской веры и не отпускать прочь бояр московских».
Незаметный шляхтич из литовской свиты сохранил тайну, никто при русском дворе не узнал о тайном письме Лёнушки, а умный Курицын посоветовал Елене Волошанке придать эту невинную писульку огню, чтоб не попала в чужие руки. Мало ли… Влюбленная жена не пособница отцу, и узнай Иван, что его дочь, вместо того чтоб о славе отечества думать, предается любовной неге и на мужа молится, то был бы он не просто огорчен, а может быть, и воспылал гневом.
16
Этого – бойкого, лопоухого, с глазами цвета старой бирюзы, с длинными немытыми патлами и худой бороденкой Паоло встретил на Торгу, куда пришел покупать сапоги. День был воскресный. Казалось, у стен Кремля собралась вся Москва, половина города хотела продать, другая половина – купить. Толпа была яркой, горластой, веселой. Тут же гугнили и показывали язвы нищие, дерзкие молодайки скалили зубы, щелкали нагайками дворцовые охранники, им, вишь, тоже приспичило покупать.
И какие же здесь роскошные были товары! На огромных оловянных и деревянных подносах исходило кровью мясо скотское и свиное, над влажными кусками его жужжали зеленые мухи, в рыбном ряду стояла вонища – нос затыкай, ерши, щуки, плотва, карпы и прочая мелочь продавались бочками и возами, осетры и семги шли поштучно, а еще икра давленая, зернистая, паюсная… Далее продавали все, что дала людям земля по осени: перламутровые кочаны капусты, репа, горох в стручках, а также сушенный россыпью и моченный в кадках, бобы, немыслимых размеров морковь, потом ягоды всякие, яблоки и груши. За суконными рядами разместились заморские товары. Был здесь уголок необычайный по благовонию, здесь продавали ваниль, перец, имбирь, шафран. Торговля пряностями шла необычайно бойко.
Несколько на отшибе, ближе к Москва-реке, продавали доски белого железа, проволоку толстую, медь тянутую, скобы железные, а также во всевозможном разнообразии деревянный строительный материал. На торгу можно было купить «сруб-клетку» и даже целый дом с крышей.
С трудом пробираясь через толпу, Паоло натолкнулся на торговца квасом. «Со льду квасок, с ягодкой морошкой-клюковкой!» – вопил торговец. «Врешь, негодник, теплое у тебя пойло», – подумал Паоло, но денежку протянул, поскольку жажда совсем иссушила горло. На удивление квас оказался именно таким, как сулил продавец. Паоло аж крякнул, от холода заломило зубы. В ответ раздался довольный смех. Паоло оборотился на стоящего рядом парня. Патлатый тоже пил квас из огромной деревянной чаши и весь светился от благодушия. В довершение картины скажем, что парень облачен был в серые порты и необычайно короткий, затертый на рукавах немецкий кафтан, а в руках держал из бабьего платка сооруженный узел, в котором что-то позвякивало.
Возвращая торговцу чару, Паоло спросил у него про сапожную лавку. Торговец начал было объяснять, но малый с узлом бесцеремонно влез в разговор. Напористо и быстро, аж словами захлебывался, он стал объяснять, что уже был сегодня в сапожных рядах и ничего подходящего там нету.
– Такому знатному болярину, как вы, надо шить сапоги на заказ, а не искать их на торгу.
– Это почему же?
– Осмелюсь доложить, нога ваша не подходящая для этого торга фасону. Лодыжка излишне сухощава и подъем крут, – Паоло только дивился, как парень мог рассмотреть его ноги, если все время смотрел в глаза собеседнику. – Сапоги без примерки шьются на любого, а у русского народа в обычае иметь на голени и в бедрах много мяса. Однако же напомню вам, что маленькая и нежная нога – есть признак злодейства, – он неожиданно подмигнул.
– Нога у меня не маленькая и не нежная, – с раздражением сказал Паоло, пытаясь вспомнить, где он уже слышал это определение… или читал?
– А я и сам вижу. Это я не в укоризну сказал, а к слову, – весело отозвался патлатый.
Паоло уже шел неизвестно куда, расталкивая людей, а малый в немецком кафтане поспешал за ним со всей проворностью.
– Вы какие сапоги хотели купить?
Наш герой хотел послать разговорчивого попутчика куда подальше, но не смог, прямо фокус какое-то.
– Ну… чтоб хорошей кожи с тиснением, цвет желательно красный, но чтоб глаза не слепил, а так… с притемнением.
– Хотите совет дам? Здесь есть оружейник. Он торгует всем – саблями, булавами, кольчугами… но, кроме того, продает хорошую конную сбрую, седла и сапоги. К нему важные люди ходят. Хотите покажу?
Удивительное дело, парень словно угадал главную надобность Паоло, за которой он, собственно, и явился на торг. А тут и оружейник и сапожник в одном лице?
Новый знакомец шел по торгу, как по собственному дому, толпа не была ему помехой, уверенно сворачивал то влево, то вправо, подныривал под низкие воротца, обходил стороной погреба, при этом балагурил с продавцами, подмигивал румяным бабам, что стояли при посуде или рукоделиях.
– Погодь, – бросил парень стол неожиданно, что Паоло уткнулся лицом в его спину.
Здесь продавались доски иконные и краски в берестяных и глиняных сосудах. Каждую краску парень нюхал, потом тончайшей лучиной брал щепотку и смотрел на свет.
– Ярь есть? Вохра есть? Сурик есть?
– Вохры нет, – терпеливо отвечал мужик в литовском платье. – Яри тоже нет. Но есть черлень псковская. И вот, извольте, отличная киноварь. Бапер остался. Опять же бель.
Паоло был уверен, что парень все сейчас скупит, но тот поставил берестяные емкости на место и тем же упругим шагом последовал дальше. Продавец выкрикнул вслед нечленораздельное, судя по выражению лица его, это была отборная ругань. Но парень не смутился, так же внимательно осмотрел иконные доски и опять ничего не купил.
– Зачем вам краски и доски? – не удержался от вопроса Паоло. – Вы что – живописец?
– Пока не удостоился, – с легкой обидой отозвался парень. – Может, познакомимся?
Познакомились. Мефодием его звали. К удивлению Паоло он оказался переписчиком книг. Грамотный, стало быть. Это хорошо. А Мефодий был совершенно потрясен новым знакомым. Что Паоло из иноземцев, это он сразу понял, и не столько по платью, сколько по языку, и по-русски вроде говорит, а все как-то не так. Иноземцев Мефодий видел предостаточно, но этот был особенный – из Флоренции!
– Я ведь в тот самый год родился, когда матушка великая княгиня Софья Фоминишна Московский престол заняла, – с удовольствием рассказывал Мефодий. – Кто ж о ней тогда знал что-нибудь? Издалека приехала, ну и пусть ее. Жили себе и в ус не дули, и не подозревали, что есть на свете страна, где обитают фрязины. А как начали Успенский собор возводить, да как приехал великий Фьораванти Аристотель, так весь свет об этом и прознал.
Так за разговором дошли они до оружейной лавки. Сапоги в ней, как и обещал Мефодий, были добротные, но ни одна пара не пришлась впору. Тогда оружейник сам снял мерку с ноги, обещал завтра же передать заказ сапожнику и попросил четверть цены задатка.
– У меня еще к вам дело, – негромко сказал Паоло оружейнику, стараясь, чтоб Мефодий не расслышал всех слов. – Можете ли вы изготовить мне ключ взамен поломанного. Работа тонкая, ключ сложный…
– Покажите.
Паоло аккуратно вложил в раскрытую ладонь поломанный ключ. Оружейник иронически присвистнул.
– Это кто ж его так ладил грубо?
– Мне не важно, чтоб красиво было. Главное, чтоб замок открывал. Вот здесь, где бороздочка кончается, был выступ уголком. Он обломился.
– Кто ж вам без замка ключ выкует? Это, господин, никак не возможно. И опять же надо знать, какой величины выступ был.
– А у меня оттиск есть. Правда, он еще зимой сделан, поискрошился слегка, но ключ и выступ этот проклятый знатно отпечатался, – Паоло достал твердый, как камень, ком глины и прикрыл его другой рукой, явно давая понять Мефодию, что не его это дело и не след заглядывать через плечо и совать под руки оружейника свой длинный нос.
– Ладно. Оставьте ключ и оттиск. Есть у меня на примете справный кузнец. Может, и возьмется. Через неделю наведайтесь. Задаток – полцены. Если не станет кузнец ковать ключ, задаток верну. Но если сделает заказ – денежки сполна.
Тут же ударили по рукам, Мефодий стал свидетелем сделки. Задаток, однако, был не малый, и Паоло упрекнул себя за излишнюю доверчивость и расточительность.
– Вот и обделали дельце! – весело воскликнул Мефодий.
Пришла пора расставаться, но оба как-то медлили. Паоло обдумывал, как бы поделикатнее, чтоб не обидеть свидетеля, спросить, где его найти в случае нужны.
– Я вот что хочу у вас спросить, – нашелся наконец Паоло, – вы говорили, что имеете доступ ко многим книгам. А нельзя ли мне их почитать? Разговор, разумеется, о русских книгах. Раньше я много читал и на латыни, и народном итальянском, но кириллица – это особое удовольствие. Словно клад ищешь.
– И вы хотите, чтобы я помог вам этот клад найти? – блестя глазами, спросил Мефодий.
– Я понимаю, книги вещь ценная, выносу не подлежат. Так я бы их прямо в вашем дому почитал. Меня, например, весьма интересует «Сказание о дщери Александра Македонского», а также «Повесть о взятии Царьграда турками в 1453 году».
Мефодий явно обрадовался просьбе Паоло.
– Этих книг сразу я вам обещать не могу, поскольку у меня их нет под рукой, но со временем достану. Сейчас я, между прочим, интересную книгу переписываю. Тайно! – он поднял палец.
– Что значит – тайно?
– А то, что имя заказчика назвать не могу. Славная книга. Называется «Повесть о рахманах…». О тех, что в Индиях обретаются. Ведь где только люди не живут, а! Как нас Господь-то расселил! Удивления достойно! Если хотите эту книгу посмотреть, то приглашаю вас в свою жилье. Это близко, на Кучковом поле.
Поистине в нашей жизни бывают роковые встречи, то есть самим роком предусмотренные. И ведь не отступишься от них, не уйдешь вбок, хотя в основе события лежит сущая безделица – вначале квас, а потом сапоги.
В те далекие времена град Москва состоял из укрепленного Кремля, который с таким усердием перекраивал Фьораванти, и Посада. Еще было Занеглинье, Заяузье, то есть слободы, где жил ремесленный люд. Кремль в плане представлял собой треугольник и окружался с одной стороны Москва-рекой, с другой – речкой Неглинкой с заболоченными берегами, а с востока, со стороны Фроловских (со временем Спасских) ворот, – рукотворным, наполненным водой рвом.
Вся Москва тогда, кроме нескольких храмов, была деревянной. Для строительства храмов иногда использовали кирпич, а чаще белый камень из Мячиковских каменоломен, которые находились при впадении реки Пахры в Москва-реку.
Герои наши опять вернулись к иконному ряду и пошли по Сретенке. Пусть не удивляет вас это название. В XV веке улица, которая называлась Никольской, находилась внутри Кремля. Она шла, петляя, от Ивановской площади, мимо Чудова монастыря, пересекала Чудовский переулок – Крестец, потом ныряла в арку Никольских ворот и становилась Сретенкой. Со временем стены Китая и Белого города разрубили ее на три части, из которых одна стала называться Никольской, другая Лубянкой, а третья собственно Сретенкой.
За иконным рядом стояла о левую руку церковь Николы Старого, что у Большого креста, по правую руку за ветошным рядом прятались в листве вязов купола Благовещенского монастыря, основанного самим великим князем Данилой Александровичем. Все эти места были населены плотно, кругом высились заборы, лавки, дома обывателей. Потом строения вдруг расступились, высвободив место для лужайки, и не одной, нескольких. Лужайки были оторочены зарослями пижмы, бодяка и прочего бурьяна, в центре осталась кой-где низкорослая травка, но больше было голой, пустой, выбитой многочисленными пятками земли. Рядом примостилась малая церквушка Троицкая, «что в полях». На этих лужайках по обычаю происходили судебные поединки.
По дороге Мефодий трещал без умолку. Иноземец оказался прост, не заносчив, даже просьбы к нему, Мефодию, имеет, так что можно распустить хвост и выказывать себя человеком бывалым. Они говорили о зиме и лете, о снегах и жаре, о книгах, о веселой и затейливой московской жизни, о ее порядках и строениях.
– Что-то мы идем-идем, а конца не видно, – перебил говорливого собеседника Паоло.
– Скоро уж. Вот оно – Кучково поле. Что про него знаешь? А ведь тут интересно-то как! Вот говорят – Кремль, сердце Москвы… центр, стало быть. А сердце Москвы как раз в Кучкове, потому как по преданию здесь жил прежний владетель Москвы боярин Кучка с сыновьями и дочерью красавицей Улитой.
– У тебя что не девица, то красавица! – рассмеялся Паоло. – Охочь ты до женского полу.
– А ты, как посмотрю, тоже к этой теме не без интереса. Читать-то хочешь не про самого Александра Македонского, а про его дочь.
– Так я Александрию уже три раза прочитал.
– Все мы дочками больше, чем отцами, интересуемся. Для ликования человеков Господь создал юных дев. И правильно.
– А первородный грех?
– Все мы греховны, – рассудительно сказал Мефодий. – Человек без грехов не проживет. Но уж лучше на ниве любострастия грехи, ровно блох, собирать, чем в ином паскудном месте.
– Если Кучково поле, то почему Сретенка? Откуда это название?
– А в честь того, что здесь икона Русь от Тамерлана спасла.
Смешной он – флорентиец Паоло, такой образованный благочестивый отрок, прибыл к нам, считай, что из земного рая, а не знает, кто такие Батый и Тамерлан. Не знаешь, так слушай.
В 1395 году пошла на Русь, как триста лет назад, большая азиатская рать. И имя ей было – Тамерлан. Великий князь Василий Дмитриевич, сын славного князя Донского, вышел с воинством навстречу врагу, а Москва замерла в ужасе и плаче. Но надоумила матушка великого князя и митрополит Киприан принести в Москву из Владимира вечную заступницу Руси – чудотворную икону Пресвятой Владимирской Богородицы. Привезли. И вся великокняжеская семья вместе с митрополитом и многими обывателями вышли сюда на Кучково поле ту икону встречать. А дальше – чудо! В тот самый миг, как прибыла чудотворная икона в Москву, злой вор Тамерлан приказал снимать шатры. Две недели стоял, размышляя, идти на Москву или нет. И тут разом и поворотил свое воинство на юг.
Возвратясь в Москву, великий князь Василий Дмитриевич поставил на Кучковом поле каменную церковь в честь Владимирской Богоматери, а при ней монастырь, который стал называться Сретенским. Ну вот мы и пришли.
Они обошли кипу старых вязов, и перед глазами Паоло предстали бревенчатые стены монастыря. Мефодий толкнул незапертую калитку в воротах.
– Так ты в монастыре живешь? – удивился Паоло.
– Именно.
– А кто же ты?
– Смиренные иноки мы… – Мефодий скорчил непотребную рожу и захохотал.
– Ну и ну…
На монастырском подворье было тихо и пусто. Над зеленой травой и лютиками порхали бабочки, в тени благородного дуба паслись стреноженные кони, одинокий инок с монашеском платье возился у колодца, доставая упавшую в него бадью. Он оглянулся на Мефодия, перекрестился.
– Опять отрок опоздал к трапезе. Уже будет тебе на орехи.
– А я орехов с собой принес, – огрызнулся Мефодий, увлекая Паоло к ладно срубленной монастырской общежитской храмине, кельи в ней, что соты. – А то на нашей трапезе объешься чрез меры. Червяка заморить мы и сами сумеем.
В просторных сенях было темно, Мефодий уверенно прошел вдоль стены, толкнул низкую дверь.
– Вот и моя келья. Пониже наклонись, чтоб войти. Да сотвори молитву Богородице. Располагайся, флорентиец Паоло.
– Я не флорентиец. Я русский.
Голая лавка у стены, у окна стол, на нем письменные принадлежности и закрытые платком книги.
– Славная у тебя келейка. И главное, что отдельная.
– Это она только летом отдельная. Зимой-то мы все вместе в трапезной живем. Общежитие наше в четырнадцать человек. Но каждому печку не натопишь. А зимой здесь такая холодрыга! Оконца чуть не с верхом снегом засыпает, а мы и не препятствуем. Зимой человек внутренним светом должен согреваться, а не внешним.
– А как же ты книги в трапезной переписываешь?
– Столик ставлю подле печки. Братия не обижается. При фитильке на конопляном маслице славно пишется. Глаза, правда, устают. А бывает, и тоска нападет. Задумаешься о жизни, начнешь по трапезной бродить, а глаз только стену бревенчатую осязает, мир от взора скрыт.
Мефодий встряхнулся, передернулся, словно почувствовал зимний холод, засмеялся и грохнул на столешницу узел. На пол посыпались головки чеснока и орехи, каравай хлеба он поймал на лету. Еще в узле были рыба вяленая, обсыпанные маком баранки и оловянная фляга с брагой.
– Если ты инок, – решился спросить Паоло, – то почему ходишь в таком платье?
– И ты туда же! С нравоучениями… В шубейке жарко уже, а без кафтана холодно, особенно по утрам. А другой одежды у меня нет, прости, Господи. А кафтан этот немецкий я у одного литвина на торгу купил. Пощупай, какой материал хороший! А купил, считай, за бесценок. Так что я покупкой сей весьма доволен.
– А разве вам позволено такую одежду носить?
– Может, и не позволено. А кто с нас спрашивает-то? В храм я в таком платье не пойду, а по нужде в город и так можно.
– Удивительный ты человек!
– Что ж во мне удивительного? Это ты во Флоренциях живал. Сейчас я тебя спрашивать буду, а ты за едой мне все и расскажешь. Не все, конечно, но хоть кой-чего. Я до знаний очень любопытный.
– А зачем тебе краски? На торгу давеча ты их все перенюхал. Ты в книгах рисунки делаешь, да?
– Случается, хоть я в этом и не мастак. Чтоб новое нарисовать, а тем паче лики, – это у меня негоже выходит. Но зато зовут иногда на митрополичий двор, там древние иконы подновляют. Тогда перо в сторону отставляю, в руки беру кисть.
– Как ты в монастырь-то попал? Родители твои живы?
– А как же! Здравствуют. Это далече отсюда. Отец у меня человек строгих правил, приспосабливал меня к гончарному мастерству. А у меня руки для работы не приспособлены. У меня для работы приспособлена голова. Но родителю до тайных движений души моей дела нет. Я говорю ему – для тебя горшок – истина, а торжище – предмет вожделений, а я птица, я создан для ликования и радости, поскольку перед глазами моими сонм видений и ангелов с дивными крыльями. Бил он меня страшно. Словом, сбежал я в Москву, попал в монастырь Христа ради, тут меня и грамоте обучили. Ты рыбу-то о край стола побей, она тогда мягче и жирок проступает.
17
Мефодий только пришел на митрополичий двор, дабы сдать переписанную рукопись, и ему тут же и сказали, дескать, искал тебя отрок лет осьмнадцати, из себя пригожий, говорил по-русски, но не совсем чисто. Слова вроде правильно произносил, а мотив речи всё ж другой, иноземный.
– Так то Паоло, – обрадовался Мефодий. – Что он просил передать?
– А ничего не просил. Так только, интересовался…
Мефодию очень хотелось повидать еще раз флорентийца, хоть он его и робел. Последнее было не в обычаях инока, да и моложе его был Паоло, считай, лет на пять, но слава о мастерстве и деловитости итальянцев была в Москве столь велика, что малая часть ее досталась и мальчишке-флорентийцу. Однако Мефодий не представлял, где его можно было найти. Оставалось только положиться на случай, и судьба не замедлила откликнуться на его ожидание.
Паоло сам явился в его келью. Дело было к ночи, Мефодий уже запалил светильник, но даже в этом призрачном свете виден был румянец на щеках гостя – ланиты так и пылали, то ли от быстрого бега, то ли от смущения, и могли по яркости соперничать с цветом его сапог, которые оружейник, вопреки просьбе заказчика, изготовил без всякого «притемнения».
– Как хорошо, что ты на месте, Мефодий!
– А где же нам, смиренным инокам, быть?
– Я сюда третий раз наведываюсь, а монахи говорят, де, Мефодий наш ровно ветер или дух святой, веет где хочет.
– Вот охальники, языки чешут! Мне-то они ничего такого не передавали.
– У меня к тебе дело, инок.
– Понятно, за безделицей бы не пришел. Книг алчешь?
– Не согласишься ли ты переписать для меня некий труд? И главное, чтоб быстро, очень быстро.
– Неважно, чтоб красиво, главное, чтоб открывало, – усмехнулся Мефодий, вспоминая поломанный ключ.