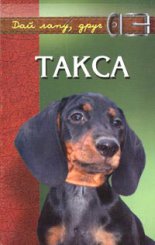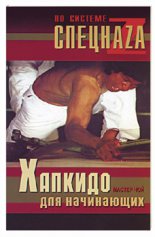Венец всевластия Соротокина Нина
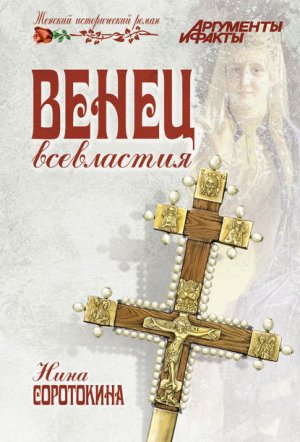
Ехать на Автозаводскую на такси было глупо. Такси сейчас заказывают по телефону, да и дорого это. Надо ловить «левака». Но с «леваком» надо разговаривать, а у Кима на это не было сил. Выйдя на улицу и глотнув воздуха, он с облегчением почувствовал, что ноги отравлены куда меньше, чем мозг и желудок. Ноги двигались вполне прилично и благополучно доставили его к метро.
Когда Любочка везла Кима кодироваться, она успела сообщить по дороге массу полезных сведений.
– Врач очень симпатичный. Излечимость у его пациентов девяносто девять процентов. Ты только не бойся, – повторяла она через фразу.
– А чего мне бояться?
– Ну, хотя бы того, что попадешь в один процент неизлечимых.
– Этого я не боюсь. Я на это надеюсь. Он меня не вылечит, но вы с матерью отстанете от меня на веки вечные.
– Все балагуришь, а у самого поджилки трясутся. Тебе сделают укол. Ну, разумеется, еще психотерапия. Он тебе все сам расскажет. Алкоголизм, грубо говоря, сродни сахарному диабету. Понимаешь?
Любочка трещала, как сорока, боялась, что он в последний момент из машины выскочит на полном ходу. Честное слово, просто водопад слов, но главное Ким запомнил: «Диабетикам не хватает инсулина, и человек становится инвалидом по сахару. А у пьяниц организм не вырабатывает какие-то важные ферменты, которые участвуют в разложении алкоголя». Это бодрило. Но если черпануть со дна, то и унижало. Алкоголики – отбросы общества, а диабетики – страдальцы. По нравственным оценкам страдальцы идут по высшей категории.
– А если эти ферменты вводить искусственно, как инсулин? – заинтересовался Ким.
– Нет, нельзя. Там все гораздо сложнее. Макарыч рассказывал, что там не один фермент, а целая батарея. Понимаешь, инсулин один, а в нашем случае, кажется, еще гормоны участвуют. Диабет лечить гораздо легче. Психологически. И диабет, и алкоголизм – болезни пожизненные. Но у диабетиков хватает ума не есть сладкого. Он никогда себе не скажет: я двадцать лет не ем сладкого, значит, теперь я могу съесть торт целиком. А алкоголик всегда дурак. Он так рассуждает – я пять лет не пил и прекрасно себя чувствую. Следовательно, я могу себе позволить. И опять обвал…
– А на черта мы тащимся в поликлинику? За сто баксов врач мог бы и у себя дома укол сделать.
– Макарыч говорит, что поликлиника – это тоже психотерапия. Полезно, чтобы ты посмотрел на этих… больных.
– Братьев по отсутствующему разуму, – подытожил Ким. – Ладно. Ты только не волнуйся. А укол – что это? Вводятся сами ферменты?
– Господи, ты ничего не понял. Укол должен привить тебе отвращение к алкоголю, а психотерапия – страх.
Не привьет, подумал тогда Ким с тоской, и был, оказывается, не прав.
Если в задачу врача входило напугать Кима видом наркологической больницы, то он своего добился. Вот ужас-то! Даже в армии лучше. Дизайн поликлиники, как снаружи, так и изнутри, можно было описать двумя словами – беда и убогость. Коричневый, рваный, кое-как подлатанный линолиум, открытые двери палат, койки, заправленные серым бельем, запах чего-то… то ли рыбы, то ли лекарства. Но самое сильное впечатление произвели пациенты. Они сидели на кроватях одинаковые, как муляжи, вылепленные по одной заготовке. У всех большие, приросшие к коленям руки, непомерно длинные стопы в разношенных тапках, отчужденный взгляд и бледные словно в формалине вымоченные лица.
Сам же Иван Макарович – румяный, крепенький, стриженный ежиком и элегантный даже в белом халате – доверия у Кима не вызвал. Что он зубы скалит? Если ты каждый день ходишь по этому коридору, то должны же отразиться формалиновые лица в твоих ясных глазах? Отразиться и застрять там. Ты не можешь быть просто зеркалом, ты обязан сопереживать. Ладно. Плевать ему в конце концов на доктора. Он не для себя кодироваться пришел. Он для них пришел – для Любочки и матери. Вот пусть они этого Макарыча и любят.
Все, однако, получилось не так уж противно. Разговаривал доктор с ним вполне приемлемо. Любку выгнал, а с ним поговорил по душам. И не глуп, и не зол, и не стращал всякими ужасами. Сказал только: «Ты избавлен от алкогольной зависимости на год. Такая доза, – показал на шприц. – Если выпьешь, будет очень плохо. Можешь даже помереть». Ким тогда вполслуха слушал, вполсилы верил. И ведь напророчил! Пациент не умер, но в такой страх влип, что вообще не понимает, как дальше жить.
Ким вышел из метро, сел в сквере на лавочке. Курить не хотелось, но торопиться в юдоль страданий не хотелось тем более. Только чтоб время потянуть, он достал сигарету. Вкус какой-то горький, словно не табак курит, а прелый мох. И район этот мерзкий, сродни наркологической поликлинике, страшненький – одни заводы. ЗИЛ, Шарикоподшипник и еще какой-то с пугающим названием – то ли ГПЗ, то ли КПЗ. Макарыч говорил, что его больные все работают в этом «бермудском треугольнике». С одного завода выгнали – на другой пошел, так и бродят по кругу.
А он, Ким Паулинов, – здесь лишний. Он совсем из другого «треугольника». Он гордился своим районом, и когда у него спрашивали, где он живет, он не говорил, мол, на Остоженке, в пяти минутах от метро Кропоткинской. Он отвечал: «Я живу у Зачатьевского монастыря», – и радовался удивлению собеседника:
– Это, наверное, далеко? Что это за Зачатьевский монастырь такой?
Да это совсем рядом с Кремлем. Я живу между Петром, МИДом и храмом Христа Спасителя. Ах, не понимаете? С одной стороны я всегда вижу купол храма, а с другой, – Церетелиевского Петра. Пожарная улица – это спуск к Москве-реке. Идешь вниз, и кажется, что огромный Петр шагает по крышам, и похож он не на императора, а на трубочиста с лестницей. Люди его не любят, а по мне, так пусть стоит. Не подсуетились бы вовремя Лужков с Церетели, и не было бы никакого памятника трубочисту. Да согласен я, что Петру нельзя ставить памятник в Москве. От кого памятник-то? От благодарных стрельцов? Ха-ха-ха… Да знаю я, что это переделанный Колумб, голову только поменяли. И стоять он должен был на Гудзоне, но американцы его забраковали, не сошлись в цене. А мы сошлись…
А Зачатьевский монастырь располагается как раз напротив Петра. Что сейчас осталось? Ворота остались, надвратная церковь, ограда частично осталась и кой-какие строения. В них сейчас завелись монашки. А рядом с монастырем огромный словно из сахара-рафинада домище, построенный на деньги Вишневской. Приходите посмотреть. Между Остоженкой и Москвой-рекой угнездился живописнейший район! Советская власть на него, конечно, тоже посягнула, но полностью разрушить не успела – как-то не собралась.
Сейчас Киму казалось, что если бы он кодировался где-нибудь у себя на Остоженке, то все бы выглядело иначе – разум нее, да и толку было бы больше. Совсем, конечно, не пить он не может. Непьющий в компании – куда более нелепая болезнь, чем алкоголик. Но остановиться вовремя – вот это кайф, это дело.
К Ивану Макаровичу Ким попал не сразу. Заглянул в кабинет, а там дама в соплях. Макарыч махнул рукой, мол, подожди за дверью. А чего ждать? Сам говорил – под капельницу надо, а дама может и в коридоре поплакать. А может, эскулап нарочно его задержал – посиди, юноша, на лавочке, посмотри окрест и подумай, что тебя ждет, если не будешь слушать моих советов. Приготовим тебе место в палате и будешь в свободное от лечения время бутылки собирать. Макарыч охотно рассказывал про своих пациентов, только спрашивай. Он называл их «бывшие люди», но надо сознаться, что относился врач к этим бывшим вполне по-человечески. При этом не жалел, не выражал сочувствия, слушая пьяный бред, а тащил их за мохнатые уши на поверхность бытия.
Дама вывалилась наконец из кабинета, так и ушла, прижимая кружевной платочек к глазам. Кто ж ее так достал? Наверное, сын. От мужа уйти можно, а от пьяницы-сына никуда не деться. «Нет, – подумал Ким, – даму ему не жалко, она не понимает…» – с этой мыслью он и вошел в кабинет.
Под капельницу Макарыч его не положил, а укол сделал. Сказал строго:
– Повторишь опыт, будет скоропомощная ситуация. Будем тогда клещами тебя с того света вытаскивать. А теперь рассказывай.
И Ким рассказал. Три раза повторил, путаясь в подробностях, а Макарыч все не перебивал его, не подводил черту конечной фразой, мол, понял, ничего страшного, такое бывает. А потом задал и вовсе бессмысленный вопрос:
– А как в дом попала эта рукопись?
– Я откуда знаю? Надо у матери спросить.
– Вот и спроси.
– Матери нет, она в отъезде. Раньше, чем через два месяца, не вернется. Если вообще вернется.
Макарыч ничего уточнять не стал. Зачем уводить разговор в сторону? Он вдруг начал сам рассказывать длинную, тягучую историю про мужика, который чудовищно, неправдоподобно пил. Вначале был как все люди, работал в торговле, а потом что-то не то подписал, хорошо, что в тюрьму не сел. Начал лечиться, кое-как подлатал себя, устроился на завод.
– Шарикоподшипник?
– Неважно. Не перебивай. Стал хорошим слесарем, на станках высококлассных работал. И вдруг опять все под горку. Он попадает в ЛТП. Жена к этому времени уже полностью обалдела, сказала – все, уматывай. Хождение по мукам продолжалось пятнадцать лет. Он и сам понимал, что непригоден для семейного счастья. Выписался из квартиры, уехал в Тулу, чтоб поступить на завод с общежитием.
И так далее, так далее, понеслась хромая в щавель. У Кима скулы сводило от скуки, но ничего не поделаешь. Рассказ явно имел педагогическое значение.
– По дороге в Тулу напился. Проснулся – ни денег, ни паспорта. Стал бомжевать. Три года жил по чердакам, потом сам ко мне пришел. Послушал я его – личности нет, одни руины. И вдруг здесь, у нас, он ни с того ни с сего начал восстанавливаться. Я понимаю, лекарства и все такое, но ведь всю жизнь лечили. Видно, что-то с ним произошло. Сейчас он не пьет, не курит, стал старостой в палате. И талант в нем проснулся. У него сейчас в тумбочке печати от двух малых предприятий.
– А где он живет-то?
– Как где? У нас. Уже третий год.
– Сколько же вы можете по закону держать ваших больных?
– По закону – сорок пять дней, а по-человечески – пока на ноги не встанет. Мы им срок продлеваем, как бюллетень. Сегодня закрыли, через три дня опять открыли. Этот человек сейчас великолепно одет, зарабатывает деньги на квартиру, женщина у него есть. Но жить к ней не идет. Говорит, я сам должен ее в свой дом привести. Очень хорошее влияние оказывает на всех наших больных. Они видят, что можно излечиться, можно!
Закончил Макарыч свой рассказ словами:
– Ты понял, о чем я?
– Нет.
– Этот пациент, не буду называть его фамилию, говорит, что от пьянства его спасла постоянная работа. Ты не захочешь пить, если будешь очень занят. Почему-то судьба послала тебе странную галлюцинацию и при ней странную рукопись. Если рукопись не бред и вполне реальная, то начинай ее читать. Может, она тебя и просветлит.
– Какие-то драные листки, маслом подсолнечным политые.
– Но зачем-то твоя мать сохранила их. Узнай, кто это написал, зачем и почему они лежат в твоем доме. И каждую неделю мне звони. Понял. А теперь иди…
2
Паоло нужен был гороскоп буквально позарез. И не потому, что его интересовал год собственной смерти. Он не уповал на помощь звезд в достижении верхней перекладины служебной лестницы, не надеялся с подсказкой математических таблиц избежать болезней. Все гораздо проще. Ему было восемнадцать лет, и он был влюблен.
Ксению Стромилову, дочь думного дьяка, он увидел в церкви Иоанна Предтечи, куда пришел в свите царицы на торжественный молебен в честь Николы-зимнего. В те поры знатным девицам не то чтобы возбранялось посещать храмы, но не принято было стоять со всеми молебен, не в обычае. Князь да бояре прятали будущих невест от мира, и отроковицы молились в домовых церквях. Но гречанка Софья не имела природной стыдливости, не привили ее и воспитанием, потому она ввела новые обычаи при дворе, и дьяку Стромилову, своей правой руке, крепко наказала привести дочь на важный молебен. Мол, посмотреть ее хочу. Пусть приобщится дева к жизни двора, пусть поосмотрится, а лицо можно и «воздухом» прикрыть – тончайшей, прозрачной ширинкой.
В первые же молебные пятнадцать минут Паоло узнал – и кто такая, и как зовут. Ксения стояла подле отца в боковом приделе. Народу в храме было много, а возле этой пары – голое пространство словно полянка в лесу. Дьяк Стромилов, известный модник, был разодет празднично: на шубе пуговицы величиной с яйцо, сапоги турецкого сафьяна, в ухе серьга с ормуздским жемчугом, а дочка рядом неяркая, аккуратненькая, как свечка. Но это только на первый взгляд – неприметная, а вторым взглядом, когда все объемлешь, увидишь, что дева вся утонченная, шелком шитая.
Паоло слушал молебен вполуха, рука сама крестилась, но ноги перемещались поближе к левому приделу. Известное дело, когда молятся, мало обращают внимания на стоящих рядом. И первое время Паоло продирался сквозь скоп людской безнаказанно, но потом наступил кому-то на ногу, и этот кто-то пребольно огрел его кулаком меж лопаток. Юноша вмиг успокоился и замер, вытянув шею, со стороны – чистый гусь.
С нового места Ксения была лучше видна. Под прозрачным покрывалом угадывался нежный изгиб шеи и головка такой формы, словно над ней трудился самый талантливый флорентийский скульптор. Рука с узкой ладонью была открыта взору. Ему очень нравилось смотреть, как рука ее взлетала вверх и, не желая соизмерять и экономить движение, поднималась выше лба, а потом важно и значительно персты прикладывались ко лбу и плечам, опушенным собольим воротником.
Заглянуть в лицо Ксении ему удалось только на выходе. После службы люди торопились покинуть храм и каждый работал локтями, как мог. Потом в дверях произошла заминка. Надобно было пропустить царицу, дочерей ее и свиту. Паоло решил поотстать, ожидая дьяка Стромилова, но толпа несла его как бурный поток. Юноша вцепился в резной косяк двери, на него закричали, потом оттолкнули и прижали к стене так, что дыхание сперло. Паоло выждал момент и ответил обидчику нарочито громко, а затем вскрикнул словно раненый. Ксения мгновенно оглянулась, отвела покрывало с лица, и Паоло встретился с устремленными на него прекрасными, влажными, лучистыми, доверчивыми и сочувствующими глазами.
Это и решило дело. Паоло готов был совесть заложить, руку отдать на отрубление, что она запомнила лицо его и крик. Ах ты, Господи… ясноликая красавица, красная краса, русая коса, тридцати братьев сестра, сорока бабушек внучка, трех матерей дочка – ясочка, Артемида прекрасная!
А дальше что? Куда итальянцу безродному думать о дочери дьяка, приближенного к царице? Но думал… Паоло был готов к любви, нужен был только предмет. Мысли и любовные томления его так и распирали, необходимо было выпеснуть на кого-то весь поток эмоций. Он выплеснул на Мефодия, ожидая понимания и совета. Ему казалось, что страстные слова его будоражат вселенную, обжигают, как брызги жира на горячей сковороде, и одновременно размягчают сердце. Но инок расхохотался и дал совершенно неожиданный совет:
– Забудь.
– Как же я могу забыть? Горлица нежная… Я сейчас опять все так живо представил… ее взгляд… под ним замираешь!
– Бестолков, но памятлив, – продолжал насмешничать Мефодий. – Это девица не для нашего брата. Ты опомниться не успеешь, как ее обвенчают. И не с тобой. А если тебе так нужны взгляды, чтоб под ними замирать, так их полна Москва. Купеческие дочки тоже в теремах живут, но лица не прячут, щеки у них яркие, смех озорной. И дорожка у меня не в один сад протоптана. А летом там яблоки, вишенье всякое.
Паоло с негодованием отверг предложение приятеля. Мефодий обеими ногами стоял на земле, а Паоло жаждал отношений высоких, рыцарских. Ему нужна была дама для воздыхания, для трепетной молитвы, дама, недоступная, как мечта. Он готов был всю жизнь мостить к ней дорогу. Когда пишешь канцону, не думаешь о деньгах, которые можешь за нее получить, а думаешь о горнем и о качестве слога. Для пилигрима, а таковым он считал себя в душе, смысл жизни не в конечном пункте, а в самой дороге.
Но чтобы поддержать костер в душе, надо хоть изредка, хоть издали видеть предмет. А на долю Паоло выпало только ловить обрывки разговоров с именем Стромилова или задавать с невинным видом вопросы, не надеясь получить на них ответ. У него хватало ума не спрашивать напрямую о Ксении, но о самом дьяке, который сейчас ведает дворцовым приказом, можно и поспрошать. Неоценимые сведения получил он не в окружении Софьи, там у всех был рот на замке, а в ватаге молодого князя, когда шлялись они по узким кремлевским улочкам или охотились, или ходили в поле для молодеческих кулачных боев.
Паоло узнал, что Стромилов – человек дельный, хитрый и благочестивый, что в прошлом году умерла у него жена, которая долго хворала, а как минет год, дьяк непременно подыщет мачеху красавице дочери. Ксения – единственное его дитя, а поскольку он жаждет продолжения рода, то для рождения сына подыщет жену здоровую, богатую и знатную.
– Что удивляешься? Дьяку Стромилову все по плечу. И не смотри, что виски снегом запорошило, он еще первостатейный петух. Государь Стромилова весьма уважает и десять лет назад поручил вести ему бумаги и отчетность при самом Антоне Фрязине, потом он и с Марко Руфом работал. Стромилов строил Тайницкую башню, что стоит теперь на месте старых Чизовских ворот.
Рассказчик, а им был княжич Шевья-Стравин, посмотрел на Паоло многозначительно.
– А это большая честь?
– Это большая тайна. Недаром башня прозывается Тайницкой. Из нее можно выйти на кремлевские стены. Но не в этом дело. Из всех башен можно выйти на стены, иные еще имеют выход в слухи и застенки. А Тайницкая башня – особая, – княжич перешел на шепот, – в ней есть колодец и тайный ход.
– Я слышал про этот ход. В случае нападения татар или другого врага через этот ход можно делать вылазки в посад. Опять же за водой…
– Я не про другой ход говорю. Про тот, что под Москвой-рекой идет. Представляешь, переходишь Москву-реку насухо и попадаешь в слободы… или в сады царские. Говорят, что этот ход тянется на несколько верст.
– Не может быть!
– Я в это тоже не верю, – с готовностью согласился княжич Стравин. – А в то, что есть подземный ход через Неглиную на Остожье, – верю. Неглинка куда как уже, чем Москва-река. И еще говорят люди, что под Кремлем есть много старых подземных рукотворных ходов. Может, при Калите продолбили, а может, при великом князе Дмитрии Донском. Кремль-то из белого камня строили. А где белый камень? Да вот тут, под нами, – он потопал ногами. – Чтоб далеко не ездить, тут же штольни и вырабатывали. Это мне еще дед покойный говорил.
Паоло мало интересовали подземные ходы, по ним к дому Стромилова не проберешься. Он осторожно перевел разговор на дьяка, а с него как бы ненароком на Ксению.
– Девка справная, только, говорят, зело пресная. Благочестивая, как просфора! Очень любит ездить в Алексеевский монастырь наведываться в Зачатьевский храм. Иные говорят, что она к постригу себя готовит.
– Да не может быть! – опять воскликнул Паоло. Он давно поставил себе за правило удивляться больше меры, этим он ловко подталкивал собеседника к продолжению разговора.
– Очень даже может. Она жаждет жизни постной и высокомудрой, понеже обучена не токмо читать, но и писать.
Последние сведения пришлись Паоло по нраву. Грамотность была большой редкостью среди русских дев. А здесь он, можно сказать, воспрял духом. Теперь канцона имела не просто безымянного адресата, но конкретного читателя. Знать бы только, как передать стихи.
Так прошла зима и звонкая весна. А он все вздыхал, любовь не ослабевала. И тут судьба как бы начерно торопливо улыбнулась флорентийцу. Царица послала Паоло в стромиловский дом, чтоб упредить дьяка, что полученные из Хамов-ной слободы скатерти и полотенца сделаны отменно, но на пядь длиннее, чем нужно. Эти пусть останутся, переделывать не будем, но Софья Фоминишна хочет получить набор нужного размера, а потому вдругорядь заказывает и полотенца, и скатерти. В те времена не было обычая посылать записки. Если дело государственной важности, то грамоты писались по всем правилам, а на безделицы кто же позволит, хоть и царице, переводить дорогую немецкую бумагу? Софья повторила приказ два раза – один по-итальянски, другой по-русски, а потом вдруг усомнилась в умственных способностях Паоло.
– Все ведь перепутаешь. Скажи лучше дьяку, чтоб сам пришел.
Паоло полетел на крыльях. Дом Стромилова состоял из великого множества высоких изб на подклетях, соединенных между собой переходами и украшенных крыльцами и башенками. На улицу торцом выходила вделанная в забор повалуша с голубями, сразу за воротами росли деревья кленовые, справа виднелись конюшни и амбары. Хорошо бы еще сообразить, где находится женская половина. Но где бы она ни находилась, окна ее наверняка выходят во двор или в сад.
Старый слуга окинул Паоло насмешливым взглядом и, явно презирая за молодость, осведомился: по какому поводу, от кого, к кому, но, услышав имя государыни, присмирел и торопливо повел гонца к хозяину. Паоло следовал за ним, озираясь и старательно запоминая дорогу. К сожалению, дорога эта была коротка.
Стромилов внимательно выслушал Паоло и вместе с ним пошел во дворец. Когда выходили из дому, в сенях столкнулись с рыжей девкой, несущей в одной руке прялку, а в другой ведро. Несовместимость реквизита явно намекала на то, что девка выскочила не с делом, а из чистого любопытства, схватив первое, что подвернулось под руку. Она замерла с открытым ртом, поедая глазами Паоло, но Стромилов крикнул: «Брысь!», и она немедленно исчезла.
Дал Бог случай, да не помог им воспользоваться. В самом ее дому был и не увидел обожаемой. Ах, эти русские обычаи! Во Флоренции на этот счет все куда проще. Дочь хозяина вполне может присутствовать на общей трапезе. Правда, он говорит о дочерях художников, жестянщиков, врачей и юристов. Наверное, если бы ему приглянулась дева из графского рода, у него и во Флоренции были трудности. Но, главное, не терять надежды. Прошла неделя, и царица опять направила его с поручением. На этот раз дело касалось челобитной некой кляузной вдовы. Царица хотела знать подробности этого дела и просила дьяка прийти к вечеру.
Далее посылки в Стромиловский дом пошли косяком. Недели не проходило, чтобы Паоло не спешил к дьяку с поручениями. Слуга уже не задавал никаких вопросов и тут же вел гонца к хозяину. Иные поручения выглядели совсем нелепо. Царица, явно забыв, что обвинила Паоло в скудоумии, заставляла запоминать ее поручение слово в слово и далеко не всегда призывала дьяка за объяснениями. «Передай Стромилову, что шандалы медные стоячие хороши, а железные стенные – грубые и плохой работы» или «Скажи на словах, что нужна чарка серебряная, да Кутафья при ней». Что за бред? Башню, что ли, привести? Но, с другой стороны, Кутафья башня только прозвище, а в обиходе кутафьей называют толстую, нерасторопную бабу. И вообще может быть, что все эти слова – шифр, и за странными фразами кроется совсем другой смысл. Тем более что Стромилов с серьезным лицом сказал:
– Передай, мол, завтра.
– Что завтра? Башня, что ли, придет?
– Не твоего ума дела, не умничай. Одно слово – завтра.
Да плевать он хотел на их тайны, достойному не к лицу пустое любопытство. На выходе из дома он опять столкнулся с знакомой уже рыжей девкой. На этот раз она несла в руках охапку укропа. Воду, снедь, овощи и траву носили в дом через черный ход, и Паоло предположил, что девка выбрала красные двери из желания встретиться с ним.
– Ты Ксении служишь?
– Нет, – девка засмеялась, показав великолепные зубы. – Кухонная я…
На улице Паоло задержался, окинул взглядом женскую половину. Показалось ли ему, или узкое смотровое окошко, закрытое внутренней ставенькой, вдруг ожило. Ставенька приоткрылась вначале в щелку, потом пошире… Он готов поклясться, отдать голову на отрубление, что там мелькнул, а потом исчез чей-то глаз. Паоло приосанился, оперся с видом безразличия на стойку, к которой привязывают лошадей. Стоял, словно ждал кого-то, и изредка косился в сторону женской половины. Ставенька так и не захлопнулась.
После этой неожиданной встречи… Вам кажется странным назвать быстрый перегляд свиданием? Не свидание это было, а сведение двух душ. Это был невидимый и безмолвный приказ: ты видишь, я в тереме живу и не могу выйти к тебе навстречу. Так придумай сам что-нибудь!
Вечером в своей каморе Паоло перечитал изящную канцону. От долгого пребывания в потайном кармане сложенный вчетверо листок поизносился, обмахрился на сгибах. Да и стихи как-то разом потеряли изначальный смысл. Он прочитал раз, другой, вслушиваясь в собственную речь, пробуя ее на вкус, затем оторвал от листка четвертушку и задумался. Канцона его рассыпалась на слова, потом на буквы. Он собрал кириллицу в горсть и написал короткую фразу: «Я люблю тебя».
3
Теперь только ждать, когда опять появится у царицы надобность в Стромилове. А у деспины Софии вдруг словно изменился характер. Она, кажется, забыла, что есть на свете означенный дьяк, без которого она раньше прямо-таки жить не могла.
Паоло уже овладела безумная мысль. Она сам пойдет в стромиловский дом. Во время частых посещений он хорошо изучил его топографию. Он знает, где живет хозяин, где челядь размещается, где баня и конюшни. Он изучил до половицы не только красное крыльцо, но приметил в сенях дверь о двух полотнах в домашнюю божницу. Черный ход в доме до ночи не закрывается. Значит, он должен будет пробраться сюда в сумерки. Собаки его знают. Он уже приметил часть забора, которая опускается в низинку, там рядом растет очень сподручное дерево.
Что с ним будет, если его поймают ночью на стромиловском дворе, он старался не думать. В мыслях он тешил себя только последней сценой. Он уже отсидел всю ночь в домашней божнице. И вот Ксения входит туда… одна. Или с мамками-няньками… Но их он не будет бояться. Ксению они любят, как не любить эту голубицу чистую, а значит, не захотят осрамить ее криками и воплями. Да и что ему надо-то? Только заглянуть еще раз в любимые глаза, только чтоб перекочевала из его дрожащих пальцев, прижавшись к нежной девичей ладони, свернутая в жгутик записочка с заветными словами. Он передаст и уйдет в тень, уйдет, как привидение. А на свободу его кто-нибудь выведет через сад. И так все хорошо придумалось, что он уже и день, вернее, ночь назначил, когда предпримет опасный вояж. Назначил категорически, но вдруг и отодвинул срок. Он боялся сознаться себе, что просто трусит. Мечты мечтами, но ведь надо понимать правду жизни. Он ведь не Геркулес. В наше время геркулесов вообще не бывает. Вот если бы он вовремя тренировал мышцы! Про великого Альберти, архитектора и ученого человека, рассказывали, что он занимался всеми видами физических упражнений. Горожане шутили, что он может подкинуть яблоко выше флорентийского собора. А куда докинет яблоко Паоло? Да он им в воробья не попадет. Если слуги стромиловские его поймают, то просто переломят дрокольем пополам, как гнилой сук.
Дело решил случай. Недаром говорят, что святой Валентин присматривает за влюбленными: если видит, что чувство истинное, беспохотливое, то и перекинет мост. На торгу Паоло вдруг повстречал рыжую девку из Стромиловского дома. Увидев Паоло, она встала как вкопанная.
– Ты меня помнишь?
– Пожалуй.
– Как звать тебя?
– Арина.
– Исполни мою просьбу.
– …?
– Снеси боярышне Ксении грамотку.
– Нет.
– Почему?
– Узнают – прибьют.
– Так она маленькая – писулька-то, – Паоло раскрыл ладонь, показывая туго свернутый листок. – За щекой можно пронести, – и улыбнулся, показывая, что шутит, а то ведь и впрямь, дурища, сунет письмо в рот.
– А грех?
– Я отмолю. И еще заплачу. Что хочешь? Бусы, сережки, изюма в меду. Так снесешь?
– Нет.
Паоло стал уговаривать еще настойчивее. Девка сама не знает, почему упирается. И ведь не глупа, все с полуслова понимает. Но, как говорится, меж бабьим «да» и «нет» иголки не проденешь. Уговорил-таки. Правда, при этом он совсем не был уверен, что Арина передаст записочку по назначению. Иногда она нарочито делала такое глупое лицо и так насмешливо косила глазом, что Паоло казалось, что девка его просто дурит.
Он ошибался. Девичья хитрость здесь роли не играла. Просто обладательница рыжей косы и дерзких глаз сама воздыхала по красивому посыльному и мечтала получить вознаграждение не за сомнительное поручение, а за любовные утехи. На торгу Арина поняла, что этот ломоть уже отрезанный. Терять ей было нечего, и она потребовала за услугу сполна. Записочку Ксении передала в тот же день, а уже вечером по настоятельной просьбе молодой хозяйки ее перевели из кухни на женскую половину, и вскоре она стала наперсницей прекрасной тюремной затворницы.
Свидание с Ксенией произошло только осенью. Глагол какой-то корявый, будничный – произошло. Это свидание так долго готовилась, столько всего с Ариной было переговорено – и все урывками, на надрыве, что говорить о случившемся следует высоким, значительным слогом, как о государственном перевороте или землетрясении. Арина хорошо почистила тощий кошелек Паоло, но записочки носила исправно. Ответ о Ксении он получал на словах. Встреча с Паоло перевернула тихий мир девушки с ног на голову, а сам флорентиец находился в такой любовной тряске, что если мы позволили преувеличение, то незначительное.
В середине сентября наметилась поездка дьяка Стромилова в Вологду. Он ехал туда по казенным делам и должен был отсутствовать неделю. На этот срок и было назначено великое событие.
Для начала Паоло, как и было в мечте, предложил для встречи домашнюю божницу, но Арина категорически отвергла эту идею. Тайное свидание в ночи есть грех, а уж если боярышне вздумалось греховодничать, а ей, Аринке, в этом пособлять, то делать это надо отнюдь не в святом месте.
Ну что ж, резонно. Осмелев, Паоло предложил, чтобы служанка провела его на женскую половину: в какой-нибудь сенник или камору. Если вдруг случится переполох, девица без затруднения вернется в свою спаленку. Что будет делать он сам во время облавы и общего смятения, Паоло не думал. Вывернется как-нибудь.
Этот план Арине тоже не понравился. Женская половина дома – заповедное место. Если хочешь погреться, то не надо совать голову в костер. И лучше нам, барич, самим ничего не придумывать. Боярышня Ксения, хоть и скромница великая, умом остра и рассуждать умеет лучше, чем мы с вами, барич, вместе взятые. Она сама все и придумает.
Предложенный Ксенией план был до чрезвычайности прост. Свидание должно было состояться в двенадцать часов ночи в саду, там, где лавочка. Кусты сирени и шиповника оборонят их от посторонних взглядов, но позволят увидеть условный знак – зажженную в малой оконнице свечу.
Но это все только на первый взгляд выглядело просто. На самом деле Ксении пришлось перебрать множество вариантов и продумать подробности. Привести Паоло в дом, а тем более уйти от него подальше, Ксении помешала стыдливость. Можно, скажем, назначить свидание рядом со стряпущей, но повариха намедни сытила мед и никуда теперь из избы не выйдет, а вероятнее всего, пользуясь отсутствием хозяина, позовет конюха, и они в полной темноте будут снимать пробу с пьяного напитка. Можно встретиться у сенницы, там сеном пахнет, но на сене могут спать дворовые, хоть это им строжайше запрещено. Около мыленки красиво и липы рыжие стоят, но там тоже нельзя, потому что сука Верная ощенилась, перетаскала щенят в бурьян и теперь лает от каждого шороха. У амбара некрасиво и голо, скотный двор и конюшня были исключены сразу ввиду зловония, голубятня тоже не подходила – там сторожка рядом. Где же тогда? В саду у любимых качалей на лавочке, хоть на первый взгляд это место кажется совершенно неприемлемым и опасным.
Время свидания тоже было тщательно продумано. До полуночи нельзя было выйти из дому – нянька Фрося мучилась болями в пояснице и засыпала необычайно трудно, в час ночи Василиса Ивановна, воспитательница и мамка Ксении, ходила по нужде, а потом осматривала все женские покои, в два часа ночи сторож обходил весь двор, сад и службы. Так что романтическое время двенадцать было подсказано самой судьбой. После свидания Арина должна была вывести Паоло за первую ограду к летней баньке на берегу Яузы. Там он мог встретить рассвет, а после, когда отопрут городские ворота, безбоязненно добраться до своих хором.
План был соблюден точно. Арина привела хозяйку к ожидавшему ее Паоло и исчезла в ночи. Ксения стояла рядом молча и неподвижно, и опять в голове Паоло возник образ одинокой церковной свечки. Он тоже молчал и только теребил пуговицы на кафтане, словно боялся, что сердце выпрыгнет из груди, разорвав застежки. Ксения первой подала голос:
– Вот… пришла, – и сделала крохотный шажок к нему навстречу.
Он обнял ее нерешительно и сразу стал шептать первое, что приходило в голову:
– Лепесток мой, розочка, заря, росинка, мотылек ласковый, плод граната, в котором зерна сияют, как рубины, кожа твоя – бархат, шелк нежнейший, – русские слова иссякли вдруг, и он перешел на итальянский, – ты – лилия долин, и порока нет в тебе.
Лица ее не было видно, но он знал, что оно прекрасно. Ксения ему тоже что-то отвечала, то горячо, то тихо и нежно, она не сопротивлялась его поцелуям, а потом вдруг откидывалась назад, вглядывалась в его лицо и шептала:
– Как ты прекрасен, королевич мой…
От этих слов Паоло буквально шалел, внутри зажигался факел, язык отказывался повиноваться. Потом, лежа на своей постели, он будет вспоминать звук ее голоса и осмысливать сказанное. У Ксении хватило ума и такта не говорить, что любовь их бессмысленна, тупикова, что никогда не встанут они вместе под венец. Она только робко сожалела, что сама не родилась во фряжеской стране, где они непременно были бы счастливы и прошли бы рядом длинную, раю подобную жизнь.
Паоло был более опрометчив. Он даже произнес слово «побег» и воскликнул в упоении: «Я украду тебя!» Ксения никак не отреагировала на эти слова.
– Когда мы еще увидимся?
– Бог даст и увидимся. Обязательно.
Вся душа Паоло умещалась в ее прекрасных глазах, и он был уверен, что и Ксения растворилась в нем. Ан нет, оказывается, она украдкой не забывала посматривать в сторону черной громады дома. Неожиданно она легко оттолкнула от себя Паоло и пошептала в ухо:
– Все. Мне пора, – дыхание ее было теплым и душистым.
– Как – пора? – он повернул голову, в просвете между яблоневых веток (и это учли!) слабо сияла розовым узкая оконница.
Ксения дотронулась губами его щеки, выскользнула змейкой из рук и исчезла. И тут же на месте Ксении возникла Арина, схватила его за руку и, высоко подхватив юбку, побежала через сад.
Отягощенные яблоками ветки били по лицу, сука Верная коротко взлаяла и бросилась под ноги, норовя укусить за пятку, в темноте Паоло не увидел ручей и замочил сапоги. Вот и все неудобства этой ночи.
А во всем прочем… Он вспомнил, как ходил вместе с синьором в домовую капеллу во дворце Медичи. Дивная фреска работы Гоццоли украшала стены капеллы. В одном из нарисованных пажей, что сопровождали нарисованного герцога, синьор вдруг узнал Паоло. Святая Мадонна, как похож! Сейчас, после встречи с возлюбленной, Паоло ощущал себя не мальчишкой из свиты, а самим Лоренцо Великолепным. Он ехал на прекрасном сером жеребце, на голове его сияла драгоценными камнями шляпа, роскошный желтый камзол сиял, как солнце, а вела его к счастью сама восьмиконечная Вифлеемская звезда.
4
Школьный товарищ Кима – Никита Шлепиков, в просторечии Никитон Рыжий, что было удивительно при его темно-каштановых лохмах, был славным малым с живыми, любопытствующими глазами, глянцевым клювообразным носом и торчащими вразнотык белыми, без изъяна зубами. Все его женщины, а их было у него немало, с троими он даже был расписан и благополучно развелся, твердили в один голос, что ему достаточно поставить на зубы скобку и он станет обладателем гулливудской улыбки. Никитон отшучивался, мол, денег на стоматолога нет, а в шестьдесят лет он без всякой скобки с помощью пластмассовой челюсти станет красавцем.
В девяносто втором году Шлепиков окончил энергетический и сразу, прямо с колес, ушел в авангард. Не будь этих демократических встрясок, Никитон бы благополучно трудился где-нибудь в проектном институте, но время перемен разметало людей – кого в журналисты, кого в охрану, кто в малый бизнес, то бишь в торговлю, кого в большой. Всем казалось тогда, что главное – это не работать по спецаильности.
И в авангарде Никита писал не абы что, а иконы, твердя при этом, что обновленная вера должна рождать нетрадиционное представление об объекте, и самое удивительное, имел покупателей даже за границей. Когда спрос на иконы упал, он, сменив фамилию Шлепиков на иностранного звучания псевдоним, стал писать детские книжки про пиратов и инопланетян. Платили мало, но писал он столь быстро, что заработок имел вполне приличный. Сюжеты про инопланетян он черпал где придется, читал что ни попадя, а потом сам и попался на собственную удочку, то есть стал странен.
Но, пожалуй, это расплывчатое заявление. Кто сейчас не странен, где норма? Жириновский не странен, или килеры, или бизнесмены, которые при огромном богатстве упорно считают, что жить надо исключительно «сейчас и для себя», а до граждан, которых они так ловко обворовали, им и дела нет?
Не странными эти люди кажутся только потому, что, когда ты с ними водку пьешь, они говорят о привычных вещах: мол, дождь надоел, в шведской химчистке костюм окончательно испортили, а еще изжога замучила, вчера какая-то сволочь покрышку проткнула, а «Спартак» опять продулся вчистую.
А Никитон за водкой и за чаем – без разницы, говорил о странном, явно нарываясь на спор. Друзья быстро летели с колес и начинали убеждать, что его учителя, равно как и он сам, – идиоты, блаженные с жидкими мозгами. Если человек писать прозу не может, он идет в критики, если не получается самому лошадь грамотно нарисовать – двигает в концептуальное искусство, а уж если ортодоксальная наука не под силу, то в ход идут летающие тарелки и круги на полях.
Они кричали, а Никита тихо улыбался. Дождется, пока все охрипнут, и сообщит что-нибудь новенькое в свете своей доктрины. Скептики замолкали, брезгливо морща губы, а некоторые, слабые душой, начинали расспрашивать. А дальше… по крапиве в ботах – кто быстрей! После третьей рюмки тайна народов майя и важные знания «о конце дней» хорошо идут, тем более конец дней приходится как раз на наше столетие и даже ограничен временными рамками: с солнечного затмения в августе 2000 года до католического Сочельника в 2012 году. Иными словами двенадцать лет «кончаться» будем. Никитонова доктрина (вернее, его учителей – иностранных адептов) была хороша тем, что конец света не только не был похож на апокалипсис, но был переходом в «новую фазу жизни», переходом безболезненным и радостным. Более того, главная роль в переходный период предназначалась России, и это знали все просвещенные, как то: Настродамус, индейцы племени хоппи в штате Аризона, древние шумеры и некто Друнвало Мельхиседек – наш современник, словом, все-все, кроме этих дураков, которые сидят за столом и непотребно ржут.
И дураки начинали задавать вопросы, потому что очень неприятно жить в государстве с развалившейся экономикой и нравственностью, в стране, о которую все ноги вытирают.
И очень приятно ощущать себя спасителем демократического подгнившего капитализма и его «золотого миллиарда» – чванливых сливок их общества.
А в чем фишка-то? А в том, что внеземные цивилизации уже все делают, чтобы спасти человечество руками России. Тема внеземных цивилизаций, накрепко связанных с летающими тарелками, обычно в компании сочувствия не находила. Эти неопознанные объекты уже в зубах навязли, их давно никто серьезно не воспринимал. Другое дело – существа их других измерений. С ними связывали появление кругов на полях. Круги – это факт. Своими глазами их тоже никто не видел, но по телеку показывали. Особенно убедительными были не пшеница, уложенная в правильный геометрический рисунок, и наши перепуганные и крайне озадаченные мужики, которые, матерясь, чесали в затылке и на все вопросы корреспондентов отвечали однозначно:
– А мать их знает – что это такое! Вчера не было, а сегодня косить надо, а тут такая хрень… то есть мозаика.
– Может, вы сами уложили колосья?
– Да на кой! И как бы мы все это скрутили, да еще ночью.
Слова мужиков дышали правдой, такое не сыграешь. Каждый из сидящих за столом успел за свою жизнь пожить в деревне. И представить, что где-нибудь в Выдрицах или в Белых Заломах кто-нибудь из жителей, опохмелившись, попрется с утра в пшеницу заниматься эдаким рукоделием! – нет уж, увольте, полный абсурд!
Вдохновленный вниманием слушателей Никитон продолжал развивать тему про «знаки в пути». Оказывается, нам в помощь для безболезненного перехода в другое измерение посланы особые дети. У них измененное ДНК, они никогда не болеют, выигрывают у компьютера в любые игры и умеют видеть любой точкой тела. Спросите, кто их рожает? А мы и рожаем. Они уже имеют название – «дети-индиго».
Придуманное кем-то странное прозвище придавало вес Никитиной болтовне. Кроме того, Олежек, оказывается, сам видел по телику парнишку, который пятками читает. Ему завязывают черной косынкой глаза, подсовывают под ступню текст, дурдом! Мать парнишки пытается хоть как-то использовать его способности, но от него отмахиваются, то ли боятся, то ли не верят, даже в цирк не берут.
– Чушь все это, – звучал чей-нибудь разумный голос. – Очередная журналистская утка.
– Но зачем им такую утку в свет выпускать? Ты пойми, – Никитон убедительно прижимал ко впалой груди руки, – люди верят только тому, что сами видели, своими руками пощупали. А чужой опыт они не воспринимают. Это я уже давно понял. Вот, например, завтра ко мне явится Дева Мария и скажет…
– К тебе не явится.
– Это почему же?
– А потому же! На кой ты ей нужен.
– Да я не об этом. Положим, явится, и я приду, скажем, к Киму и расскажу про видение. Ким попросту решит, что я сумасшедший. И это касается любых нетривиальных явлений в жизни. Люди просто не верят. И все! Так им легче жить.
– Так и умрешь – непонятым!
Уже третья бутылка водки пошла, не считая коньяка.
В общем, к Никите, несмотря на его странности, хорошо относились, хоть и раздражал он всех страшно. У каждого свои неприятности, и главное – все время горбатишься из-за денежных знаков, хорошо хоть выпивка недорогая, а этот блаженный пригубит водку и сидит себе – чист и весел. Ну чему ты, спрашивается, радуешься? Ответит, как в сказке: «А чего же мне не радоваться, если я уже нахожусь в активированном поле своей миркабы». Брякнет эдакое и ждет, когда его спросит, что это за рыба такая – миркаба. Накась, выкуси! Мы не любопытные. Сиди в своем активированном поле с ней один на один.
Вот к этому-то человеку и направил Ким стопы через день после Макарыча. Шут его знает, может, Никитон как-нибудь объяснит эту дурь с Софьей Палеолог? А если и не объяснит, то скажет с загадочной улыбкой: «Это была не царица, а посланец из другого измерения, скрыто воздействующий на твой мозг». Кроме того, Никитон всегда был дома и никогда не имел опохмелки. Он вообще пил мелкими дозами, умел себя держать.
Однако приветливый Никитон, выслушав сбивчивый рассказ друга, ничего про второе измерение не сказал, а очень заинтересовался тем, что в тот роковой вечер Ким шарил в интернетовских сайтах.
– Да при чем здесь это-то?
– А при том, что ты эту Софью в мониторе словил.
– Да я вообще мочалок каких-то рассматривал. Ну, тех, которые знакомства предлагают.
– Вот одна из них к тебе в подол и спрыгнула. Компьютер вообще загадочная вещь. На этот счет уже имеется много интересных историй. Это достижение цивилизации всех нас зомбирует. Понимаешь?
– Чушь!
– А кто такая Софья Палеолог? – заинтересовался вдруг Никитон.
– Царица. Жена Ивана Великого.
– Это который Грозный?
– Нет. Это тот, который двуглавого орла сделал гербом. Как в Византии. Он – дед Ивана Грозного. Роман начинается с 1495 года и все ждут конца света.
– Почему?
– По кочану. Там про конец света есть целая глава. Некто Геннадий очень волновался, будет в 1492 году конец света или нет, потому что по еврейскому календарю выходило, что конца света пока не будет и жить им еще 750 лет. И пришлось Геннадию высчитывать Пасхалии на весь срок.
Никита быстро зашевелил губами, что-то подсчитывая.
– А что такое Пасхалии?
– Это срок, когда Пасху справлять.
– А кто у нас будет Геннадий?
– Геннаий у нас будет архиепископ Новгородский, образованнейший человек. Он Ветхий Завет переводил. Представляешь? Тогда на Руси в ходу только Евангелие было. И еще этот Геннадий боролся с жидовствующими.
– С кем?
– Так еретики прозывались.
– Ты это серьезно? – Никитон криво усмехнулся.
– Да уж куда серьезнее.
– Я должен это прочитать, – в глазах Никитона появился голодный блеск, рот открылся, зубы торчали веером.
– Да зачем тебе все это читать? Я к тебе с Софьей Палеолог, а ты со своим глупым любопытством.
– Как ты не понимаешь, что все это звенья одной цепи? Я тебе говорил про конец света в 2012 году? А твой Геннадий все это уже предвидел. И Ветхий Завет он переводил! Ну что ты на меня пялишься? – Никитон уже надел куртку и с трудом пытался застегнуть молнию. – Поехали к тебе! Я буду читать рукопись!
5
В послании Геннадия к Иоасафу, в замечательном памятнике русской средневековой культуры, есть весьма интересные рассуждения, которые касаются конца мира. Письмо было написано не только по этому поводу, то есть, если быть точной, совсем не по этому поводу. Геннадий, архиепископ Новгородский, жаловался бывшему архиепископу Ростовскому Иоасафу на распространившуюся в Новгороде, а затем и в Москве, ересь, получившую впоследствии название «ереси жидовствующих».
Но поскольку в нашем повествовании конец света играет роль почти что действующего лица, стоит остановиться на рассуждениях Геннадия подробнее. Каждому истинному христианину известно, что зачал Бог мир и творил его семь дней, и жизнь дал тому миру по тысяче лет на каждый год создания.
Значит, через семь тысяч лет должен наступить тому миру конец. Дата сия как раз приходилась на 1492 год и возбуждала во всем христианском мире величайшее волнение. На Руси были столь уверены в конце света, что митрополит Геронтий отказался даже составлять Пасхалии – таблицу праздников Пасхи – на последующее тысячелетие. Что стараться, если завтра все перед Богом предстанем?
Послание к Иоасафу было писано в 1489 году, так что у Новгородского архиепископа было еще время на раздумье. Геннадий с открытой душой ждал конца света, но и… сомневался. Мало ли… А потому готовил себя мысленно к великому борению, если случится, что годы Пасхалии кончились, а Бог взял да и продлил жизнь мира.
Сомнения Геннадия были построены не на песке. Филипп Монотроп Пустынник, византийский мудрец, еще пятьсот лет назад писал, что существование мира седьмично, то есть дата конца мира должна делиться на семь. Но ведь точной даты мудрец не указывал. А Григорий Богослов говорит внятно: «Когда мир достигнет совершенства, тогда ожидай конца». А внятность здесь такова, что в этом худом, в грехе погрязшем мире совершенства никогда не будет.
Наверное, рассуждая сам с собой о явной крамоле, Геннадий крестился истово, кланялся Богородице, но велика тяга человека к знанию, а потому он продолжал рассуждать в своем послании, а между делом вспоминал примирительно: «Говоря о совершенстве мира, Григорий Богослов напутствовал: “Нам нужно ждать скончания мира во всякий час”». При этих мыслях рука, творящая крест, уже не дрожала.
Пойдем далее… Особенно раздражал Геннадия еретический «Шестикрыл». «Книга, взятая от астрономии, как капля от моря», – писал Геннадий. А что такое «Шестикрыл»? Не более чем таблица лунных фаз и затмений. Книга была переведена с еврейского оригинала в Западной Руси и дошла до Новгорода. Этим «Шестикрылом» и смущали еретики чистые души. Согласно лунным таблицам выходило, что до конца света людям еще жить и жить. Иудейский счет велся по еврейской Библии, то есть по оригиналу, а не по александрийскому переводу. Православная же церковь пользовалась истинным юлианским календарем. Так вот ведь напасть какая! По «Шестикрылу» выходило, что от создания мира прошло только 6250 лет. Следовательно, человечеству предстоит еще целых 750 лет ждать второго пришествия. И как тут быть? А если, не приведи Господь, в назначенный срок не будет конца света, то выходит, что еретики вроде бы и правы? Не бывать этому! Задача истинного пастыря духовного доказать, что еретики всегда неправы.
Еще больше злили Геннадия латыняне. По их версии, Бог всемогущий назначил миру жить семь тысяч лет и еще восемь лет. Откуда эта зловредная цифра восемь? Евреи хоть 750 лет накинули красному миру, а эти и вовсе с ноготок. А католики ответствуют, что не с потолка эту цифру взяли. Бог, творя мир, рек: «Будете добродетельны – прибавлю вам, а будете злы – отниму». По католической выкройке выходило, что Господь уже признал мир добродетельным, потому что в противном случае тьма наступила бы уже два года назад. Ан нет, живем! А у татар, к слову сказать, – другая цифра до второго пришествия Христа – сто лет и два года.
В послании Геннадий просил Иоасафа: «Если окажется, что время делания не кончится с нашей Пасхалией, так ты бы о том с Паисиеем и Нилом Сорским обстоятельно поговорил и мне о том написал».
Но главной темой послания были, конечно, еретики. Геннадий писал Иоасафу, что как только принял архиепископию в Новгороде, то нашел здесь еретиков, «предававшихся иудейским мудрствованиям, которые были прикрыты постыдной клятвой этих еретиков – назову ее маркитанской или мессалинской».
Последнее требует пояснения. Маркитанской, или мессалинской, греческая церковь в те поры называла болгарскую ересь богомилов, возникшую в те времена, когда Русь была еще языческой. Богомилы считали, что в мире господствуют два начала – добро и зло, а поскольку мир дуалистичен, то и поклоняться в нем надо как Богу, так и Сатанаилу. Еретики-богомилы всегда были гонимы, и аскетическая их религия передавалась из поколения в поколение как мистическое предание. «Книга голубиная» – главный их труд, создавалась где-то на Балканах. Вот как богомилы рассказывают о сотворении человека. «Бог помылся в бане, потом вытер пот ветошью, да и бросил ее с неба на землю. А сатана нашел ту ветошь и сделала из нее человека, но не смог закончить творения. Пришлось Богу самому вложить в человека душу». Еще богомилы отрицали церковную иерархию, еще…