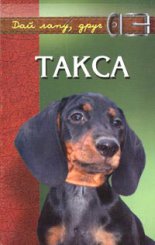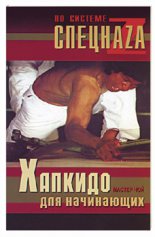Венец всевластия Соротокина Нина
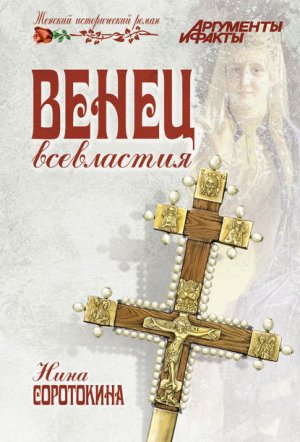
Очевидно, замечание это попало в точку, Паоло вскинул на инока осуждающий взгляд, дернул плечом и принялся разворачивать серую плотную ткань. Внутри суконного плена скрывались два пергамента хорошей телячьей кожи. Юноша положил их перед Мефодием и отошел в сторону, предоставляя переписчику самому ознакомиться с рукописями.
На первом пергаменте был убористо написан текст, на втором листе была нарисована таблица на сорок квадратных клеток. Каждая клетка заключала в себе две буквы. Одна буква была написана красной киноварью, другая черной тушью. Оба пергамента имели общее называние – «Лаодикийское послание».
– Это что же за Лаодикия такая? – сам себя спросил Мефодий и тут же ответил: – Знаю, это город в Азии, в который апостол Павел направил свое письмо. Но на апостольское послание это не похоже. Зачем понадобилось святому Павлу клетки чертить? И как написано-то внятно! Внимай. «Душа самовластна, ограда ей – вера. Вера – наставление, устанавливается пророком. Пророк – старейшина, направляется чудотворением, чудотворение – дар мудрости усиляет». Зачем, любезный Паоло, тебе эта странная рукопись нужна?
– Я думаю, что по этим таблицам гадать можно. Гороскоп – это таблицы, по которым жизнь предсказывают.
– Это не богоугодное дело, – осуждающе заметил Мефодий. – Это переписывать не след.
– Я хорошо заплачу.
– А таблицу эту как мне копировать? У меня и киновари такой нет.
– А ты красные литеры тонко другим цветом прочерти, а потом и раскрасишь. Мне, главное, эти пергаменты у тебя завтра в вечеру нужно забрать.
– Понятное дело, надобно их на место положить, – темно усмехнулся Мефодий. – Как видно, сладили тебе ключ.
На этот раз Паоло не спустил, даже ногой топнул и сказал с напором:
– Оставь свои намеки при себе. Я тогда на рынке не мог понять, что ты про мою ногу толкуешь – маленькую и нежную, а дома вспомнил, где об этом написано. В книге «Тайная Тайных». Так? Инокам к чтению сей текст никак не рекомендуется. Я бы тоже мог поинтересоваться, какому заказчику ты этот список делал.
– Ладно. Я перепишу тебе и текст и таблицу. За бумагу немецкую заплатишь, за чернила и краски, а переписать-то я и бесплатно могу. Но скажу тебе со всей искренностью – боюсь я гороскопы переписывать. А ну как прознают монахи, так и турнут меня из обители. А куда я пойду? Может и похуже что произойти.
– Клянусь, об этих пергаментах не узнает ни одна душа, кроме нас с тобой, – торжественно сказал Паоло. – Во Флоренции составлением гороскопов люди деньги зарабатывают, а ты боишься даже список с них сделать!
– Может, это не гороскоп, а игра какая-нибудь, забава. Я слышал, есть такое времяпрепровождение – над расчерченной доской сидеть и фигурки точеные по клеткам двигать.
– Никакая это не забава. А иначе зачем бы он от меня эти пергаменты прятал?
– Кто – он? – быстро спросил Мефодий, но осекся, под осуждающим взглядом гостя. – Ладно, – сказал он покладисто, – завтра приходи за работой. Но не голым днем, а в сумерки!
Мефодий тут же сел за работу, часа три трудил глаза, а потом разумно решил, что дневное время больше подойдет для работы с киноварью. Утром, хоть никто из братии не интересовался его здоровьем, он сказал, что заболел, и стоя заутреню, кашлял в полный голос, даже горло засаднило. На митрополичий двор тоже не пошел, хоть там его и ждали, решил на все отговариваться грудной болезнью. И как только приступил к расчерчиванию клеток, так и пронзила его мысль – никакой это не гороскоп. Про гороскопы он слышал, там цифры должны быть и астрономические графики. А эти таблицы сработаны не иначе как для тайнописи. И шифр дан, чтобы получатель зашифрованных строк мог эту тайнопись прочитать. В пояснении было написано: «Если кто хочет узнать имя человека, доставившего “Лаодикийское послание” то пусть сосчитает: дважды четыре с одним, и дважды два с одним, семьдесят раз по десяти и десять раз по десяти, царь, дважды два…» и так далее, а заканчивалась строка словами: «В этом имени семь букв, царь, три плоти и три души».
Такими же цифрами описывалось занятие некого тайного человека, а также, как он от роду прозывался. Составитель (или переводчик) послания обозначил для ясности гласные и согласные. Первые прозывались «душа» и «приклад», согласные же обозначались «плоть» и «столп». Слово «царь», видимо, тоже обозначало букву.
И опять же – кем-то привезено. Откуда? Если фрязины доставили в Москву пергаменты, они много сюда своих диковинок понатащили, то почему писано кириллицей? Значит, кто-то перевел. А кто сей умелец?
Любопытство мешало работать, как щекотка, даже перо в руке прыгало. Мефодий уже понимал, что до прихода Паоло он не успеет отгадать шифра, на это занятие не одна неделя может уйти. А уж как хочется-то понять сей сокровенный смысл! Словом, для разгадки тайны у Мефодия была одна возможность – сделать список Лаодокийского послания еще и для себя. Стихотворное начало можно опустить, а таблицу с пояснениями – это непременно!
Теперь еще вопрос – стоит ли сообщить Паоло догадку про шифр и тайнопись? Ответ был однозначным – не стоит. Не твоего, инок, это ума дело, а потому рот узелком завяжи и не трепли языком попусту.
Паоло пришел за работой в означенный срок, внимательно осмотрел список. Текст был написан убористо, клетки против оригинала были уменьшены в четверть, киноварь тоже нашлась. Он неторопливо обернул пергаменты и свиток серым сукном, отправил сверток за пазуху, и только после этого положил на край стола серебряную, грубо отрезанную деньгу.
– Щедро, – сказал Мефодий. – Еще-то придешь? Я увижу тебя али как?
– Отчего же не прийти? У тебя тут славно. Только времени у меня не много. Я человек подневольный.
– Могу и я тебя навестить, – с готовностью предложил инок.
– А вот это никак не возможно. Я царице Софье служу – музыкантом, а потому живу во дворце. Туда просто так в гости не ходят.
Уже стихли скрипучие половицы под шагами Паоло, и хлопнула калитка, выпустив гостя в большой мир, а Мефодий все сидел на лавке, тараща глаза на икону.
– Оборони, Господь! Помилуй мя, Боже, по велицей милости твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое! В какое же дело, греховодник, я вляпался… Ах, ах… Наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя. А может, лукавил отрок и заранее знал, что это тайнопись? И кто же этим шифром пользуется в царевом дому? А ну как узнают, что я, недостойный, вник в чужие и ненужные мне тайны? Забудь, все забудь, инок глупый!
18
И ведь забыл. Скопированные для себя клетки с пояснениями были спрятаны в тайник – в специально вырытую дыру в полу. Может, разумнее было бы сжечь окаянство, но жалко было уничтожать собственный труд. Как только спрятал, так и успокоился, и когда Паоло опять явился в келью, Мефодий принял фрязина без всякого страха, даже, пожалуй, с радостью. На этот раз гость горел желанием что-нибудь почитать. Книга была ему тут же предоставлена. Между делом Мефодий отметил, что суетится перед Паоло сверх меры: постелю на лавке поправил, а потом и лавку пододвинул к окну, чтоб свет прямо падал на страницы и отрок не трудил глаза. А может, правильно, что суетится? Паоло человек богатый и знатный, он саму царицу ежедневно зрит! О «Лаодикийском послании» не было сказано ни слова.
Паоло стал ходить в Сретенскую обитель, как в библиотеку где-нибудь в Италии. Сравнение это, пожалуй, неуместно, потому что библиотека в монастыре Санта-Спирито насчитывала сотни, а может быть, тысячи драгоценных рукописей, уже появились и типографски отпечатанные инкунабулы, а у Мефодия зараз никогда более двух книг не было, но зато инок умел достать то, что просил заказчик, был приветлив и ненадоедлив. Сидят тихонько, Мефодий пером скрипит, Паоло губами шевелит, потом взвар пьют и разговоры разговаривают.
Из всех диковинок флорентийской жизни Мефодия больше всего удивили именно инкунабулы.
– Как же это может быть, чтоб книги станком печатались? А ты станок этот видел?
– Сам не видел, но люди рассказывали.
– Как я понимаю, в станке есть металлическая рука, которая пишет с большой поспешностью?
– О нет, нет, – Паоло, как мог, объяснил премудрости печатного дела. – Изобрел печатный станок некий Гутенберг из Майнца. Это было давно, пятьдесят, а может, и того больше лет назад. А сейчас печатные станки есть уже и в Венеции, и в Болонье, и во Флоренции. Внешне инкунабулы выглядят совсем как рукописные, только шрифт четче, бумага высочайшего качества, плотная, как пергамент. И потом они дешевле.
– Качество лучше, а дешевле? – не переставал удивляться Мефодий. – Хорошее слово – инкунабула – круглое и длинное, как рыба.
– По латыни это означает колыбель.
Мефодий принял мечтательный вид, надо же! Из этой «колыбели» проистекает вся мудрость человеческая.
– А не знаешь, что первым было напечатано на том станке в Мейнце?
– У них не знаю, а в Италии первыми напечатали индульгенции.
В одну из бесед Паоло поведал иноку свою тайну. Душа его давно жаждала общения, он хотел распахнуться, выговориться без страха. Удивительно, что при всей своей любви к Курицыну Паоло, не мог быть откровенным до конца. Еще, не приведи Господь жалеть бы стал! Кроме того, дьяк человек государев, случись беда, должен будет подчиниться закону. На Руси, конечно, венецианские законы не действуют, здесь своим порядком живут, но ведь полна Москва итальянцев. А ну как донесут да предъявят бумагу.
А с Мефодием все само собой случалось. Инок начал родной дом вспоминать, рассказывать, как матушка рожала его в баньке, а приключилось все зимой, а банька была угарной… Словом, чудо произошло, что он жив остался. Паоло тоже захотелось как-то значительно обставить свой день рождения.
– А я появился на свет в тот год, – начал он важно, – когда пронеслась над Тосканой страшная буря, причинившая народу бесчисленные разрушения и повергшая всех в ужас и уныние. Это был смерч. О, представь только, представь! Черные клочковидные тучи несутся по небу, зигзаги молний, гром и вопли человеческие. Словно геенна огненная вырвалась наружу! Коровы воют, то есть мычат, блеют и мечутся овцы, скачут по холмам сорвавшиеся с привязи кони. Представил?
Мефодий с готовностью кивнул, всем своим видом выражая восторг.
– Матушка моя в этот роковой день поехала из города в усадьбу. Она ехала в открытой повозке, с ней находились еще две женщины. А как смерч налетел, то матушка моя от ужаса начала рожать. Боли были ужасные, но от страха перед гневом природы она их не замечала.
– Ты-то откуда знаешь? – изумился Мефодий.
– Тебе, значит, можно помнить угарную баньку, а мне заказано?
Паоло так воодушевился собственным рассказом, что и сам поверил в этот момент живописной придумке. Каждому лестно ощущать, что родился он в условиях экстремальных. Да и не был рассказ про смерч чистым вымыслом. Матушка в самом деле попала в страшную бурю или землетрясение, словом, пережила что-то такое, чего никогда не случается в холодной, твердо стоящей на земле Руси. Мать тогда была совсем юной и чудом спаслась от смерти. И повозка была.
Матушка успела из нее выпрыгнуть, а возница погиб, потому что повозку унес ветер и забросил, ровно ветку сухую, в овраг. Мать сама рассказывала: смерч закрутил повозку, а потом с колесами вместе оторвал от земли и… «Интересно, а с лошадью что стало? – подумал Паоло, несколько смутившись под пристальным взглядом Мефодия. – Или несчастное животное тоже, как Пегас, взвилось в облака?»
– Ну дальше, дальше…
– Бурю решили переждать в винограднике. Возница только успел выпрячь лошадь, как повозку покатил по дороге ветер. Потом ее подняло на воздух и унесло неведомо куда. Вокруг был ад. Деревья, столетние дубы и ясени, вырывало с корнем, ветер сдирал кровли к домов. Потом разом все утихло. Вокруг трупы, разрушения, перепаханная, исковерканная земля, сорванные ветви, листья и виноградные гроздья. И чудо! Матушка лежит под кустом – стонет, а рядом возница со мной на руках.
Паоло улыбнулся, словно вспомнил все воочию, и особенно радостно было, что он спас жизнь неведомому вознице. Может, и сейчас еще живет.
– Как же твой отец отправил ее, тяжелую, в дальнюю дорогу? Матушке твоей в дому надо было сидеть, да повитушью старуху ждать.
– О! Мой синьор и не знал об этой поездке. Матушка моя не была ему супругой. Она была… она была, – руки сами взметнулись вверх, пальцы заметались, словно он играл на флейте поспешную мелодию, – рабыня она была, вот кто. Русская рабыня.
Он кончил рассказ и разом обмяк. Шепнул, как царь Мидас, слово тростнику, а стало ли легче? Слово «раб» преследовало его всю жизнь, он носил его, как ярмо, как вечный укор и стыд, оно перегораживало жизнь его, как неприступная стена… да и не стена вовсе, от стены можно назад повернуть, а он был замурован заживо.
– Русская? – обомлел Мефодий. – А как она во Флоренцию попала?
– Из Турции, а к туркам-османам она попала из Крыма, а в Крым – из Литвы.
– Так она раньше в Литве жила?
– Нет, она жила в Новгороде. Отец ее, стало быть, мой дед, был знатным купцом. Торговал, кажется, воском и подворье имел у церкви Святого Власия. Дом у него был роскошный, на каменных подклетях, на втором этаже – балконы-гульбища, за домом сад яблоневый, а может, грушевый…
– А может, сливовый, – поддакнул Мефодий, – на глазах сочиняешь.
– Не сочиняю, а забыл! Не помню я, – крикнул Паоло с отчаянием. – Матушка рассказывала, а я слушал вполуха. Мог ли я знать, что попаду когда-нибудь в Московию. Я бы и язык родной забыл, но соотечественники очень обо мне пеклись.
– Дак там еще русские были?
– А как же! Такие же, как я, рабы. Каждого из нас можно было продать, как мула, овцу или медный таз. Когда матушка умерла, мне было восемь лет. Синьор забрал меня к себе. Он меня любил. Я воспитывался вместе с его законным сыном – синьором Франческо.
– Наверное, синьор твою матушку любил, а тебя уж заодно, – рассмеялся Мефодий.
– Не шути так. Я открыл тебе мою тайну. О моем позоре не должна знать ни одна живая душа. Я невольник, раб, илот, я никто! У меня даже фамилии нет. В любой момент меня могли сослать на дальнюю усадьбу давить виноград или пасти коз.
– Вот и глупость ты говоришь. Какой же это позор? Не знаю, как там у вас во Флоренции, а здесь ты просто человек удивительной судьбы. Ты русский, мать твоя – жительница славного города Новгорода. И не ее вина, что в неволю попала.
– Ты не понимаешь! Рабство мое не только позор. Я беглый, и меня в любой момент можно силой вернуть во Флоренцию.
– Вот еще! Кому же в Москве понадобится тебя возвращать?
– Я не знаю, как далеко простирается власть моего сводного братца. В детстве мы дружили, а потом он меня возненавидел. Франческо был злобен, коварен, жаден! А может быть, и не было у него всех этих ужасных качеств, а просто он считал, что я его обворовал, отняв толику любви нашего отца – моего синьора. Как только отец умер, Франческо решил от меня избавиться. Я даже знаю имя моего нового хозяина. Отменный негодяй!
В словах Паоло была своя правда. Вряд ли читателя удивит, что в Италии в эпоху, которую позднее назвали Высоким Возрождением, существовало рабство в обычном, начальном его понимании. Книгочеи и высоколобые философы – отцы «гуманизма», молившиеся одним поклоном и античности, и Иисусу Христу, устраивающие диспуты в библиотеках, ревностно изучая все, что касалось ценности человеческого духа, и славящие человека как единицу мироздания, как меру всему, спокойно относились к купле-продаже себе подобных. Они просто не замечали этого.
Законы были строги и бесстрастны. Статус морского права Венеции и Генуи гласит: «…если судно тонет, надо выбросить за борт груз, золото, рабов, животных…» Последняя редакция статуса за 1588 год подтверждала это правило.
В XV веке большинство рабов в Италии были славянами, в свою очередь, большинство славян составляли русские. Это не автор придумал. Это старинная итальянская статистика. Некто Читрарио составил таблицу цен на рабов. Самыми дешевыми были татары и татарки, дальше шли черкесы с черкешенками. Самым дорогим товаром были русские женщины. Их покупали для домашних нужд и телесных услад. Средняя, рекомендованная таблицей Читрарио цена за раба была где-то около двухсот флоринов, однако истинные цены зачастую не соответствовали табличным. В какую графу впишешь гибкий стан, высокую грудь, улыбку богини… ну и так далее.
Побывавшие в Московии в XV–XVI веках иностранцы в один голос пишут о необычайной красоте русских женщин. Беда только, что они прячут дивные свои лица под слой обязательной косметической маски. Лицо должно быть белым, как снег, его и штукатурили белилами, щеки «маков цвет» красили свеклой, зубы чернили. Последнее делалось для сокрытия изъянов, но со временем стало модой, и юным красавицам приходилось чернить свежие, нарядные словно перлы зубки. В рабстве русским женщинам было не до макияжа, и они представали перед покупателями во всей своей красе. Известно, например, что во Флоренции в 1429 году русская семнадцатилетняя девушка была куплена за две тысячи девяносто три флорина. Можно привести еще цифры, но не стоит загромождать ими текст.
Рабынь крали. Закон в этом случае предписывал: «Кто похитит рабу и продержит ее у себя более трех дней, вопреки воли собственника, тот подвергается наказанию через повешение, пока не умрет». Если похититель, продержав рабыню три дня, добровольно возвращал ее хозяину, он платил штраф двести флоринов. Столь разорительный закон был принят с одной целью – приглушить разврат, процветающий в республике.
Можно представить горечь, унижение и смятение Паоло. Его тихая, прекрасная, добрая мать, которой посчастливилось умереть синьорой, на пути к этому благополучию прошла через многие мужские руки, и все на законных основаниях. Один Бог знает, чего ей это стоило.
Во Флоренции закон гласил, что сын, родившийся от рабы и свободного гражданина, следовал званию отца, то есть становился свободным человеком. Иное дело Венеция. Там, даже если господин законно женился на рабыне, сын от этого брака оставался рабом. Рабыня из Новгорода жила во Флоренции, но куплена была в Венеции, там же была оформлена купчая. Братец Франческо арестовал Паоло тоже в Венеции, а потому законам этого города он должен был подчиниться.
Разумеется, Паоло не стал посвящать во все эти тонкости Мефодия. Зачем? Большие знания, большая печаль. Другое дело бытование матери на Руси. В памяти осталась ее фамилия: Сверчкова, а может, Свиридова, и он не удивится, если б она оказалось Сидоровой. По младости лет он плохо слушал материнские рассказы, но один запомнил накрепко.
– У бабки моей в Новгороде был великолепный иконостас, и под иконой Пречистой Девы лежали всегда два хрустальных пасхальный яйца, привезенных из Венеции. Одно яйцо, как чистая слеза, а у другого внутри зеленый трилистник, ну, листочек, вроде кислицы, удивительно, как его пометили внутрь стекла.
– И ты эти пасхальные яйца видел? – воскликнул восторженно Мефодий.
– Нет, конечно. Матушке моей и в голову не могло прийти, что я когда-нибудь вернусь на родину. Погоди, я еще приеду в Великий Новгород и найду тот иконостас, на котором лежит яичко с трилистником. И будет у меня, как у всех, – родня.
Этот разговор был решающим в их отношениях, Паоло был благодарен Мефодию, что не было в глазах его снисходительного участия и жалости, а инок охотно простил фрязину Флоренцию и службу во дворце. Один как бы спустился с небес, а другой, по доброте своей душевной, и воспарил. И обнаружили они себя стоящими рядом, и рука одного лежала в руке другого.
19
Без малого полтора года Русь жила без митрополита. Предыдущий митрополит Зосима не пользовался популярностью в народе. Говорили, что он был слабым человеком, поклонником Бахуса, и о церкви не радел. Но при этом все знали, что митрополит весьма учен, кроме того, его поддерживал сам государь. Однако этих столь видимых преимуществ оказалась недостаточно. Зосиму вынудили уйти с кафедры. Потом начались дебаты, обсуждения и интриги. Наконец договорились, что приемником Зосимы в митрополии станет Симон, муж чистый – игумен Троицкого Сергиева монастыря.
Посвящение было не просто торжественным. Перед изумленными очами москвитян был представлен новый церемониал посвящения. И как-то само собой получилось, что главным действующим лицом высокого действа стал не Симон, а царь Иван. Вначале все шло своим чередом. После соборного наречения Симона представили во дворце царю, оттуда пошли в Успенский собор. Иван, в сопровождении огромной свиты, вошел в собор первым.
Служба была долгой, все уже утомляться стали. И вот самый торжественный момент – митрополит под тождественное пение идет к своему месту. В соборе стало тихо, слышно только, как потрескивают свечи на паникадилах. Все замерли. Иван, строгий, даже суровый, ссутулившись больше обыкновенного, вышел вперед и сам вручил Симону пастырский жезл – символ власти. Более того, государь сказал напутственное слово. Такого еще не было на Руси, получилось, что не церковь, а сам великий князь назначал митрополита. Право слово, будто король византийский.
– Всемогущая и Животворящая Святая Троица, дарующая нам государство всея Руси, подает тебе великий престол архиерейства, митрополию всея Руси – жезл пастырства, отче, восприими и моли Бога о нас, и о наших детях, и о всем православии.
Митрополит ответствовал с поклоном и молитвой. Певчие разливались на все голоса. Приближенные царя переглядывались. По слухам все знали, что церковь сильно давила на государя, чтобы отправить неугодного Зосиму в отставку. Теперь же он сам назначил нового митрополита и как бы предупредил всех – вот вам пастырь и другого от меня не ждите.
На следующий день состоялась торжественная служба в Успенском соборе, на которой присутствовали и женщины. Взоры всех были прикованы к царице-матери, царице Софье и великой княгине Елене Волошанке, которая стояла на службе подле сына.
Роскошное было зрелище. Все, что накоплено было в сундуках еще со времен Калиты, украшало теперь знатных прихожан. Осень только тронула листья золотом, и, хоть утренники были холодными, вечера еще дышали летним теплом. Это не помешало православному люду украситься соболями, которые ценитель, судя по черноте и густоте волоса, мог определить как истинно драгоценные. Кафтаны на мужчинах бархатные, парчовые, пояса усыпаны драгоценными камнями, ферязи с золотыми позументами, иные в шелковых однорядках с кружевами по краям разреза, с нашивками по бокам, с воротниками, унизанными жемчугом.
А уж женщины! Из шелковых и парчовых опошень цветов ярких, как радуга, выглядывали накапки летников, обшитых золотой тесьмой или кружевом, которое на три перста, не меньше, шито золотом. На каждой подволока червленая или белая, кика у иной сияет так, что глаза слепит.
Обычно, если ходили женщины молиться в храм, то одевались более чем скромно. Кики надевали неприметные, лица закрывали кисеей, и никаких кружев, никаких украшений. Да и то сказать, в те стародавние времена женщины вообще редко посещали церковь, а молились в домашних божницах. Но при воцарении гречанки Софьи, которая перенесла на Русь свои привычки, заимствованные у развратного Рима, падение нравов стало неминуемым. Двадцать лет – большой срок! Вначале Москва присматривалась, потом осуждала, а потом исподволь стала делать робкие попытки если не подражать царице – куда уж там! – но как бы вольничать, нарушать старые обычаи. Женщины не только стали выглядывать из теремов своих на вольный мир, но по пояс из окон высунулись, а иные мужья им вдруг стали в том потворствовать.
Священство, а также высокочтимые бояре – хранители старины, высказывали укоризну новым порядкам, но голоса их далеко не всегда были слышны. А в этот сентябрьский день женщины словно по общему сговору оделись так, словно царскую свадьбу праздновали. Уж если страна многие месяцы жила без высшей церковной власти (и ничего страшного не произошло, и конца света не было!), то стародавняя суровость им и вовсе не к лицу.
Кончилась служба, паства расступилась, уступая место государю и семье его. Высок и статен Успенский собор, драгоценны иконы его и самая высокая святыня – Божья Матерь Владимирская, писанная еще при жизни Девы Марии апостолом Лукой. Рассказывали, что прозывалась она раньше Пирогощей, по имени торгового гостя, который привез ее в Киев из Византии. Андрей Боголюбский тайно взял с собой икону во Владимир, а сто лет назад, после того как Владимирская Богоматерь спасла Русь от нашествия Тамерлана, Василий I перенес ее в Москву.
Софья еще раз поклонилась иконе, а потом, размягченная службой, оборотила доброжелательный взор на прихожан. Как прекрасно все… душновато только. И утомительно, прямо скажем. У католиков легче общаться с Богом. Сидишь в кресле, перед тобой молитвенник. Здесь все на ногах. А ведь не девочка, да и отекают ноги-то. Ишь разоделись! – разозлилась она вдруг. Это царице положено блистать, а прочие – только фон! При обилии красок ее новая, гранатового цвета опашень как бы поблекла. Взгляд ее переместился на Елену. Невестка была в алых тонах. Видно, не пустила в дело бархат цвета зеленой травы, решив, что красный цвет более соответствует празднику и великокняжескому дому.
У двери произошла легкая заминка. Государь шагнул вперед, сопровождающие его как бы смешались. И тут Софью словно булавкой в ладонь кольнула новая мысль. Судьба сама показала картину, о которой она постоянно думала и которой боялась. Ее, царицу, толпа вдруг оттеснила, подтолкнув к Ивану невестку с сыном, потом процессия опять выровнялась. За Еленой Волошанкой и Дмитрием пристроился цвет московского боярства: воевода московский Патрикеев с сыновьями, зять его – князь Семен Ряполовский, пузатый, с бурым от натуги лицом боярин Ховрин, дальше шли бояре Сабуров с Беклемишевым, хитрая безродная лисица – дьяк Курицын тоже затесался среди первых мужей. А она, царица, и кровинка ее Василий? За ними шли княжата да барские сыны, многие из них еще безусые сподвижники молодеческих игр ее сына. Шли преданные Софье дьяки, жены их держались поодаль, а то и вовсе попрятались по темным углам.
Царская свита уже сделала свой выбор. По старому отчему закону великокняжеский стол переходил к старшему в роде. Но уже возник новый обычай – трон переходит от отца к сыну, а поскольку Молодой был соправителем отца, то, по мысли всех этих важных, спесивых, роскошно одетых людей, сыну Ивана Молодого и наследовать Русь.
Царь любил говорить, что юный Дмитрий очень похож на отца своего. Софья не видела этой похожести. Покойный Иван, до того, как скрутила его болезнь, был могуч в плечах, легок походкой, и хоть имел лицо аскета, которому впору в монастырь податься, был истинный воин, владел всеми видами оружия, в стрельбе из лука ему не было равных. Говорили, что Иван Молодой в юности был участником кулачных боев на потеху московской публике и всегда одерживал верх, как бы ни был силен противник. Последнему можно и не верить. Побеждать-то побеждал, но, может статься, те кулачные бои были игрой в поддавки. Кто же решится одержать верх над царским сыном?
Боевые Ивановы черты никак не проглядывали в юном Дмитрии. Экий росток породистый – шейка тонкая, взгляд пытливый, внимательный, личико нежное и с розовым румянцем. Очень серьезный отрок. Софья никогда не видела, чтобы Дмитрий над чем-нибудь насмешничал или хохотал в голос, как пристало мальчишке в его возрасте. Однако верхом ездил хорошо, царь часто требовал, чтобы внук сопровождал его в походах, иногда весьма в дальних, например, в Новгород. На поясе Дмитрия, как и подобает княжичу, висел кинжал, да умеет ли он его в руки взять? Умеет, конечно, специально приставленный дядька учил мальчика приемам боя и стрельбе из лука. Но все при дворе знали: Дмитрий больше любит книгу, чем кинжал и лук.
А ее Василий? Софья улыбнулась горделиво. В свои семнадцать лет он выглядел, как муж зрелый. И красив, ох, красив! Лицо он перенял от отца: глаза серые, нос прямой, губы полные. Но что толку перечислять черты лица. Главными были соразмерность их и необычайная приятность выражения. Фигурой Василий пошел в своего дядьку, византийского царевича Андрея, был полноват и плечи имел округлы. В учебе Василий не уступал Дмитрию, учился прилежно, и серьезен был, и оружием владел хорошо, но как подрос, самым любимым его делом стала веселая гульба с озорной и бесшабашной компанией. Конечно, вино и меды лились рекой, но до полного безобразия Василий никогда не напивался, Боже упаси.
Более всего любил хмельную брагу, она давала ему ощущение удачи, создавала особое настроение, когда он становился истинно счастлив и весь мир был ему подвластен. Накушаются браги княжеские сынки и пошли озоровать и веселить горожан. Только и слышишь, потравили княжеские кони чьи-то посевы, зашибли насмерть какого-то нищего у храма, напугали баб на портомойне, что на Москве-реке стирали царское белье. Веселье княжат было сугубо мужским. Если б появились в этих играх зазорные девы, Софье бы сразу об этом донесли. Царь смотрел на это молодечество сквозь пальцы, а Софья и вовсе воспринимала всё как должное. Молодость должна быть буйной, безудержной и в своей радости. Подрастет сынок и остепенится. А уж как пристало ему при красоте и уму быть русским царем!
Софья никогда не говорила с сыном на эту щекотливую тему, но чувствовала, что Василий думает о царском венце, думает болезненно. Честолюбив и горд, видит, что ему куда больше, чем Дмитрию, пристало быть русским царем, а может, подсказали умные люди.
И еще одна мысль окончательно испортила настроение Софьи. Она корила себя за бездействие. Оно проистекало не от нерешительности, а от душевной лени, сдобренной надеждой, что все судьба сама за тебя все сделает, а ты потом только пожнешь плоды. Но так не бывает. Уже пора что-то придумать и предпринять. В этом деле у нее не может быть советчиков и помощников. Все надо делать самой. Наиглавнейшие враги ее – Елена Волошанка и этот серьезный отрок с тонкой шеей.
Василий жил, словно не замечая своего племянника. Если Софья – через силу, наступив на собственную неприязнь, старалась дружиться с невесткой, то Дмитрий был для Василия пустым местом. Сейчас они встречаются редко, разве что за столом обеденным, но происходит это не чаще, чем раз в месяц. Дмитрий по малолетству трапезничает один или в материнских покоях. А ведь, пожалуй, не худо бы их и подружить.
В компанию к дружкам Василия Дмитрия не возьмешь, мал еще. Но мало ли где можно вместе проводить время. Скажем, на охоте. Василий хоть и не очень красиво сидел в седле, сутулясь по-отцовски, но ни одна лошадь его не сбросила, как бы шибко он ни скакал. Охотился Василий и с соколами, и с собаками травил зайцев и оленей. Елена не любила охоту и сына на нее не пускала. Но можно и еще что-нибудь придумать. Главное – поставить задачу и начать действовать.
20
Высоцкий монастырь стоял на высоком берегу Нары. Вчера был большой церковный праздник, сегодня – воскресный день, и потому машин на площадке, как на стоянке в Москве. Вид отсюда открывался на весь город Серпухов. За широченной поймой реки, за домами, палисадами и осенними садами просматривались стены женского Владычина монастыря. Далеко, сегодня не успеть…
Юлия Сергеевна проверила, есть ли мелочь в кармане куртки, и пошла к воротам. Нищенки – пять нестарых женщин – были похожи на торговок, которые распродали свой товар, а теперь сидели рядком, судача о своем, о женском. При появлении Юлии Сергеевны они разом умолкли и протянули руки за подаянием. Не привыкшие к работе ладошки их были чистыми, розовыми, словно у детей. И не гугнивы, благодарят звонко, доброжелательно, а последняя крикнула почти весело:
– Нам-то все не отдавай! Там на входе двое убогих – для них прибереги.
И правда, в арке ворот стояли два убогих старика. Юлия Сергеевна полезла в кошелек. Опять пришел страх, что визит в церковь (она и мысленно произносила это слово – визит) не вызовет в душе ее нужного отклика. Юлия Сергеевна всю дорогу только об этом и думала. Она боялась, что не сможет проникнуться высоким чувством и все происходящее в церкви покажется ей пустым театральным действом.
Монастырский двор был ухожен, зелен, цветаст. Праздничным он был, одним словом. Особенно понравились свежие, синие купола на Зачатьевском соборе. Теперь надо сообразить, в какой церкви находится икона «Неупиваемая чаша». Юлия Сергеевна направилась к синим куполам, но ее догнал невзрачного вида мужчина.
– Вам бы юбочку надо. В брюках нельзя. У нас с этим строго.
– И как же быть? Я из Москвы приехала.
– А я вам юбочку дам.
Пришли в закуток. Ношеная, бурая, вельветовая юбка, фасоном явно молодежная, а размер подходящий. Скольких женщин она спасла и дала возможность попасть в храм. Как она, дурища, дома не сообразила одеться соответствующим образом?
– А косыночка или платочек есть?
– Есть. Спасибо.
– Ну, благослови вас Господь. Вам вон туда, к иконе…
Она поднялась по лестнице на второй этаж храма. Народу – не протолкнешься. У входа – лавки, старым и немощным во время службы разрешалось сидеть. Много молодежи, в основном, конечно, женщины, судя по облику и лицам – горожанки.
Ах, как пел хор, как мелодично, возвышенно и успокаивающе он пел. При этом было ощущение, что священник находится от тебя в двух шагах, каждое слово слышно. Юлия Сергеевна решила, что храм радиофицирован, но потом узнала: секрет в акустике. Каждое слово как полновесная капля – внятно, хорошим голосом. Приятно было вдруг обнаружить, что она понимает по-старославянски. Иконы видно не было, ее закрывали многочисленные головы.
Она стояла службу долго, потом подумала – сейчас все кончится, народ повалит и очередь будет огромной. Беспрестанно извиняясь, она пробралась через толпу молящихся и пошла к комнате, где торговали крестами, свечами и книгами. За прилавком стояли три пожилые, очень деловые женщины в платочках, к каждой очередь человека по три-четыре. Видно было, что это надолго, потому что с посетителями разговаривали очень подробно, что-то писали на отдельных листках, потом заносили сведения в амбарную книгу – толстую, растрепанную – рабочую, то есть востребованную каждую минуту. Наконец дошла очередь и до Юлии Сергеевны.
– Что вам заказывать?
– Сын. Пьет.
– Понятно. Каждый сорокоуст – сорок рублей. Закажите три – это вам до декабря.
– А на год можно?
– Можно. Но иногда у людей сразу денег нет.
– У меня есть. Я издалека приехала.
– Говорите имя, фамилию, город. Богу-то это не нужно. Ему достаточно имени. А мне для отчета и вам, когда еще раз приедете – нужно, чтоб быстро найти. Лучше, чтоб молитва была непрерывная.
Юлия Сергеевна согласно кивнула. Для Кима нужна, конечно, непрерывная молитва.
– Еще крестики, пожалуйста… еще свечи.
– Маслица церковного хотите?
– Ладно. Только что с ним делать?
– Лечиться. Утром встанете с молитвой и помажете крестом лоб, щеки, шею и больные места. Это чтоб изгнать сатану.
– Понятно.
И еще спросила умная женщина, спросила строго, видно, много народу она здесь перевидала:
– Икона-то в доме есть?
– Есть.
– Ну и слава Богу.
Сказала она это с явным облегчением, видно, обликом своим, выражением лица и неточными вопросами Юлия Сергеевна вызывала некоторое… может быть, не раздражение, но сомнение – это точно. Юлия уже повернулась, чтобы уйти, но женщина задержала ее.
– Забыла сказать. Если кодировались, то непременно исповедуйтесь с отпущением грехов. И причаститесь. Кодирование – страшный грех, это от Сатаны, который в подкорку залезает.
– Как же я сейчас исповедуюсь? Ведь служба идет.
– Можно и не у нас. Можно в любом храме. Богу не важно, где вы исповедовались и душу очистили. Следующий…
В тот момент, когда Юлия Сергеевна вернулась в храм, словно волна прошла по молящимся. По неведомому сигналу люди вдруг попятились к двери и опустились на колени – все, разом, и она увидела наконец икону. От неожиданности она растерялась, тоже попятилась, потом прижалась спиной к дверному косяку. Ей бы тоже надо встать на колени, но как она потом поднимется со своими артритными коленками? Юлия Сергеевна склонилась низко, в пол, а икона вдруг и осияла.
Хорошо, ах, как хорошо, говорила она себе, забыв о том, чего боялась – ощущения стыда и фальши. Все было правильно, высоко, она была с людьми, с такими же, как она – страдалицами, она любила их, они любили ее. Это была правильная Россия, не та, которой погибнуть, а которой выжить, которую всегда били, но не могли прибить окончательно. И даже возникло ощущение переднего края. Вот они – женщины, девочки, старухи, они спасли веру в момент поругания. Теперь они спасут Россию от повального пьянства и вырождения! Отмолят… И еще подумалось, а есть ли чудотворная икона, которая спасала бы от взяточничества, от убийства, от черной совести? Наверное – все здесь, в этом высоком соборе… – Неупиваемая чаша «защищает болящих и пьяниц, но черная дыра в совести» тоже болезнь.
Потом разом все встали. Священник сказал спокойно и деловито:
– Пожалуйста, без паники. Всем, кому надо к кресту и за словом, – направо в очередь. Кому за святой водой – налево. Святая вода внизу. По лестнице пускаем по восемь человек. Не спешите. Святой воды всем хватит. У нас большой чан.
Все было привычно, буднично, словно и не храм это, а районная поликлиника с толковым заведующим. И действительно, никто никуда не побежал. Юлия Сергеевне пошла к иконе, пристроилась в хвост очереди.
– А вы не знаете, где книжку про икону купить? И вообще про монастырь. Кем основан, когда? – спросила женщина с красивым, измученным лицом, видно, и здесь сработал инстинкт туриста и путешественника.
И тут же нашлась рассказчица. Высоцкий монастырь основал сам Сергий Радонежский после Куликовской битвы. Это Юлия Сергеевна и сама знала, прочитала в энциклопедии Брокгауза и Ефрона. А про икону – вот какой рассказ. Легенда была наивна и уже этим обаятельна. Монастырь жил, монахи молились, был большой приход. И нашелся в округе некий убогий и больной пьяница. Было ему видение, а может, во сне что-то подсмотрел. Сказал тому пьянице голос, мол, иди в Серпухов в Высоцкий монастырь и спроси там икону. Необходимую икону он видел зримо: Матерь Божья, младенец, оба с воздетыми руками, а чаша внизу. Красиво. Пришел убогий в монастырь. «Где такая-то икона?» – и все описал. Ему говорят – нет у нас такой. Он спорить, есть, мол, а потом говорит – ищите и найдете. Стали искать и нашли где-то в подвале. Калека и пьяница стал молиться этой иконе и исцелился. С этого все и началось. Теперь к «Неупиваемой чаше» со всей России ездят, и всем она помогает.
Икона была ослепительно, изумительно красива. В нижней ее части за стеклом на толстой, натянутой проволоке, как бусины, нанизаны были золотые кольца, ниже ярусом – обручальные. Юлии Сергеевне вдруг захотелось каждое кольцо рассмотреть, за ним стояла чья-то судьба, но она прикрикнула на себя – в лик смотри! И отходи, что прилипла? За тобой люди ждут свой черед.
Юлия Сергеевна прижалась любом к стеклу, торопливо прочитала «Отче наш», других молитв она не знала. И было чувство, что молится она не только за своего беспутного Кима, но за всю пьяную, алкогольную и несчастная русскую душу.
Вышла их храма на воздух и опять повторила – хорошо! Праведно, празднично, намолено. И какое это приятное ощущение: хотела сделать – и сделала.
Кафе на площади было пустым, гулким и неуютным. Столики на хилых металлических ножках сбились табунком в углу просторного помещения, высокая стойка была обита каким-то странным материалом, похожим на изношенный линолеум. Хозяином кафе явно был муниципалитет.
– Кофе есть?
– Есть, пять рублей стакан, – ответила доброжелательно женщина за стойкой, так сочувственно умели улыбаться скромные героини советских фильмов. – А булок нет. Можете бутерброд с маслом взять. Еще с ветчиной есть.
Видимо, женщина за стойкой привыкла к бедной клиентуре. На Юлии Сергеевне был обычный наряд, ничего яркого, вызывающего, разумеется, ни бус, ни серег, но куртка и брюки были буржуазно добротными. И не по одежде, а по особому выражению лица ее здесь причислили к небогатой части населения. И Юлия Сергеевна отметила про себя, что это хорошо, правильно. Когда в стране девяносто восемь процентов населения пребывают в бедности, то лучше быть среди них.
– Давайте с ветчиной. И объясните, пожалуйста, как пройти к центру? Туда, где кремль.
– Это далеко, лучше подъехать. Не хотите? Тогда идите по Калужской. Дойдете до речки Серпейки. Там спросите. У Ситценабивной площади – налево. На площади церкви, красиво. А кремль был на Красной горке. Сейчас от стен остались две небольшие развалины. Собор, правда, стоит.
Может, она сделала ошибку, что потащилась смотреть достопримечательности, может, надо было сразу поехать на вокзал? Город был старым, пыльным и неухоженным. Плотно сбитые в ряд старинные двухэтажные дома не вызывали умиления. Зачем? И вовсе не позарез нужна ей Красная горка. В конце концов тихо посидеть и покурить можно хотя бы на этом спиленном дереве в тесном, зажатом лачугами дворе.
Но ноги сами несли вперед. Светлое чувство благодати, посетившее ее в монастыре, сменилось ощущением растерянности и вялой грусти. А не безумно ли все, что она затеяла? Какое замужество, зачем? И эта глупейшая затея – бросить сына! Конечно, вслух она остерегалась произносить слово «бросить», она говорила – «разрубить пуповину». Ее куда-то вели, она подчинялась, уговаривая себя тем, что поводырем стал сам разум жизни, неподвластный нашему пониманию. Понять нельзя, но думать в этом направлении можно?
С тех пор как Ким опять поселился в родном доме, Юлия Сергеевна в буквальном смысле не находила себе места. Особенно тревожной и неприятной была мысль, что она сама привела сына в дом, а значит, выдернула его из семьи. Любочка не попрекнула ее ни словом, даже, кажется, вздохнула с облегчением, но от этого не было легче. Если бы не ее дурацкий и бесцеремонный поход в мастерскую Олежика, сын и по сей день жил бы в семье. А теперь – вот он, рядом, не поймешь, работает где-то или так, как воздух коптит. Долго разговаривает по телефону, на короткое время куда-то исчезает, а потом опять лежит, тупо глядя в телевизор. Не пьет, но что с ним с трезвым (или пьяным, если б пил) делать?
Тогда-то в полном душевном раздрыге она и посетила по наущению умной подруги некого экстрасенса. Как выяснилось при встрече, рыночное прозвание «экстрасенс» было всего лишь рекламным трюком. Петр Петрович имел специальность, он был психологом и вообще умным человеком. Умел слушать, не перебивая и не помогая даже жестом, даже кивком головы. Но глаза его все понимали, сострадали, и Юлия Сергеевна мысленно облачила Петра Петровича в одежды оптинских старцев, хоть и молод он был для столь высокого сана в иерархии человеческих жизней.
Она рассказала про гомеопатические шарики, про беседы с наркологом, про кодирование, обрисовала, как смогла, характер и поведение сына. Потом стала говорить о материнском долге, мол, недодала, недовоспитывала, проглядела, и неожиданно для себя расплакалась. Петр Петрович сам принес ей чаю с медом, подождал, пока она выпьет всю чашку и справится с рыданиями.
– По-моему, у вас один выход – оставьте сына в покое. Забудьте о нем. Ему не пятнадцать лет. Пора перерубить пуповину.
Что это он говорит такое невразумительное? А она еще, дурочка, его в оптинские старцы записала.
– Я не могу забыть о нем. Я мать.
– Понятное дело. Но ваш Ким должен прожить собственную жизнь. Понимаете – свою, а не ту, которую вы для него сочинили.
– Своя жизнь – это жизнь алкоголика.
– Может быть. Но выпрыгнуть из этого состояния он может только сам.
– И я ничем не смогу ему помочь?
– Можете. Молитвой. И еще… доверяйте жизни. Она подскажет.
Вот такие дела. Наверное, Петр Петрович не вкладывал в слово «молитва» прямой смысл. Наверное, он имел в виду – стоять на расстоянии и верить, что сын найдет силы, чтобы начать трезвую жизнь. Но где взять эту веру?
А на горизонте уже прорисовывалась очередная подсказка судьбы. Соседка зашла отдать старый долг и, как благодарный человек, принесла кусок свежего пирога, а Юлия Сергеевна, тоже как вежливый человек, должна была предложить ей чаю. Соседка была очень не ко времени, хозяйка прямо-таки извертелась от напряжения, но ведь не выгонишь. И вдруг в разговоре соседка сообщает, что дочка ее ездила в прошлом году в Высоцкий монастырь отмаливать мужа-пьяницу.
– Отмолила?
– А как же! Не до конца, конечно, но безобразить перестал. В Серпухове очень сильная икона. Всем помогает. Только надо верить. Без веры ничего не получится.
Опять – вера! Ее не обретешь силовым усилием, не свяжешь на спицах, как шарф. Говорят, что веру можно заработать чистой жизнью. Но кто знает, что раньше – курица или яйцо. И какая она, эта чистая жизнь?
Юлия Сергеевна не была атеисткой в советском понимании этого слова, но и православной ее нельзя было назвать. Крещеная, да, куличи пекла на Пасху и сама делала творог из кефира. Любила читать про иконы, помнится, Солоухинские «Черные доски» конспектировала. Запрещала Киму ругать церковь. Вот и весь ее камень веры.
Ее раздражала новая волна верующих, которая нахлынула с приходом демократии. Нельзя всех огульно подводить под один знаменатель. Юлии Сергеевне казалось, что приход людей в храмы не связан с верой, а является естественной тягой к объединению в стада. Церковь для многих стала чем-то вроде клуба по интересам, и началась там у бывших атеистов новая интересная жизнь со своими байками и интригами. И все это под музыку и красивые слова. А где, скажите, усадьба и где вода?
Но, с другой стороны, в глубине души признавала наличие неких таинственных высших сил: высший разум или сгусток энергии. Трудно жить без этих сил один на один с мирозданием. А великие религии были всего лишь уважаемым и важным разделом культуры, вечно действующим сюжетом для художественных и музыкальных полотен. В молитве она видела нравственное начало – они для того, чтобы человек стал лучше.
Но как бы то ни было, в церковь ходить ей было неловко, словно ее заставляли играть в игру с чужими правилами, поэтому ей и в голову не пришло, что она поедет в Серпухов. Но в памяти рассказ соседки задержался, и время от времени Юлия Сергеевна мысленно к нему возвращалась. Церковь плохому не научит. И уж кому-кому, а матери алкоголика там самое место.
А дальше все пошло развиваться стремительно. Мудрая жизнь, цепко ухватив ее за руку, повлекла совсем уж в непросматриваемые дали. Семен, который столько лет играл роль верного, нужного, но как бы бесполого друга, вдруг сделал предложение. Он уже набивался в мужья, давно, сразу, после ухода Павла. Тогда она сказала «нет», и Семен Львович, не выказывая никаких эмоций, словно волна в прилив, откатился, вернувшись в плоскость старых отношений. Семен был свой. Он был умницей. Они редко виделись, но встречи были истинным праздником, говорили и не могли наговориться. Семен умел таким образом назвать и обозначить мир, что он становился приемлемым для существования. С ним было легко. За пятнадцать лет он успел жениться, развестись, поменять специальность и обзавестись некими знаками отличия, по которым мы угадываем зажиточного человека.
А ее предприятие с кормом для собак терпело крах. Уже и бухгалтер Нинка сбежала, взвалив на плечи Юлии Сергеевны непонятную цифровую науку, и за аренду помещения платить было нечем, и налоговая инспекция стала слишком пристально коситься в сторону ее лавчонки.
Она не дала себе и минуты на размышление, сразу сказала: «Да, согласна». Более того, ночью, наедине с собой, когда можно было схватить себя за руку – одумайся! – или хотя бы мысленно представить, как следует строить храмину позднего брака, она не стала «приводить в порядок мысли». Сказано – будет сделано. И всё!
Семен Львович, видимо, придерживался такого же мнения. Ведь немолодые уже люди. Они быстро договорились, что свадьбу отметят в купе поезда, который повлечет их по длинному туристскому маршруту. Называлось все это свадебным путешествием, а на самом деле оба решили, что начать совместную жизнь лучше в безликих гостиничных номерах. Безбытность лучше скорректирует их взаимный договор, чем особняк Семена за окружной дорогой, в котором Юлия Сергеевна и была-то всего один раз.
Она поднялась на плоскую вершину холма и огляделась: перед глазами все та же пойма Нары, за спиной высился старый собор и остатки древней стены. Мудрая жизнь сделала еще один виток, протащив ее по кругу.
Силы небесные, что она делает? Какое, к шутам собачьим, новое счастье? В ванной с импортной сантехникой не словишь радугу. Разве возможна ее благополучная жизнь с Семеном? Она давно живет одна и любит свое одиночество. Одиночество ее беспорядочно, но она в нем хозяйка. Сыновей не выбирают, она обязана сосуществовать с сыном и терпеть его заморочки. А с Семеном… не только закрепленные в паспорте права его, но и сама его забота могут показаться невыносимыми.
Она всматривалась в туманную пойму реки, а на самом деле пробиралась с фонарем по темным углам сознания высвечивать старый слежавшийся хлам. Вдруг вспомнились руки Семена. Многие годы они были только подспорьем в разговорах, а сейчас она отметила, что ей неприятны утолщения на фалангах его пальцев. Семен очень печется о собственном здоровье, и хоть стесняется говорить об этом подробно и часто, она знает, что он был увлечен сыроедением, раздельным питанием и лечил что-то там мочой. Он переносит табачный дым в ее доме, а в своем, пожалуй, назначит ей определенное место для курения.
О любви говорить не будем. Это вообще заповедная тема. Семен – бабник со стажем, и в свои шестьдесят с хвостиком вряд ли изменил своей привычке. При его деньгах он мог найти молодую, упругую, большеглазую… Зачем он вспомнил о ней – неупругой, толстой и в очках. Делая предложение, он не ограничился короткой формальной фразой, а излил водопад прочувствованных слов, в которых рефреном звучало: мы проверили друг друга (да уж!), мы достойны «покоя и воли» (тоже мне Пушкин фигов!).
Но не об этом сейчас, главное – выявить суть поступка. Суть, конечно, студениста, расплывчата и илиста. И не надо делать вид, что она непонятна. Всю эту храмину она выстроила только ради Кима, а значит, Семен только статист, загипнотизированный мудростью жизни. Задача Семена Львовича – подать ей топор, которым она разрубит пресловутую пуповину, соединяющую ее с Кимом.
Но это грех… новое слово в ее обиходе, это подлый оскал в обманной игре. Но себе-то сознайся, ты устала быть небогатой, тебе надоело бояться завтрашнего дня. Это тоже грех, но это грех понятный, человеческий. Что же делать-то, Господи?
Через неделю в субботу Юлия Сергеевна пошла в храм Георгия Неокесарийского, отстояла службу, исповедалась, причастилась, а на следующий день, препоручив сына Богородице и «Неупиваемой чаше», отбыла в Лиссабон.
Часть вторая
1
Утром, после встречи с Софьей Палеолог, Киму было не просто плохо, а непереносимо. Еще доставало сил фасонить, помру, мол, туда и дорога, но знал при этом твердо, что не помрет, а будет дальше с трудом и брезгливостью таскать на себе отравленную плоть. То есть как – на себе? На позвоночнике, что ли? Позвоночник тоже гниль, кости распухли, суставы ломит. Мозг, рождающий страшные образы, тоже полон сивушного яда. А душа? Душа пьянеет? Она подвластна алкоголю? Душа суть понятие философическое, во всяком случае, нематериальное. Какой-то чудак пытался доказать отсутствие души при вскрытии трупа. Вот мы разрезаем человека и ищем специальный мешочек из мышц или кожи, в котором упакована душа. Нет мешочка! Но если бы этот тип нашел мешочек, то стал бы утверждать, что душа материальна, а поэтому ее тем более нет. У Кима этот виртуальный мешок в наличии? Нет ответа.
Надо собрать с полу проклятые рукописи. Главное – не смотреть в текст. Собрать и отнести в мусорку. Но может быть, матери эта рукопись зачем-то нужна? Если нужна, то зачем прятать старые листы на антресолях? Сколько вопросов! Вот у Канта было всего два главных вопрос: он не мог постичь смысла звездного неба и наличие нравственных установок у человека. А у него, Кима Паулинова, есть нравственные установки? Надо прекратить этот поток сознания. Боже мой, как тошнит, мутит, томит и стонет его несчастное тело!
Необходим человеческий голос. Где его взять? Мать вне пределов досягаемости. По его подсчетам, она где-то в Швейцарии. Когда она уезжала, Ким спросил: «Это свадебное путешествие?» Ничего не ответила, только рассмеялась. Семена Львовича Ким не то чтоб не любил, много чести, он ему не доверял. Семен Львович знал все – эдакая ходячая энциклопедия. Понятно, что ему хотелось поделиться с человечеством своими знаниями. Он мог разговаривать десять часов подряд: о политике, об искусствах, о химии, каббале, правилах морского боя, тайнах звездного неба и нравственных устоях. Трепалась с ним мать с удовольствием, а замуж не шла. И как ей, бедной, должен был осточертеть собачий корм, если она все-таки решилась отдать руку (за сердце Ким не ручается) этому плешивому умнику. И ведь вот что удивительно. При таком интеллектуальном, возвышенном взгляде на мир у Семена Львовича везде был блат. Даже если ему нужно было купить ниппель для велосипеда, батарейку в часы, муфту для унитаза – он покупал эти вещицы у «своих людей». Может, они ему дарили всю эту мелочовку?
Кима вдруг обуяла злоба. Правда, на настоящую, сильную злобу не было сил. Так только – обидушка трепыхалась: мать его бросила, бросила одного. Если бы она была дома, никакая Софья Палеолог не посмела бы вломиться в комнату. Однако не будем повторять имя царицы всуе, потому что она где-то рядом.
Ким принялся судорожно листать записную книжку. Ленчику Захарченко звонить нельзя, жаловаться ему бесполезно, а если рассказать про ночные видения, он начнет ржать, как конь. Колька Танеев трудится, зелень зарабатывает, до него не достучаться. Никита… Никитон, вот кому надо позвонить. Он всегда дома и согласен слушать любую глупость. Дальше на «Н» шел нарколог. Ким продолжал обдумывать, как бы половчее задать Никитону вопрос, а рука уже сама набирала номер поликлиники. Иван Макарович оказался на месте.
Удивительной способностью обладал этот человек – он сразу узнавал по телефону голос клиента.
– Развязал? Плохо? Глюки? А ведь я тебя предупреждал. Нет, мой драгоценный, сам к тебе я приехать не могу. У меня прием. Раньше трех я не освобожусь. И потом ты сам вполне транспортабелен. По голосу слышу, да, да. Бери такси и приезжай. Деньги есть? Дуй. Тебе бы хорошо сейчас под капельницей полежать.