Наследство последнего императора Волынский Николай
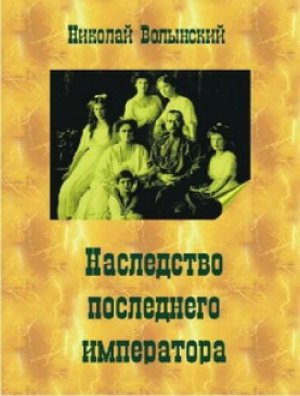
Н. Вилькицкая: Всегда очень интересно знать, как ведут себя люди, чьи ошибки или злонамеренные усилия скрыть истину вдруг становятся известны миру.
О. Куликовская-Романова: По моим жизненным наблюдениям, люди, добросовестно заблуждавшиеся, часто драматично, но столь же добросовестно принимают вновь открывшуюся истину. А мошенники и авантюристы – все едины. Им же не истина важна. А то, как на ней можно нажиться…»
Он бросил газету на пол, подошел к окну и открыл его. Но тут же снова захлопнул рамы.
Бензиновая вонь в этом квартале Москвы уже достигала уровня десятого этажа в такое жаркое лето от нее не было никакого спасения. «Скоро город задохнется в собственных автофекалиях, – подумал Петров. – Надо рвать отсюда. Но уезжать просто так, обычным эмигрантом, нет смысла. Надо ехать победителем. А для этого надо непременно дать сдачи этой ведьме. Обывателю ведь все равно – кто прав, кто виноват. Ему важно только одно: кто сильнее бьет противника…»
Нет, еще не все потеряно. Конечно, плохо, что именно на этом этапе дело попало в иностранную прессу. Но есть еще одно обстоятельство, о котором почему-то Куликовская ничего не говорит. Есть еще фотосовмещение снимков лиц Романовых и черепов из могильника. Поэтому правильной будет другая тактика: не вступать с ней в дискуссии, не опровергать доводы мадам по поводу генетического анализа, а спокойно продолжать свое дело.
– Именно так, – сказал вслух Павел Николаевич и засмеялся. – Она меня – из рогатки, а я ее – из гранатомета!
Публикация фотосовмещений в прессе, но еще больше – демонстрация процесса по телевидению сразу дало колоссальный общественный резонанс. Обыватель, разинув рот, смотрел на чудо, происходящее в его собственной квартире на экране собственного телевизора: на черные, страшные, оскалившиеся, в проломах, черепа накладывают фотографию – вот, оно, чудо: череп превращается в нежный лик царицы Александры или ее дочери. Тот же фокус прекрасно получался и с черепом императора, правда, недолго – пока не выяснилось вдруг, что для фотосовмещения с лицом царя использовался женский череп. Как можно было прошляпить такую простую вещь, Петров так до сих пор не понял. Вот тут-то и надо было остановиться, не давать никаких публикаций, ограничиться коротким сообщением о том, что комиссия работу закончила. И все. И возвратиться к теме только накануне похорон, ради которых и затевалось дело.
Все испортил Питер. На второй же день после того, как Петров вернулся в Москву, договорившись с коллегой предварительно, что ни тот, ни другой ничего в прессу давать не будет, в «Гардиан» напечатали огромную статью – беседу с Питером Холлом. Из интервью читающий народ узнал, что полученный результат – прежде всего заслуга специалистов Олдермастона. Себя он, правда, не назвал – еще не хватало! Но все было ясно и без намеков. Петрову он отвел роль челнока, участие которого в деле ограничивалось тем, что из Москвы он возил в Англию кости. А отсюда в Москву – уже готовые результаты блестящей работы, не имеющей аналогов в мире.
Новость подхватили крупнейшие информационные агентства мира. Пошли комментарии, в большинстве своем гадостные и опять о том же: почему генный материал брали у принца-консорта, дальнего и сомнительного родственника Романовых. Почему не у Куликовского-Романова? Почему держат в секрете подробности анализа и есть ли доказательства того, что костный материал взят действительно из могильника в Поросенковом Логу, а не в другом месте? Насчет «другого места» больше всех изгалялась левая пресса в России и за рубежом.
Масла в огонь подлил сам принц Филипп. Правильно говорят, что все эти нобили-аристократы в династических родах – сплошь кретины. Научно подтвержденный факт. Женились исключительно в своем кругу, и уже двести лет назад все европейские династии стали одной семьей, и с каждым годом родство становилось все ближе, и к началу двадцатого века пошло сплошное кровосмешение.
Принц оказался кретином. Его консортно-второсортное высочество решило: раз уж объявлено об идентификации костей, стало быть, смерть Романовых установлена и пора вступать в наследство. Адвокат принца вчинил иск[129] непосредственно кнессету государства Израиль, в котором истец потребовал передать ему половину зданий Русской православной миссии в Иерусалиме. Здания были построены в свое время на личные деньги его незабвенного четвероюродного дяди – русского императора Николая II. В кнессете поднялся крик: принц хочет ограбить бедных евреев, что является доказательством его антисемитизма. И пригрозили: если Филипп не образумится, что евреи всего мира объявят Англии финансовое эмбарго. Принц образумился мгновенно: наследство наследством, а почти все денежки Англии действительно у них. Пришлось иск отозвать.
А теперь, наверное, придется отозвать самого принца.
С этими донорами вообще беда. Попробовали Холл и Петров обратиться к известной Ксении Фирис – внучатой племянницы царя Николая. Она охотно согласилась поучаствовать. Прислала в конверте свою капельку крови и клок рыже-фиолетовых, явно крашеных, волос – с корнями, как ее и просили. Но тут же все испаскудила. И Холл и Петров умоляли ее помолчать, никому не рассказывать об их просьбе. Нет же, мочалка греческая! Тут же раззвонила. Натурально, снова вопли газетчиков по обе стороны океана – немедленно обнародовать результаты.
На этот раз Холл и Петров не заставили ждать, общественность была удовлетворена и получила точные и неопровержимые сведения о почти полном совпадении ДНК костей скелета № 4 и Ксении. Но и эта публикация тоже оказалась серьезной ошибкой. Потому что снова ничего, кроме издевательств и тупых шуток в газетах, она не принесла. Правда, демократическая русская пресса проявила невиданную дисциплинированность: у ее корреспондентов и экспертов никогда не было ни тени сомнения в том, что англо-русский дуэт генетиков способен выдать что-то неубедительное. Тут удалось подключить к делу одного из московских антропологов-любителей, и тот довольно скоро отлил из гипса головы дочерей царя. Отливки сравнивались с фотографиями, сделанными в 1917 году в Царском Селе, когда девочки были острижены наголо после кори. Только слепой не мог бы увидеть стопроцентного сходства. Но, увы, снова вышло плохо: в России работа вызвала восторг демпрессы, за рубежом – новые издевательства. Особенно интересовались западные ругатели фотографиями царских дочерей, по которым так удобно сверяться, «восстанавливая» внешний облик мертвых…
Тогда в наступление на оппонентов в атаку пошел следующий эшелон. Появились новые свидетельства – ясновидящих, пророков, каких-то стариков-журналистов, которым семьдесят лет назад якобы исповедовались участники расстрела царской семьи. Они подтверждали все, что выдвинула правительственная комиссия, что было в записке коменданта ипатьевского дома Юровского, полностью подтверждали истинность экспертизы Холла-Петрова.
Так что все было не так уж плохо. Наоборот, картина складывалась даже очень хорошо.
Вернее, почти хорошо. Самым неприятным и опасным моментом во всей истории с экспертизами оказалось требование противников провести стоматологическую экспертизу.
Вот это уже серьезно! И опасно. После стоматологической экспертизы уже ничего не надо – ни генного анализа, ни исторических, баллистических и других изысканий. Зуб человека – вещь предметная, никакой статистикой здесь не прикрыться. И царь, и царица, и дети постоянно пользовались услугами стоматологов. И даже в Тобольске Николаю местные врачи ставили пломбы. Их архивы сохранились. Так же, как стоматологические карты всей царской семьи в государственном историческом архиве.
Эта опасность была предусмотрена и вовремя нейтрализована. Главный архивист России Пихоя получил из генеральной прокуратуры указание – никому ни под каким предлогом стоматологические карты Романовых не выдавать. Ну, если только их затребует сам президент Ельцин.
Но самая большая опасность пришла с той стороны, откуда ее никто не ждал. Вдруг заговорил питерский профессор Военно-медицинской академии Вячеслав Попов, который был официальным членом комиссии и все эти годы вполне благонадежно молчал. Именно вдруг – потому что от него никто не ждал подвоха. В свое время, когда только начиналась свистопляска оппонентов, мэр Петербурга Собчак дал гарантию, что из Питера никаких глупостей не выйдет: «Народ, особенно эксперты, у нас дисциплинированный, – успокоил он следователя генпрокуратуры Соловьева, когда тот при встрече высказал опасения: что-то слишком уж тихо ведут себя потенциальные питерские враги – не готовят ли какую-нибудь гадость. – И не только дисциплинированный, но и образованный. Понимают, что в таком случае гадость обернется против них же самих», – добавил Собчак.
Удар, нанесенный Поповым, оказался поистине зубодробительным. Профессор сравнил расстрельный сценарий, который оставил после себя комендант дома Ипатьева он же – начальник расстрельной команды Юровский. Попову не понравилось, как Юровский организовал расстрел. Вернее, как тот описал его.
Баллистическая экспертиза екатеринбургских костей, которую Попов провел, выявила, что людей, чьи останки выкопали Рябов и Авдонин, расстреливали совсем не так, как описал Юровский. Какие-то противоречия и несовпадения можно было списать на плохую сохранность скелетов, неясность, неполноту материала. Но Попов выловил такие детали, которые разрушали всю картину. Он заявил, что люди, которым принадлежали скелеты № 4, 5 и 7, расстреливались сзади: пули били по их ногам, то есть жертвы пытались спастись бегством и уже успели убежать на значительное расстояние, прежде чем их настигли пули палачей. Так Попов уничтожил показания главного свидетеля – Якова Михайловича Юровского, которые были несущей опорой официальной версии.
Единственное, что еще оставляло надежды, – бульдозер, запущенный самим президентом Ельциным, уже никто не остановит. Он сминал всех на своем пути. И в итоге справился с еще одной, самой серьезной опасностью, грозившей с той стороны, где власть была не всесильна, – со стороны Свято-Данилова монастыря.
После Попова, которого демпресса размазала наиболее эффективным способом – просто не заметила его – самой большой проблемой оказался Патриарх Алексий II и Священный Синод. На высокопоставленных священников никакого впечатления не произвела вероятность персонификации царя величиной в 99,999 процента, ни безволосые гипсовые головы. Про компьютерное совмещение фотографий священство вообще не упоминало, давая понять, что уж эта экспертиза не стоит даже упоминания.
С самого начала попы держали паузу, которая казалась до неприличия долгой. А потом внезапно потребовали провести историческую экспертизу. Вот это уже очень нехорошо.
Павел Николаевич повертел в руках статью из еще одной вражеской газеты – «Правды». Эти докопались до аудиоархивов всесоюзного радио и вырыли магнитофонную запись, сделанную в радиокомитете в 1964 году. Это была беседа с Исаем Родзинским (Радзинским), екатеринбургским чекистом, который принимал самое активное участие в расстреле семьи и в сокрытии трупов. Этот Исай рассказал: «А вот что получилось с похоронами, так сказать, с укрытием следов. Получилась нелепая вещь. Нелепость заключалась вот в чем. Казалось бы, с самого начала нужно было продумать, куда деть трупы. Дело-то ведь очень серьезное. Паче чаяния, если белогвардейцы обнаружили эти останки, знаете, что бы они устроили? Мощи! Крестные ходы, использовали бы темноту деревенскую. Поэтому вопрос о сокрытии следов был важнее самого выполнения (расстрела – Ред.). Подумаешь там – перестрелять, неважно даже с какими титулами они там были. А вот ведь самое ответственное было, чтобы укрыть, чтобы следов не осталось, чтобы никто использовать это не мог в контрреволюционных целях. Это самое главное было. И это дело пошло на откуп Ермакову, что ли. Был такой товарищ. Считали, он местный человек, он все знает, как упрятать, а куда он думал упрятать – никого не интересовало. Он у нас в ЧК не работал. Он был известен как местный человек. И руководство местное решило, видимо, что вот, мол, он знает, чего, куда и как. Привлекли его для этого. И получилось с этим, знаете, страшенное дело. Кстати сказать, во время расстрела у изгороди этого дома бродил Голощекин. Он ходил с той целью, чтобы понять, мог кто-либо услышать, что там происходило.
Да, так вот. Надо было упрятать. Куда? Зарыть – чепуха, могут разрыть потом, найти по свежим следам. То же вот, что проделали – спустили трупы в шахты. Надо было понимать заранее, что это не путь, хотя бы потому, что будут знать, что здесь расстреляны, то уж как-нибудь проверят эти шахты, найдут. А что получилось. Этот самый Ермаков после того, как все это было проделано, повезли по его указанию в одну шахту… Послали в разведку двух человек. А поехали мы на лошаденках. Мы с Юровским посоветовались и решили, чтобы он поехал в город и доложил там, во-первых, что сделано, и, во-вторых, решили, что надо сюда обязательно керосин, серную кислоту. Ведь придется нам орудовать. И потом питание для группы. И он уехал. И вернулся потом уже с грузовиком. Вот так было дело.
Вернулся он и привез все эти бутыли с серной кислотой. И керосину полно, что-то там еще хорошего горючего. Он приехал уже поздно. И мы тут по очереди ходили дорогу охранять и в деревушку ходили. Кстати, там есть и у этого следователя показания из этой деревни, мы туда ходили по очереди молоко пить. И там, кстати, говорили, что облава на уголовных. Это единственная деревня была поблизости, больше ничего не было. Ну а когда Юровский вернулся, и разведчики наши через некоторое время пришли и тоже доложили, что нашли заброшенную где-то в балке шахту. Ну, это шахта была глубинная, потому что они лазали в нее и сказали, что там внизу топко и засосет. Мы тут и грузила приготовили. Ну, решили так, что часть сожжем, а часть спустим в шахту, либо всех сожжем. И что всех изуродовали все равно, потом иди различи. Нам важно, чтоб не оставалось количества. И потому, что по этому признаку можно было узнать захоронение. Ну а так что же, ну – расстрелянные были люди, брошены. А кто? Царь или кто.
Ну вот, погрузили мы их на машину, весь этот штабель, и решили двигаться по указанию этих товарищей, которые ходили в разведку. Шли мы там тоже с тяжелым сердцем, не зная, что же это будет за укрытие. Так толковали: то ли все это вообще сжечь к черту, думали об этом.
Видимо, так бы и поступили, хотя мы туда и двигались. Но тут произошло неожиданное. Вдруг наша машина на каком-то проселке застряла, оказалась трясина. Дело было к вечеру. Мы немного проехали. Мы все эту машину вытаскивали, еле-еле вытащили. И тут уже мелькнула мысль, которую мы и осуществили. Мы решили, что лучшего места не найти. Мы сейчас же эту трясину расковыряли. Он глубокая, Бог знает, куда. Ну, тут часть разложили этих самых голубчиков и начали заливать серной кислотой, обезобразили все, а потом все это в трясину.
Неподалеку была железная дорога. Мы привезли гнилых шпал, положили маятник через самую трясину. Разложили этих шпал в виде мостика такого заброшенного через трясину, а остальных на некотором расстоянии стали сжигать. Но вот, помню, Николай сожжен был, был этот самый Боткин, я сейчас не могу уже вам точно сказать, вот уже память. Сколько мы сожгли, то ли четырех, то ли пять, то ли шесть человек сожгли. Кого, это уже точно я не помню. Вот Николая сожгли – помню. Боткина и, по-моему, Алексея. Ну, вообще должен вам сказать, человечина, когда горит, запахи вообще страшные. Боткин жирный был. Долго жгли их, поливали и жгли керосином, там что-то еще такое было сильно действующее, дерево тут подкладывали. Ну, долго возились с этим делом. Я даже, вот, когда горели, съездил доложиться в город и потом уже приехал. Уже ночью было, приехал на легковой машине, которая принадлежала Берзину. Вот так, собственно говоря, захоронили.
Вопрос: Женщин, что ли, вы как-то отдельно отделили?
Радзинский: Нет, часть женщин тоже пошла сюда. А там уже в болото спустили, это, конечно, потому что, сколько они, конечно, ни искали, они все шахты перерыли, все шахты…»
Заканчивалось признание чекиста Радзинского редакционным комментарием: «Нет никаких оснований не верить показаниям Радзинского. Именно поэтому следует обратить внимание на два обстоятельства. И картина, которую нам рисуют пресса и телевидение, исходя из знаменитой записки Юровского, и фабула уголовного дела которую нам излагает следователь генеральной прокуратуры В. Соловьев, который тоже исходит из той же записки, – оказывается совсем иной.
Что же это за два обстоятельства? Юровский и Соловьев нам говорят что похоронная команда бросила трупы расстрелянных в шахты в урочище Четырех Братьев. Потом на другой день обнаружила, что трупы сверху видны. Вытащили их оттуда, сожгли «Алексея и хотели сжечь Александру Федоровну, но по ошибке (!) сожгли фрейлину», а остальные 9 трупов закопали тут же, в двух шагах от кострища, недалеко от деревни Коптяки. Закопали, сверху положили шпалы в виде мостика.
Все правильно. И прокуратура, и правительственная комиссия нам демонстрируют 9 выкопанных из этой трясины скелетов, среди которых отсутствует возможные Алексей и Анастасия. Где здесь правда? Анастасия просто так исчезнуть не могла. Один раз Юровский «ошибся» – принял фрейлину за императрицу, хотя за время его комендантства каждый день видел и ту, и другую. И если он ошибся, следовательно, главный чекист был в стельку пьян или же он просто врет. Потому что он потом не только фрейлины от императрицы отличить не смог. Он не отличил семнадцатилетнюю девушку Анастасию от сорокалетней женщины, к тому же довольно крупной – от Анны Стефановны Демидовой. Но если Юровский был трезв и говорит правду, то как же Демидова, которую он «сжег», оказалась сегодня в захоронении в Поросенковом Логу?
Второе обстоятельство – показания Радзинского. До шахт вообще не доехали. Сожгли не Алексея, а Николая – «это точно помню». И Боткина «долго жгли – он жирный был». Уничтожили, как минимум, 4 трупа, но, может, быть 5 и даже 6. Тогда откуда в могильнике взялись два лишних скелета? А может, четыре? А может и пять лишних? Уж не Рябов их туда подбросил, как подбросил черепа? И уж во всяком случае, там не должно быть скелета № 4, о котором знаменитый «совмещенный англо-русский генетик мистер Холл-Петров» говорит, что это – тот самый скелет Николая II, потому что: «вот Николая точно помню – сожгли». Скелета Боткина в Поросенковом Логу тоже быть не должно. А он, по утверждению «экспертов» из госкомиссии, в их распоряжении имеется.
Исключительно важное значение имеют показания свидетелей и участников относительно того, сколько времени у них заняла процедура сжигания трупов. По Юровскому – всего полтора-два часа. Больше времени у него не было – наступил рассвет. Радзинский же с неопровержимой уверенностью заявляет, что он успел и в город съездить «доложиться», и вернуться. Уехал он ночью и вернулся тоже ночью, следовательно, отсутствовал не менее двенадцати часов, чем и опровергает Юровского.
Но если все же верить Радзинскому, то под мостиком из шпал вообще никого не должно быть, потому что, по показаниям Радзинского, уложили они «этих голубчиков» в трясину, глубокую в которой за 70 лет трупы должны исчезнуть бесследно».
Павел Николаевич аккуратно сложил газету несколько раз, пошел на кухню, снял крышку с мусорного ведра и бросил газету туда. Прикрыл крышкой и вернулся в комнату.
Посидел там немного, потом вернулся на кухню, достал газету из ведра, расправил ее, отбросил прилипшую яичную скорлупу и колбасные шкурки. Достал из ящика стола обычную канцелярскую папку, написал на ней красным фломастером огромными буквами «ОСОБАЯ ПАПКА». Вот. Теперь у него, как и у Ельцина, есть своя особая папка.
Да, в такой ситуации соглашаться на историческую экспертизу – гроб. Но нужно дать сдачи. Ответ должен быть такой, чтобы сразу можно было убить пять-шесть зайцев. Наповал. К примеру: «Можно и даже нужно не доверять и Юровскому, и Радзинскому одинаково. Память человеческая несовершенна. Прошло много времени. Человек что-то забывает, а что-то и выдумывает и потом свято верит в свои выдумки… Мы имеем право верить только объективной научной истине. Поэтому нужна еще одна экспертиза, чтобы после нее вообще не осталось скептиков, которая убедит всех…»
На этом пути, правда, есть еще одна видимая опасность. Враги требуют, чтобы для извлечения ДНК Николая II использовать материал даже не Куликовского-Романова, а самого императора. Для этого надо поехать в Японию. Там, в одном из музеев Токио хранится повязка с засохшей кровью Николая. Факт известный: Николай, еще тогда цесаревич, путешествовал со своим кузеном греческим принцем Георгием. В городе Оцу они посетили местный храм, где Николаю вздумалось предложить кузену пари: кто из них одним выдохом погасит больше всего свечей. Выиграл Георгий. А заплатил за все Николай. У входа в храм его уже поджидал полицейский, которому япошки уже нажаловались. И полицейский, возмутившись тем, что русские своим поведением осквернили святое место, шарахнул цесаревича саблей по темени.
Николаю тогда на редкость повезло: клинок прошел по касательной, срезал часть скальпа и отбил небольшой осколок черепной кости не толще бумажного листка. Второй раз японец промахнулся, поскольку цесаревич бежал резвее зайца. А Георгий, в руках которого была крепкая бамбуковая трость, вступил в неравный поединок с полицией и отбил атаку. Николая перевязали местные эскулапы, рана была легкой, и через несколько дней он повязку снял, преподнеся ее в дар мэру города Токио, который очень будущего императора за подарок благодарил.
Этот исторический факт вспоминал каждый второй оппонент. Где костная мозоль на черепе № 4? Почему ее нет? Почему не взяли на анализ материал ДНК с окровавленной повязки? Возьмете – не ошибетесь…
Нужен абсолютно верный ход. Максимально эффективный удар. Наповал. Чтобы оппоненты уже не поднялись. И замолчали – раз и навсегда. И пока Павел Николаевич вырезал пакостную статью из газеты, ему пришла в голову простая и гениальная мысль.
Он отбросил в сторону газету и ножницы, схватил телефонную трубку и позвонил в приемную первого заместителя председателя Совмина Немцову. Именно Боря-Пудель, как ласково называют его в народе, теперь возглавил комиссию по «царским» костям. Ярова Ельцин отстранил, слишком уж затрепали Юрия Федоровича газетах, одно лишь упоминание его фамилии вызывает раздражение. Президент резонно посчитал, что Немцов дело поведет энергичнее, тем более, что Борис Ефимович давно доказал всей прессе, что она ему – до фени. Он всегда плевал на газетчиков и в полемику с ними ввязываться считал непродуктивным. Правильно. Пресса так и не смогла в итоге добиться от него хоть какой-нибудь конкретики. Он как-то хорошо высказался на этот счет:
– С прессой, – сказал Немцов, – надо себя вести как с маньяком и серийным убийцей. Тот обычно спрашивает жертву: «Жить хочешь? Боишься меня?» – «Конечно, боюсь. Конечно, хочу жить», – отвечает жертва и тем немедленно приговаривает себя к смерти, потому что она сказала то, что всегда хочет услышать маньяк. Ему-то именно страх жертвы доставляет наслаждение. Но если он слышит: «Нет, не боюсь. И жить не хочу – надоело!», так маньяк тут же теряется. Задуманное теряет для него смысл, и он не знает, что делать дальше. У жертвы появляется шанс».
Петрова соединили немедленно.
– Ну, привет, Паша! – сипловато сказал Немцов. Перейдя на работу в Кремль, он быстро усвоил хамскую привычку говорить «ты» всем, кто ниже должностью. – Давай по-быстрому! Времени нет, государство требует. Мне к Деду[130] надо, что-то он там икру мечет.
– Борис Ефимович, надо поговорить, – попросил Петров. – Возникли чрезвычайно важные обстоятельства.
– Ну, шустро! – приказал Немцов.
– Я не могу по телефону.
– А чего так? – поинтересовался вице-премьер. – Все могут по телефону, один ты таки не можешь.
– Объясню при встрече, – заявил Павел Николаевич, вложив во фразу всю свою решительность. – Очень важно!
Немцов задумался.
– М-да… Что ж с тобой делать? Ладно! – согласился вице-премьер. – Только завтра. Можешь до завтра подождать?
– Могу, – ответил Петров. – В котором часу?
– Так… Давай, подгребай ко мне утречком. Часов в восемь.
– Хорошо. Спасибо.
– Ой, нет, стой! – воскликнул Немцов. – Ничего не выйдет в восемь. Так… Приходи в шесть часов тридцать минут. Утра. Все! Будь…
– Борис Ефимович! Не кладите трубку! Я не понял, – поспешно перебил его Петров. – Вы сказали в шесть тридцать дня? Вечера, то есть? Правильно?
– Нет, неправильно! – отрезал Немцов. – В шесть тридцать утра – утречком! – и отключился.
Павел Николаевич положил трубку и покрутил головой. Ну, артист! В половине седьмого. Не спит он вообще по ночам, что ли?
Он набрал номер междугородней и попросил Лондон, назвав домашний телефон Питера Холла.
– Hi! – послышался в трубке высокий, чуть дребезжащий голос. Это был Питер. Те, кто звонил ему в первый раз, неизменно думали, что трубку взяла женщина и просили позвать к телефону ее мужа. – It's Pol[131]?
– Yes, I'm. You have found out me. I shall not be rich[132], – с легким огорчением пошутил Петров.
– Что-нибудь случилось? Пожар? Наводнение? Землетрясение? Зюганова выбрали президентом?
– Хуже, – ответил Петров.
– А что может быть хуже президента Зюганова?
– Только президент Зюганов, – согласился Петров. – Слушай внимательно. Есть замечательная идея. Окончательное решение вопроса!
– Это как у мистера Гиммлера? – хохотнул Холл. Из телефонной трубки была слышна музыка: компьютерным пружинным голосом гнусаво скрипела Аманда Ли. Потом какая-то бабенка взвизгнула два раза – натуральная. Нет, похоже, их там две.
– У нас еще круче! У нас будет окончательный диагноз! Мы с тобой поставим его через пару недель. И ни одна морда, ни одна Куликовская-Романова не посмеет возразить. И папа римский тоже.
– Ну, римскому, положим, все равно. А вот ваш папа православный… этот… «Старый папаша…»
– Патриарх, – подсказал Петров.
– Да. Он нам еще нагадит!.. Откуда вы его такого выкопали? Тоже из Поросенкова Лога?
– Нет, – ответил Петров. – Из Эстонии.
– А это что за деревня? – поинтересовался Питер. – В какой губернии? Я что-то не слышал.
– Эстония, Питер, – мягко сказал Петров, – это такая сильная мировая сверхдержава, которая может плевать в лицо России по десять раз в день и ничего ей за это не будет. Значит, принимается?
Холл что-то пробормотал в трубку. «Пьян уже, что ли?» – с досадой подумал Петров. Сам он никогда в жизни не пробовал вкуса спиртного и пьющие вызывали у него состояние тоски пополам с брезгливостью.
– Не понял! – крикнул он в трубку. – Повтори!
Холл откашлялся.
– Хочу сказать, – сообщил он ясным и нисколько не пьяным голосом, – что мне все это надоело. Мы сделали свою работу, получили свои деньги. Заплатили налоги. Что еще?
– Но ведь наше правительство никак не решается сказать внятно: «Все решено! Это семья царя!»
– Знаешь, Пол, – заявил Холл. – Это проблемы твоего правительства. Пусть наймет хорошего адвоката.
Петров почувствовал, как в нем закипает раздражение.
– Оно не будет искать адвокатов. Вся надежда на нас.
Холл, похоже, стал терять терпение.
– Слушай, Пол, – сказал он недовольно. – Я здесь не один, понимаешь? Позвони завтра – сможешь? Или лучше через неделю.
– Пит! – обиделся Петров. – Я понимаю, старик, к тебе гости дамы приходят не часто. Но и я не могу ждать неделю. И ты тоже. Мы не можем ждать еще неделю. Надо поторопиться. Дорог каждый день. Нам нужен только один анализ. Всего один. Окончательный!
Холл захохотал. Потом послышалось звяканье стакана, звуки крупных глотков. «Ну, скотина! Что он там пьет?» – подумал Павел Николаевич.
– Так ты говоришь, окончательный? – благодушно спросил Холл. – Десятый? Или двенадцатый окончательный?
– Окончательно окончательный! – нажимом произнес Павел Николаевич. – Это почти то же самое, что у тебя будет с твоей подружкой через час. Или когда там…
Пит хихикнул.
– Я всегда подозревал, что ты экстрасенс. Но я бесплатно не работаю. Даже на русских экстрасенсов. Вернее, как раз на русских экстрасенсов я бесплатно не работаю.
– Не волнуйся, – успокоил его Павел Николаевич. – Ефимыч заплатит. Я завтра с ним встречаюсь.
– Кто такой Эффымыч? Кто платит?
– Боря. Клиент надежный, – заверил коллегу Петров. – Наш работодатель.
– Йелтцын? – догадался Холл.
– Другой Боря, – уточнил Павел Николаевич. – Да ты его знаешь. Немцов. Тоже Боря.
– А, этот… Его в ваших газетах называют Пуделем.
– Он, он! Завтра иду к нему.
– Теперь он наш босс? Почему?
– Так лучше. Я только что с ним говорил. Сделаем все хорошо – получим премиальные. И, кроме того, надо отправить материал в Канаду, округ Торонто, для мадам Куликовской-Романовой. Раз уж ей так хочется, пусть она тоже сделает анализ или кто там у нее по этой части… Подробности потом, при встрече. Самое большее, через неделю. Поэтому я не могу позвонить тебе через неделю, потому что надо уже работать.
– Хм… Что ты там надумал?.. – он сказал что-то своим гостям, и музыка оборвалась. – Выкладывай.
– Подробно не могу, – предупредил Петров.
Он в нескольких обтекаемых формулировках изложил суть. Холл ухватил ее сразу.
– Yes, well. Идея вроде неплохая… Ход гениальный. Но все зависит от исполнения. Какая-нибудь мелочь, соринка в глазу – испортят все бесповоротно. И на всю жизнь карьеру – тебе и мне.
– Будь спокоен! – заверил Павел Николаевич. – Мы просто-таки обречены на успех.
В половине седьмого он уже был в приемной Немцова. Тот тоже ухватил мысль с полуслова и вызвал референта. Появился парень лет двадцати пяти.
– Яковлева[133] мне! Питерского. Быстро!
Через полминуты референт вернулся.
– Борис Ефимович! У него в кабинете только ночной дежурный. Самого губернатора еще нет на работе.
– Я тебе что сказал? – рявкнул Борис Ефимович. – Я что – спрашивал, кто у губера в Питере в кабинете сидит? Я тебе сказал: найди Яковлева! Быстро!
Референт выпорхнул за дверь.
– Вот работнички, – пожаловался Немцов. – Профессионалы, мать их за ногу, с высшим образованием и с родителями – лучшими друзьями Деда. Ни хрена делать не умеют, все самому приходится…
Референт появился снова.
– Яковлев на проводе. Из Женевы.
Немцов взял трубку.
– Анатольич! Доброе утро вам в ваших Женевах!.. Что? Нет, от меня еще никому скрыться не удавалось… А вот разведка у меня такая! А почему ты спишь, когда правительство свободной России пашет, не разгибая спины, и в Москве, заметь, пашет, а не в твоем Питере… И не в озере женевском купается. Потому что там вода дохлятиной воняет, а настоящий русский патриот купается… хм… а где же это я купаюсь? – вдруг задумался Немцов. – Уже и забыл… Короче! – приступил он к делу. – Я насчет твоих костей… Извини, оговорился! Насчет царских. Нужно ставить точку. И ты так думаешь? Ну, как раньше, как можно было все сделать раньше, я тебя спрашиваю, господин губернатор?! Почему вы там, в Питере, только указания давать умеете, а вот, чтоб взять да и поработать с костями – так нет же! По Женевам разъезжаете. Еще и рулетку играешь, небось… Как Достоевский. Ну – не обижайся, Анатольич! Что, уже и пошутить нельзя? У тебя чувство юмора пропало? Меньше по бабам ходить надо: Женева – город маленький, сразу вся Москва все узнаёт! Так вот: приедет к тебе профессор Петров – ну, тот самый, наша, можно сказать, самая лучшая хромосома, только без дезоксирибонуклеиновой кислоты!..[134] Уникум! Так вот, приедет он. Ему нужен образец материала для окончательной экспертизы. И на этом закончим болтовню и пойдем заказывать гробы для царя и царицы! Надо создать условия… Ты не приедешь? Заместитель займется? Кто конкретно? Хорошо. Ну, будь здоров! И не объешься там швейцарским шоколадом – дерьмо, скажу тебе, настоящее. И за что его хвалят? Нет, конечно, я не прав. Дерьмо – оно лучше ихнего швейцарского шоколада… А я только швейцарский сыр признаю… Пока!
Немцов швырнул трубку на селекторную панель. Откинулся в кресле, некоторое время смотрел на Петрова, словно видел его впервые, потом сказал:
– Ну? Слышал? Все! Или еще что-то?
Петров встал. Пожимая руку вице-премьеру, сидящему за столом, он робко сказал:
– Да, Борис Ефимович… Тут еще пустяк. Тут это… надо… суточные, командировочные. И Холл без гонорара работать не будет.
Немцов сделал удивленное лицо.
– О чем ты говоришь? А кто будет работать? Какой дурак?
– Да почти вся Россия работает, – осмелился пошутить Петров и тут же пожалел об этом.
– Ну, ты мне тут мозги не компостируй! – строго заметил Немцов. – Тут не зюгановский партком. А своему Холлу – как его там… так и скажи: будет ему гонорея! Разве вам хоть раз задерживали? Ты, по-моему, должен оценить заботу государства: да, по всей России никому зарплату не дают, а тебе и твоему fuck in Gill'у[135] ни разу не задерживали. Я скорее тебе не дам, а ему выплачу. А почему? А потому, что мы свои люди – сочтемся, а эти скупердяи за шиллинг мать родную угробят… Ну – все, пошел!
Через четыре дня настоятель царскосельского Федоровского собора, готовясь к утренней службе и проходя мимо иконы Пресвятой Девы у иконостаса, заметил что-то необычное. Будто блеснуло что-то на строгом лике Пречистой. Батюшка пригляделся и сквозь стекло разглядел капельку. Она показалась из угла правого глаза Матери Божьей и скользнула вниз по лицу.
Настоятель припал к иконе и почувствовал, как у него на голове зашевелились волосы и медленно поднялись дыбом. Он рухнул на колени и широко осенил себя крестом.
– Чудо! Страшное чудо!.. – гулко разнесся под сводами собора его вопль. – Матерь Божья плачет!.. Плачет!
Вбежали дьякон, две старушки-служительницы и тоже упали на колени около иконы. Запричитали, закрестились… Потом дьякон тихонько поднялся, зашел с обратной стороны иконы и долго рассматривал ее. Открыл дверцу киота, увидел черную гладкую изнанку доски, на которой была написана икона. И больше ничего. Он закрыл дверцу, подошел к лицевой стороне, долго рассматривал ее, изучая по миллиметру, покачал головой и оглянулся на священника.
– Господи! – голос его дрогнул. – И в самом деле – чудо…
Священник только вертел головой, не в силах произнести ни слова.
По лику Богородицы скатилась третья слеза.
– Плачет, – голосили пораженные старушки. – Горе, горе случилось. Плачет[136]!
В ТОТ ЖЕ вечер местное телевидение показало, как неназванные эксперты и специалисты утром вскрывали гробницу великого князя Георгия Александровича – родного брата последнего русского царя. Мелькнули на экранах лица директора музея истории города, какой-то прокурор в форме, показали и Павла Николаевича, вскользь – просто «мазнули» видеокамерой в панораме. Ненадолго камера задержалась на потревоженном покойнике в зеленом мундире лейб-гвардии Преображенского полка. Сукно мундира выглядело удивительно свежим, хотя гроб с великим князем пробыл более полувека в подпочвенной воде – она в Великокняжеской усыпальнице поднимается высоко два раза в году, во время наводнений. Диктор сообщал:
– Ученые и эксперты взяли образец генетического материала для окончательной идентификации так называемых екатеринбургских останков, о которых уже всему миру известно, что они принадлежат государю императору Николаю Второму, членам его семьи и их верным приближенным, которых большевики зверски расстреляли в июле 1918 года. Но скептики не унимаются. Поневоле приходишь к выводу, что им научная истина не нужна – в той же мере, как им не нужно и восстановление исторической справедливости. Но уж теперь, когда будут проведены последние опыты в самой лучшей в мире английской лаборатории, ни у кого, даже у самых заклятых и проклятых оппонентов, не останется никаких сомнений. Теперь они даже не будут иметь права продолжать свои нападки! Мы им такого права не дадим! То есть, наука не даст!
А еще через месяц после этого замечательного события профессор Попов сообщил прессе:
– Я самым внимательным образом изучил результаты поистине титанической работы господ Холла и Петрова – генетиков, известных, наверное, теперь всему миру. Последний их отчет оказался самым подробным и убедительным, по сравнению с теми документами, которые исследователи считали нужным обнародовать ранее. Последняя их экспертиза обнаружила удивительнейшую вещь. Я бы даже сказал – сенсационную! Оказалось, что митохондрическая ДНК великого князя Георгия Александровича и ДНК скелета № 4, предположительно императора Николая II, абсолютно совпадают! По всем параметрам. Сходства между геномами обоих больше, чем бывает даже у однояйцевых близнецов. Но это еще не все. В митохондрической ДНК Георгия Александровича обнаружено мутационное изменение. И точно такая же мутация обнаруживается у скелета № 4. Если это простое совпадение – как говорится, так карты вышли, – то надо знать: статистически подобное случайное совпадение возможно только раз в 1000 000 лет. Вероятность настолько мала, что на нее не стоит рассчитывать…
23. ДЕТИ. ИЗ ТОБОЛЬСКА В ЕКАТЕРИНБУРГ
Тобольск, 24 апреля 1918 г.
Воистину Воскресе!
Моя хорошая Машка душка! Ужас, как мы были рады получить вести, делились впечатлениями! Извиняюсь, что пишу криво на бумаге, но это просто от глупости. Как вы все? Видишь, как всегда, слухов количество огромное, ну и понимаешь трудно и не знаешь, кому верить и бывает противно т. к. половину вздор. А другого нет, ну, и поэтому думаем верить. Кл. Мих. [137] приходит сидеть с маленьким. Алексей ужасно мил как мальчик и старается… Мы завтракаем с Алексеем по очереди и заставляем его есть, хотя бывают дни, когда он без понукания ест. Мысленно все время с вами, дорогими. Ужасно грустно и пусто, прямо не знаю, что такое. Крестильные кресты[138], конечно, у нас, и получили от вас известие, вот Господь поможет и помогает.
Ужасно хорошо устроили иконостас к Пасхе, все в елке, как и полагается здесь, и цветы. Снимались мы, надеюсь, выйдет. Я продолжаю рисовать, говорят – не дурно, очень приятно. Качались на качелях, вот когда я падала, такое было замечательное падение!.. Да уж! Я столько раз вчера рассказывала сестрам, что им уже надоело. Но я могу еще массу раз рассказывать, хотя уже некому. Вообще мне вагон вещей рассказать вам и тебе. Мой Джимми проснулся и кашляет, поэтому сидит дома, шлет поклоны. Вот была погода! Прямо кричать можно было от приятности. Я больше всех загорела, как ни странно, прямо арррапка! А эти дни скучные и некрасивые, холодно, и мы сегодня утром померзли, хотя домой, конечно, не шли… Очень извиняюсь, забыла Вас Всех моих любимых поздравить с праздниками, целую не три, а массу раз Всех. Все тебя, душка, очень благодарят за письмо.
У нас тоже были манифестации, ну и вот – слабо.
Сидим сейчас как всегда вместе, не достает тебя в комнате… Конечно, извиняюсь, что такое нескладное письмо. Понимаешь, мысли несутся, а я могу все написать и кидаюсь на что в башку влезет. Скоро пойдем гулять, лето еще не настало и ничего не распустилось, очень что-то копается.
Так хочется вас увидеть, знаешь – грустно! Уходила гулять, ну вот и вернулась. Скучно и ходить не выходит, качались. Солнце вышло, но холодно и рука едва пишет.
Милые и дорогие, как Вас жалеем! Верим, что Господь поможет – своим!!! Не умею и не могу сказать, что хочу, но вы поймете, надеюсь.
Приветы передали в точности, и Вам большое спасибо и тоже самое. Как тут приятно, все время благословляют почти во всех церквах, очень уютно получается.
Вчера мы ходили смотреть свиней маленьких. В нашем садике грязь, но сейчас подмерзло. Так скучно, от Кати нет известий ужас как давно. Вот был смех с дороги. Это надо будет лично рассказывать и посмеяться. Только что пили чай. Алексей с нами и мы столько сожрали Пасхи, что собираюсь лопнуть.
Когда мы поем между собой, то плохо выходит, т. к. нужен четвертый голос, а тебя нет, и мы по этому поводу острим ужасно. Ужасно слабже, но есть и смешные анекдоты. По вечерам сидим, вчера гадали по книгам. Тебя и вас поцеловать и многое т. п. не буду распространяться, а Вы поймете.
Ну, кажется, достаточно глупостей написала. Сейчас еще буду писать, а потом почитаю, приятно, что есть свободное время.
Пока до свидания. Всех благ желаю Вам, счастья и всего хорошего, постоянно молимся за Вас и думаем, помоги Господи. Христос с Вами, золотыми. Обнимаю очень крепко всех… и целую!»[139]
Поставив точку, Анастасия сложила письмо вчетверо, вложила его в конверт и, лизнув клеевую полоску, запечатала. Лизнула и марку и налепила ее, как положено, в правый верхний угол. Марка была маленькая, с тускло напечатанным рисунком развернутого красного знамени, на котором написано белыми большими буквами «Р.С.Ф.С.Р.» Цена обозначена не была.
Она подумала и написала адрес: «Екатеринбург, Уральский облисполком для Романовой Марии Николаевны от Романовой Анастасии Николаевны из Тобольского Дома свободы». Так посоветовал направлять письма отец, приславший сразу по прибытию в Екатеринбург коротенькую записку, заверяя, что это самый надежный путь. Пока заверения не подтвердились: Анастасия отправила уже два письма, но ответов не было, впрочем, вряд ли и могли быть, потому что прошло только шесть дней.
Потом она долго смотрела в окно, на голые ветки деревьев. Кое-где ветки были окутаны зеленоватой дымкой – распускались почки. Весна такая же здесь, как и дома в Петрограде или в Царском. Дорога была черной и раскисшей, через нее перебиралась толстая дымчатая кошка из дома напротив. Она тяжело перепрыгивала через лужи и после каждого прыжка останавливалась и брезгливо отряхивала лапы. Вдруг остановилась, ощетинилась, зашипела, раздула хвост трубой, развернулась и помчалась обратно, не разбирая дороги. Из подворотни «Дома свободы» выскочил Джой, спаниель Алексея, и помчался за своим извечным врагом. Анастасия знала, что он никакого вреда кошке принести не мог – у спаниелей челюсти устроены так, чтобы они могли только приносить хозяину дичь в целости и сохранности, не повредив. Но кошка об этом, вероятно, не знала и предпочла забраться на первое же дерево. Там она устроилась на толстом суку и принялась спокойно и обстоятельно чистить свою дорогую шубку, которая немножко испачкалась во время бегства. Простачок Джой бегал вокруг дерева, лаял до захлеба и все пытался подпрыгнуть повыше, но у него ничего не получалось, потому что Джой за последнее время невероятно разжирел. Алексей жаловался, что пес стал шляться по помойкам и жрать там все подряд. Никто в округе спаниеля не трогал, даже мальчишки: все знали – это «царская собака», значит, вечно голодная. Всем также давно было известно, что Романовы сильно нуждаются – опять задолжали всем, кто был способен был дать взаймы. Анастасия как-то подслушала, как повар Харитонов и генерал-адъютант Долгоруков говорили родителям: «Больше нигде в долг не дают. В мясной лавке тоже сказали, в последний раз отпускают».
Отец предложил тайком продать что-нибудь из драгоценностей, но Валя Долгоруков замахал руками: «Ни в коем случае, ваше величество! Это опасно. Тут стоит только начать. Таких ювелиров и покупателей, как в Петрограде, здесь нет, значит, справедливой цены никто не даст. К тому же совдепы запретили торговлю драгоценностями. Нужно отдавать властям за бесценок. Все равно, что даром. Это не выход». Но отец настаивал, мать тоже его поддержала, и тут вмешалась Демидова. Она высказалась, как всегда, точно и резко: «Государыня! Как только пойдет слух, что вы готовы с чем-то дорогим расстаться, вас просто начнут грабить. Вот у меня есть свободных четыреста рублей. Пусть Иван Михайлович сходит в лавку».
– Никогда! – вскричала мать. – Никогда! Я не могу взять ваши теньги, Анюточка! Это ваш святой заработок! Мы и так задолжали прислуге, повару – всем! Нет, не могу! Надо что-то продать.
– Ваше величество, – возразила Демидова. – Мы здесь в одной лодке, все равно как у Ноя. И если вы запрещаете мне предложить вам – взаймы, конечно! – деньги только потому, что они от прислуги, то я вам скажу так: вы меня очень обидите, если откажете!
Мать расплакалась, обняла Демидову и говорила сквозь слезы:
– Нюта, Нюточка милая! Доброе русское сердце! Дитя мое… Ну, как же я могу думать вас обидеть. Это просто невозможно! Вы же мне родная!..
– Вот и хорошо! – удовлетворенно сказала Анна Стефановна, поцеловала матери руку и сказала повару: – Пойдемте, Иван Михайлович. – И уходя, добавила: – Бог нас не оставит. Чем-нибудь да поможет.
И, правда, через два дня от Аннушки Вырубовой человек привез сорок пять тысяч рублей. Рассчитались по долгам, даже две тысячи дали полковнику Кобылинскому для солдат – это еще до приезда комиссара Яковлева. Строили планы: у Марии совсем прохудились ботинки, Анастасия в свои уже не влезала – нога выросла за зиму на два размера, хоть плачь! Но тут приехал комиссар Яковлев и забрал родителей и Машку, и стало очень тоскливо.
Перед отъездом оставшиеся двадцать тысяч поделили пополам. Мать передала половину Ольге.
Они остались вчетвером. Тоска после первых же часов разлуки напала страшная. Единственное, что утешало и успокаивало Ольгу, – с ними были по-прежнему добрый Евгений Степанович Кобылинский, Жильяр, доктор Деревенько и матрос Клементий Нагорный. По вечерам девочки, как всегда, занимались духовным пением, а вчера погода стояла такая теплая, что окна в комнате Ольги открыли. И когда они втроем (Алексей даже на балалайке своей перестал бренчать) перед открытым окном спели «Богородице Дево, радуйся», то духовная радость так переполнила их сердца и души, что все вокруг и их новая жизнь – тюрьма, внезапная бедность, постоянные обиды и унижения – все исчезло и растаяло без следа.
– Все, – сказала Татьяна, вытирая слезы, когда они закончили. – Сегодня больше не могу. И больше никогда петь не буду.
И тут за окном внизу раздались аплодисменты. Ольга выглянула. Там стояли десятка полтора местных.
– Спаси вас Бог, дочки! Как славно поете, – сказала какая-то пожилая крестьянка и перекрестила Ольгу.
На следующий вечер после этого случая случилось событие, доставившее им четверым еще большую духовную радость.
С первый дней пребывания в Тобольске с ними стала заниматься русским языком, литературой и математикой Клавдия Михайловна Биттнер, жена полковника Кобылинского. Она приехала осенью, познакомилась с детьми, беседовала с ним часа полтора, потом внимательно изучила их учебники.
– Странно, – сказала она отцу. – У вас очень милые, совсем не глупые дети, они любят слово, тянутся к знаниям, но почему у них такие плохие учебники? Это даже не уровень прогимназии. По таким учебникам и земских школах теперь не учатся.
Отец, конечно, обиделся, хотя виду не подал.
– А что бы вы, Клавдия Михайловна, порекомендовали? – спросил он, входя вместе с ней в классную – специально отведенную комнату для занятий.
– Первоисточники – прежде всего. Я не вижу у вас на полках наших величайших талантов – Тургенева, Островского, Достоевского, Толстого… Правда, вижу Щедрина…
– А граф Толстой отлучен от церкви! И анафема ему была! – выпалила Анастасия.
Клавдия Михайловна внимательно посмотрела на нее.
– Отлучен… да, – сказала она. – А за что?
Дети молчали и ждали, что она скажет.
– Не знаете… – проговорила Биттнер. – Вопрос отлучения графа Толстого от церкви – это вопрос религиозный. В нем есть свои особенности, которые нужно сначала изучать и потом обсуждать отдельно. Если, конечно, у вас окажется достаточно желания и… смелости. Но писатель Толстой? Нас с вами от его лучших книг никто не отлучал. Я не могу себе представить, как бы я жила, если бы не прочла и не знала «Войну и мир», «Анну Каренину», «Воскресение», «Крейцерову сонату».
– А мы вот живем почему-то! Ужас! – пожаловалась Мария и тяжело вздохнула.
Клавдия Михайловна была, очевидно, опытной учительницей и насмешку ученицы мимо не пропустила.
– Выражаю вам, Мария Николаевна, свои соболезнования, – с нескрываемой иронией произнесла Клавдия Михайловна. – Но могу вас утешить: на свете есть больше миллиарда людей, которым тоже совершенно никакого дела нет до «Анны Карениной». Но, думаю, тем не менее, среди них найдутся те, кто сможет назвать себя вполне счастливыми. Более того, скажу вам откровенно: потому-то и счастливыми многие себя чувствуют, что не читали Толстого. Потому что если бы прочли, то счастья у них поубавилось бы! И душа их стала бы чувствовать чужую боль. Какое уж тут счастье!.. Правда? А Достоевский их и вовсе бы заставил страдать. Но тот, кто способен страдать вместе со студентом Раскольниковым и мучиться и радоваться вместе с Пьером Безуховым, мне не в пример кажутся больше человечными, нежели их совершенно счастливые собратья. Хотя, должна вам сказать, у очень многих таких счастливцев можно очень много найти собратьев в ближайшем свинарнике или около любой другой кормушки.
Она увидела, что царским детям не понравились ее слова. Однако хорошо ощутимый холодок, повеявший в учебной комнате, ее не смутил.
– Вы хотите сказать, уважаемая Клавдия Михайловна, – сказала рассудительная Ольга, – что счастливец, не умеющий страдать, менее человечен, нежели тот, кто испытал страдания?
– Я не могу утверждать наверное – для каждого конкретного случая. Но, как правило, именно так в жизни и бывает, – подтвердила Клавдия Михайловна. – Кто может знать, что такое день, если он никогда не видел ночи? Кто может знать счастье, если он никогда не горевал?.. Кто может знать любовь, если он не знал ненависти?.. Но вернемся к литературе. Некрасов… Вы знаете Некрасова?
Дети отрицательно покачали головами.
– В самом деле? – и учительница продекламировала:
- Идет-гудет зеленый шум.
- Зеленый шум, весенний шум…
– Я знаю! – крикнул Алексей. – Я! Эти стихи мне Петр Васильевич читал!
– Кто такой Петр Васильевич? – спросила Биттнер.
– Наш учитель русского языка. Он всех нас учил. Я у него был пятым. Жаль, что его здесь нет.
– Вы по нему скучаете?
– Очень! – искренне признался Алексей.
– Значит, это очень хороший учитель, – с глубоким убеждением сказала Клавдия Михайловна. – Далеко не каждый из нас, учителей, может иметь такую радость и такую высшую в жизни награду – воспитать таких учеников, чтобы его помнили и по нему скучали. Вам повезло, Алексей Николаевич, что на вашем пути встретился такой учитель.
Несколько дней она занималась с ними только русским языком. Потом родители уехали, и Ольга напомнила учительнице о первом разговоре.
– Мы не знаем Некрасова, – вернулась к теме обстоятельная Ольга. – Хорошо это или плохо – тоже не знаем.
Клавдия Михайловна засмеялась.
– В таком случае я вам завидую!
– Чему же здесь завидовать? – угрюмо протянула Анастасия.
– Тому, – ответила учительница, – что вам предстоит испытать самое первое, самое сильное впечатление от встречи с этим поэтом. Второй раз такое переживание не повторяется.






