Наследство последнего императора Волынский Николай
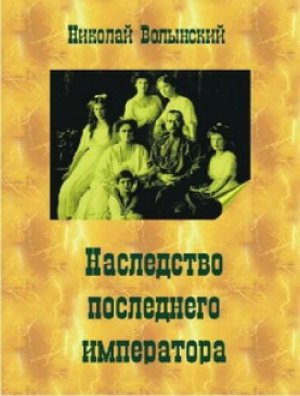
– Просю! – еще раз изогнулся Петруха.
– Что это? – поразилась Татьяна.
– Уборная, – объяснил Петруха. – Ну, гальюн, сортир… как там еще? Непонятно, что ль?
– Но тут нет дверей!
– Вижу! Нету дверей! – согласился Петруха. – А ты что, чем-то особенным будешь там заниматься? Чем? Зачем тебе двери еще?
Она молчала.
– Иди-иди! Я тебя постерегу.
– Меня не надо стеречь! Зачем дверь сняли? – разгораясь от негодования, спросила Татьяна.
– Чтоб ты сбежать не могла! – ответил он. – Товарищ Родионов из чеки приказал снять. Вопросы? Нет вопросов!
Она опешила.
– Господи, Твоя воля! – перекрестилась Татьяна. – Спаси и сохрани!.. И здесь Родионов! Добрался, проклятый мерзавец.
Она удивилась, что ей понадобилось совсем немного душевных усилий, чтобы преодолеть стыд из-за присутствия в двух шагах постороннего человека – она даже слышала его дыхание. «Бог дает силы», – вспомнила она слова Ольги.
– Ну, чаво там? – послышался хамски-игривый голос часового Петрухи. – Как у тебя? Помощь нужна? Я могу… – тут он осекся.
В коридоре послышались тяжелые шаги, потом удивленный мужской голос.
– Зотов! Ты что здесь? Да еще в таком виде?
– Охраняю, товарищ Медведев.
– Кого? От чего?
– Да вот царская дочка по малой и большой нужде попросилась. Ее и охраняю.
– Зачем ее охранять? Совсем сдурел? А дверь где?
– Дак чекист Родионов приказал снять. Вот и сняли.
Татьяне показалось, что Медведев явно рассердился.
– Здесь командую я, а не Родионов, недоумок чертов! – услышала она. – Пошел вон отсюда! И чтоб никто не смел водить девиц до ветру под ружьем! Иди! Хотя нет, стой. Ступай к плотникам, скажи: я приказал, чтоб дверь на место повесили. Да штаны надень, аника-воин, – ты же на службе! Еще раз увижу без штанов – уволю!
И шаги Медведева и Чайковского удалились.
Дверь была повешена на место только вечером. Потом в туалет девушки ходили без конвоя. Но все равно надо было походить через охрану и выслушивать скабрезности, иногда и откровенные мерзости. Стены в уборной охранники покрыли похабными рисунками. В них варьировался один и тот же сюжет: огромный женский зад с надписью «царица Сашка» и фаллос, на котором было крупно написано «Гришка».
А Петруха Зотов стал встречаться Татьяне почти каждый день. Он почему-то оказывался у нее на пути постоянно. Скоро стало известно, что он выходит на внеочередные дежурства, отдавая свои выходные другим.
В то, первое, утро на завтрак Романовым был дан только каравай черного хлеба, уже зачерствевшего. Чемодуров и Седнев раздули самовар, им удалось из багажа извлечь две пачки чая, пять тарелок, шесть ложек и четыре стакана.
Николай оглядел стол и заметил Седневу:
– Иван Дмитриевич! Я посчитал, нас здесь четырнадцать человек. Все за столом умещаемся хорошо. Почему, кроме нас, здесь больше нет никого? Где же остальные?
– На своих местах, Ваше Величество, по комнатам. Вы хотите узнать, кто чем занимается? – спросил он.
– Нет, – ответил Николай. – Я хочу знать, почему за столом только мы.
– Но… – сказал Седнев. – Прислуга, все ж таки…
– У нас сейчас одна судьба и одно и тоже положение, – заявил Николай. – Полагаю, что за столом мы должны быть вместе – и бывшие… то есть наша семья… и все остальные.
Седнев переглянулся с Чемодуровым и Труппом. Те удивленно пожали плечами. Чемодуров сказал:
– Это будет не совсем удобно и по другой причине, Ваше Величество.
– Отчего же? – поднял голову Николай. – Неужели вы Терентий Иванович, полагаете, что мы будем стеснять наших спутников и товарищей – да, наших товарищей! – повторил он со значением, – которые остались нам верны и пошли вместе с нами… если не на Голгофу… это было бы чересчур сказано, но на безусловные трудности и испытания?
– Нет-нет, Ваше Величество, – поспешил успокоить его Чемодуров. – Наоборот, нам кажется, что люди будут стеснять вас.
– Не надо польше так говорить и думать! – вмешалась Александра. – Здесь уже нет «цари и слюги». Здесь нет «люди и барин». Здесь есть сейчас только одна семья, и когда её нет всей полной за столём, у меня грустно и недовольно на сердце.
– Да! – подал голос Алексей. – И я хотел бы, чтоб Клементий Григорьевич[145]был здесь! И Лика[146]!
Чемодуров слегка поклонился ему и пояснил:
– Сейчас все не могут быть здесь, Ваше Высочество, по причине того, что у нас нет достаточно посуды.
– А где же наша посуда? – удивился Николай. – Иван Михайлович? Разве дети не привезли из Тобольска?
– Привезли, – ответил Харитонов. – Она здесь, на складе – в сарае во дворе. Там и все остальные вещи. Но нас к ним не допустили, – возмущенно сказал он.
– Ничего не понимаю! – огляделся вокруг Николай. – Ну что же это творится?.. К своим же вещам… Причину они хоть назвали?
– Так точно, Ваше Величество, назвали. Авдеев сказал: «Багаж должен пройти досмотр».
– «Досмотр»? Я не ослышался? – спросил Николай.
– Вы не ослышались, Ваше Величество.
– Что же здесь? Таможня?
Харитонов только вздохнул.
– Если не таможня, то сумасшедший дом – уж точно! – подытожил Николай.
– Гораздо хуже, Ваше Величество, – заметил Чемодуров. – Воруют-с. Мы с Иваном Дмитриевичем уже два раза заявляли Авдееву протест. И начальнику караула Медведеву.
Николай только тяжело вздохнул, а Александра сказала:
– Дорогой мой Терентий Иванович! Господь с ними, с грабителями. Пусть утешаются, если так могут. Нам в сей момент ничего не надо, кроме того, что при нас. – Она много значительно посмотрела на дочерей, напоминая, что имеет в виду не одежду или посуду, а драгоценности, часть которых уже удалось зашить в нижнее белье, в платья, юбки, в пуговицы, в шляпки, в складки ночных сорочек и в лифы.
Николай сказал:
– Испытания наши продолжатся. Это видно. Будет хуже, чем до сих пор. Когда это кончится? Наверное, сказать не может никто. Поэтому, дорогие мои, еще раз напоминаю: терпение и смирение – все, сколько есть у каждого и даже больше. Мы на нашем пути становимся ближе к Господу, и в этом есть большая отрада, радость и награда за муки физические и, что еще труднее переносить, муки душевные. А теперь, – он встал, перекрестился и произнес своим звучным бархатным баритоном:
- Отче наш, иже еси на небесех,
- Да святится имя Твое,
- Да приидет царствие Твое.
- Да будет воля твоя…
«Да, – сказал он себе, когда он закончил молитву и все приступили к чаю. – Из меня мог бы получиться священнослужитель».
И все-таки даже чаю на всех не хватило. Едва за столом расположилась «вторая смена» – люди, как неожиданно появился рыжий вертлявый охранник матрос Мишкевич. Их здесь было два брата, и они, как говорили сами, «держали мазу» в качестве самых лихих хулиганов. Ни слова не говоря, Мишкевич подошел к столу, взял за ручки самовар, в котором оставалось кипятку больше половины, и, с усилием подняв его, крикнул:
– Файка! Файка Сазонов! Быстро ко мне!
Появился сквернослов и похабник Файка. Этот старался подражать братьям Мишкевичам, но пока у него получалась только мерзкая приблатненная манера разговаривать.
– Ню-ю-ю, – протянул он. – И шё?
– Шё! Шё! – передразнил его Мишкевич. – Чайник бери, хлеб. Пожрали уже эксплуататоры, хватит! Теперь наша очередь.
Файка живо схватил заварной чайник. Из носика выплеснулась горячая коричневая струйка и пролилась прямо на локоть Демидовой. Она вскрикнула от неожиданности. Шепотом, но от души, выругалась, подтянула вверх рукав, посмотрела на локоть – ожога не было. Ни слова не говоря, Анна Стефановна поднялась во весь свой гренадерский рост, мощной хваткой взяла Файку за воротник и поволокла его, словно котенка, вон.
– Шё? Шё такое? – орал обалдевший Файка, пытаясь упереться в пол сапогами и затормозить. Куски хлеба, которые он прижимал к себе левой рукой и заварной чайник – правой, он, однако, держал крепко. Из носика снова полилась струйка и прочертила мокрую линию до дверей.
Демидова швырнула Файку через порог, и тот прогрохотал сапогами, не в силах сопротивляться энергии ускорения, которую ему задала мощная рука Демидовой.
– Не попадайся мне на глаза, босяк! – грозно крикнула она вслед. – Башку насовсем оторву!
Шум долетел сквозь стены до угловой комнаты, где дети собрались вместе с родителями.
– Was ist los[147]? – спросила Александра.
Она сидела в кресле-качалке и вязала крючком кружевной воротничок для Анастасии. На носу у нее были огромные очки в черепаховой оправе – их прописал ей местный врач, а Демидова, у которой в первые дни почему-то был свободный выход в город, выкупила очки за свои, потому что у Романовых денег уже не было. Они все ждали ротмистра Седова с деньгами от Вырубовой, но так пока и не дождались.
На разведку в столовую сбегала Анастасия. Когда она вернулась и рассказала, что произошло, Александра недовольно проговорила, обращаясь к Николаю, но адресуя свои слова всем:
– Смирение… «Какой тут смирение, если терпение исчезает?» – так скажет каждый… Also[148], пудем воспитывать терпение.
Скоро узники ипатьевского дома поняли, что поводов для воспитания в себе терпения у них будет достаточно.
В четвертом часу дня с полуторачасовым опозданием охрана привезла обед. На стол в столовой поставили белый эмалированный тазик, вывалили в него из судка суп – в мутной теплой жидкости липкая вермишель, мятая картошка, пять-шесть морковок целиком, несколько головок вареного лука и клочки солонины, вываренной до такой степени, что они напоминали тряпичные лоскуты.
– И мы как должны есть без тарелок? – шепотом возмутилась Александра. – Как зверь? Как the dogs – собаки?
– Нет, – усмехнулся Николай. – Как солдаты в походе.
– У зольдата есть котелок, – возразила Александра.
– Не всегда, – не согласился Николай.
Он взял свою деревянную ложку, которую ему сегодня раздобыл Седнев, зачерпнул из тазика и, подставив под ложку кусок хлеба, отправил суп в рот.
– Ну, как? – спросила Мария.
– О! – восхитился Николай. – Только теперь я понял, что вся французская кухня – ничто по сравнению с этим супом.
Девочки хихикнули, Алексей фыркнул, и даже Александра согнала с лица вечную угрюмую тень.
– Так? – спросил Алексей, зачерпнув супа и не пролив ни капли.
– И я так хочу! – потребовала Анастасия. – Умоляю, немедленно дайте мне ложку! Хоть кто-нибудь! На помощь! Откликнитесь, православные! Дайте мне ложку!..
Николай протянул ей свою, но Ольга опередила его и отдала сестре свою. Татьяна тоже протянула было ложку Анастасии, но запротестовала Мария:
– А я? Меня никто не видит, не любит и мной никто не восторгается уже целых полторы минуты! Нет, Таточка! Сегодня после тебя – моя очередь! А вечером, если хочешь, поменяемся местами: первой буду я!
В столовую вошли Авдеев, Зотов и Файка Сафонов. Зотов и Сафонов развалились на стульях у стены и с интересом наблюдали, как едят вместе Романовы и прислуга. Авдеев стал за спиной у Николая и Александры. Никто из сидящих за столом даже не повернул к ним головы, только Демидова припечатала Авдеева взглядом, но, увидев, что тот в ответ начал багроветь и наливаться злобой, отвела глаза в сторону, чтоб его ненароком не раздразнить больше.
– Самое замечательно в этом супе то, что он, насколько мне известно, – заявил Николай, – поступил к нам…
– …Прямо из Парижа! – воскликнула Мария. – Открыл крышку – пар идет.
– Нет! – возразил отец. – Твой Хлестаков и мечтать о таком супе не мог, потому что к нам он поступил из самых, можно сказать, высших и привилегированных сфер… – он таинственно замолчал.
– Так откуда же, папа? – не выдержала Татьяна. Она всегда ела медленнее других, а теперь, взяв, деревянную ложку, которую ей уступила мать, боялась облить себя и других и брала из тазика по капельке.
– М-м-м… – многозначительно протянул Николай. – Ты думаешь, так просто открываются наши военные и государственные тайны?
– Ну, а все-таки, откуда? – спросила Анастасия.
– Из исполкома.
И в ответ на удивленные взгляды дочерей, пояснил:
– Это высший орган местной власти. Что-то вроде… даже не знаю, с чем сравнить…
– А ни с чем нельзя сравнить! – услышал Николай за своей спиной презрительный голос Авдеева. – В твоей сатрапии, гражданин Романов Кровавый, ничего подобного не было и быть не могло. Исполком есть орган, который исполняет волю трудящегося народа, представленного в совете рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, которые получили власть непосредственного от народных масс. Понял?
Николай, не оборачиваясь, коротко кивнул и потянулся деревянной ложкой, которую ему отдала Анастасия, к тазику с супом.
– А ну, погоди! – приказал Авдеев.
Он выхватил у Николая ложку и, отодвинув правым локтем в сторону Александру, окунул ложку в суп.
– Вау! – воскликнула в испуге Александра. – Что ви делайт? Как так мошно?!
Лицо у нее пошло красными пятнами, из глаз брызнули слезы – такого она еще никогда не переживала. Александра попыталась встать, но внезапная боль в седалищном нерве пронзила ее, и Александра только и смогла еще раз воскликнуть, оглядываясь в ужасе:
– Что ше это?! – и шепотом повторила: – Как так мошно?..
Николай порывисто решился было встать, но Авдеев толчком в плечо усадил его обратно. Зачерпнув супу и отведав, комендант задумчиво почавкал и полез в тазик второй раз, на этот раз оттолкнув так Александру, что она едва не свалилась со стула на пол.
Со своих мест вскочили Боткин и Седнев, бросились было на помощь императрице, но их остановили зловещие щелчки курков: Зотов и Сафонов уже стояли рядом с Авдеевым, направив на них свои револьверы.
– Ну ты, лекарь… – лениво сказал Авдеев, прожевывая лоскут солонины, – и ты, холуй… Тпру! И брысь на место! Еще шаг, и это будут последние шаги в вашей жизни.
Он с трудом проглотил солонину, швырнул ложку на стол и, поворачиваясь, словно невзначай толкнул левым локтем Николая в лицо. Не ожидавший этого, Николай не успел увернуться и, получив не сильный, но чувствительный удар в висок, едва не упал на пол вместе со стулом.
– Да что же это такое, кромешники чертовы! Архаровцы! – вскочила Демидова и решительно направилась к Авдееву.
Раздался выстрел прямо над ухом Александры, ослепивший и глушивший ее. Вслед за тем сразу раздался короткий звон – в оконном стекле образовалось правильное отверстие с расходящимися от него в разные стороны лучами трещин.
На выстрел примчались начальник охраны Медведев и пулеметчик Кабанов.
– Что такое? Что такое? Кто стрелял? – закричал Медведев. – Кто стрелял?
Авдеев лениво обернулся.
– Все в порядке, Паша. Случайный выстрел. Предупредительный. В ответ на случайную угрозу нападения на коменданта. Никто не пострадал. Но в следующий раз пострадает – обязательно! Так и занеси в журнал дежурств: выстрел случайный.
И сделав шаг к двери, остановился и произнес, глядя в упор на Демидову:
– Обещаю, что в следующий раз случайности не будет!
И приказал Зотову и Сазонову, кивнув в сторону тазика на столе:
– Ну-ка, взяли! Хватит с них. Тоже мне – обжорку устроили за счет советской власти! Пшеном вас надо кормить гнилым, как вы солдат кормили на германском фронте!
Зотов толкнул в плечо Файку, тот, боязливо посматривая на Демидову, подбежал к столу, схватил тазик с супом и унес в караульную.
Зотов медленно обошел вокруг стола, толкнул дулом револьвера Седнева, прошел на безопасном расстоянии мимо Демидовой и остановился напротив Татьяны. Она, опустив глаза, смотрела на свои руки, положив их на колени, и мелко дрожала, словно осиновый лист. Стало слышно, как под кухонным шкафом заскреблась мышь. Алексей сгибал и разгибал алюминиевую ложку. Послышался хруст разломленного металла: в одной руке у него осталась ложка, в другой – ручка от нее.
Постояв еще немного напротив Татьяны, Зотов многозначительно усмехнулся и, не сказав ни слова, ушел.
Гнетущая тишина держалась долго. Бесшумно встали Чемодуров и Седнев и принялись убирать со стола. Демидова взяла тряпку и тихонько начала вытирать стол. Романовы сидели, оцепенев, и тот, кто мог бы сейчас наблюдать их лица, стал бы свидетелем удивительного и редчайшего явления в жизни. Они все сейчас прямо на глазах менялись внешне. На их лицах постепенно растаяли страх и испуг, боль и унижение – словно снег в кастрюльке с кипятком. Лица светлели, вернее, просветлялись, и неожиданно каждый из семьи – кто сильнее, кто не так отчетливо – но все они почувствовали, что в них, внутри что-то сдвинулось, что-то в эти текущие и немного вязкие секунды меняется, что все окружающее – Демидова, машущая тряпкой, снующие бесшумно по комнате Чемодуров и Седнев, угрюмо молчащие Боткин и Деревенько и скользнувший по хрусталю люстры солнечный луч, отраженный от окна противоположного дома, – все это стало отодвигаться куда-то в сторону и происходило без их участия, потому что ничего на свете не может быть дороже и прекраснее этих нескольких секунд просветления. Окружающее им казалось теперь каким-то раешником, волшебным театром для детей, где все издалека кажется настоящим, но при приближении обнаруживается, что все раешное волшебство – не более как папье-маше и дешевая фольга.
Они в страхе и удивлении переглянулись, и не каждый понял и осознал эти драгоценнейшие секунды, но все без исключения поняли не менее важное: после всего, что здесь сейчас произошло, каждый из них и все вместе перешагнули через незримую и очень важную границу в их бытии, за которую нет хода ни Керенскому, ни Родионову-Свикке, ни Авдееву, ни Файке Сафонову… И по это сторону границы их уже не настигнут боль и ужас, страх и унижения, угрозы и издевательства. И даже сама смерть. Они стали неуязвимы для реального зла, потому что тот мир, где они сейчас очутились, для зла стал внезапно недосягаем. Николай и Александра испытали эти секунды, как краткий подъем восторга от осознания этой неожиданно открывшейся им силы. Ольга и Татьяна – как радость оттого, что тюремщикам не удалось их унизить – такое возможно сделать только с тем, кто принимает правила врага и ведет себя и чувствует, согласно той системе координат, которую навязывает враг. Мария и Анастасия – увидев, что родители и старшие сестры не дали Авдееву и остальным повода радоваться оттого, что заставили сейчас семейство страдать и мучиться. Следовательно, они, слабые, оказались сильнее. Алексей же испытал в эти секунды то, что испытывает птица, обнаружившая, что на нее поставлена сеть, и пролетевшая гораздо выше, над сетью, – к огорчению и досаде птицелова.
– Ну что же, – нарушил тишину Николай и перекрестился. – Обед закончен. Каким он ни был – мы благодарим Бога. Будем ждать ужин, и совсем не важно, каким он будет.
И бережно помог Александре встать. Она, совершенно неожиданно для самой себя и к смущению прислуги, крепко прижалась к нему и, чуть отодвинувшись, посмотрела на него все еще озаряемая внутренним светом только что пережитого мистического опыта.
– Hast Du das gefuhlt? Verstandt[149]?– cпросила она шепотом.
Он слегка сжал ее руку.
– А они?
– Похоже, – шепнул он в ответ.
Она бросила пристальный взгляд детей: они тоже смотрели на нее, не отрываясь, широко раскрытыми глазами. И она не увидела, а скорее угадала в их глазах тот же новый свет, который только что заполнял все ее существо. Внезапно ее охватила такая вспышка радости, что у нее подкосились ноги. Николай едва успел подхватить жену.
– Тебе плохо? – встревожился он.
– Нет, mein Schatz[150], – шепнула она. – Ты будешь удивляться, но мне как раз отшень хорошо.
И уже громко, обычным своим повелительным тоном, словно они все находились не под арестом в чужом жилье, а у себя в Царском Селе, скомандовала:
– Так, золётые мои, обет все мы сакончили, фсе былё отшень фкусно, а теперь – кашдый за свое дело! Бестелье – мать фсех пророков… – и обнаружив, что Анастасия в ужасе закатила глаза, поправилась: – I'm sorry, коньечно, пороков, а не пророков! А ты, Настенька, люче бы подсказала your old mather, твоей старой маме, а ты только и знаешь, что смеешься не там, где нушно и не там, где мошно!..
– Мамочка, я исправлюсь! – пообещала Анастасия.
– Ну-ну, – проворчала Александра. – Ты полагаешь, я тебе поверила?
– Безусловно! Я знаю это наверняка! – с ангельской искренностью заявила Анастасия.
– Знаешь, дорогой, – обеспокоено сказала Александра, обращаясь к мужу. – Тебе не кажется, что одна из наших дочерей саболела манией величия? Стала чересчур самоуверенной?
– Иногда замечаю, – подтвердил Николай.
– Нехорошо это?
– Да уж, что хорошего! – подтвердил Николай. – Это такое качество… Когда его в меру – это не очень плохо. Но когда много – до добра не доводит…
– Это про тебя, Машка! – крикнула Анастасия. – Слышала? Усвоила? Смотри у меня!
– Хорошо, выручу тебя и на этот раз, несчастная! – отозвалась Мария.
Авдеев, Зотов и Файка Сафонов явились к обеду и на другой день. Посидели в стороне, потом Файка поднялся, подошел к столу, отобрал ложку у Боткина и запустил ее в тазик с супом.
– Ню, шё у вас тут? – озабоченно спросил он.
Ему удалось выловить кусок солонины, но он соскользнул с ложки прямо на стол. Бросив ложку на колени Боткину, Файка схватил мясо руками и целиком запихнул себе в рот. Боткин невозмутимо достал из кармана носовой платок, вытер ложку и продолжил обед.
Все остальные не отвлекались ни на секунду и совершенно не замечали непрошенных гостей. Александра с удовольствием отметила невозмутимость и самообладание своих детей.
Кусок оказался для Файки слишком большим. Он усердно жевал его минут десять – пока не надоело. Он попытался поглотить кусок целиком, но мясо застряло у него в пищеводе и стало там мучительным колом. Файка закашлялся, потом глухо заревел. На глазах вступили слезы, физиономия его покраснела, он замахал руками и стал задыхаться. Романовы и их люди продолжали хлебать свой суп – они по-прежнему никого вокруг не видели. Только Боткин и Деревенько бросили профессиональный взгляд на Файку, лицо которого стало синеть, а слезы лились уже ручьем.
– Очевидно, спазм гладкой мускулатуры пищевода, – заметил Боткин.
– Похоже, вы правы, коллега, – согласился Деревенько.
И они снова занялись своим супом.
Первым не выдержал файкиных мучений Зотов. Он подошел к Файке, взял его за плечи и повернул его, словно истукана, к себе спиной и с размаху стукнул его кулаком между лопаток. Звук был такой, словно Зотов ударил по малому барабану медного духового оркестра. Не помогло. Файка продолжал задыхаться. Подошел Авдеев и тоже стукнул его кулаком по спине. Сафонов, у которого мычание перешло в хлюпанье, упал на колени и скорчился в конвульсиях.
– Ступай в сортир, проблюйся там, скотина! – гаркнул Зотов.
Однако у Файки не осталось сил даже на попытку встать. Он продолжал задыхаться, кашель его перешел в тихое шипение, лицо из синего стало черно-фиолетовым. Доктор Боткин поднялся, чтобы помочь Файке, но его властно удержал Деревенько, ухватив Боткина за рукав сюртука, и заставил сесть на место.
Авдеев и Зотов взяли Файку с обеих сторон и потащили в уборную. Издалека послышался вой пополам с кашлем, и все затихло.
Александра тихо бросила реплику:
– Gott markt den Schelmen… ja[151].
– Нам повезло, – заметил Николай.
– Du hast recht, Vati[152], – сказала Мария. – Он нам сильно помог. В частности, мне. Можно сказать, принес себя в жертву ради меня – прекрасной пленницы! А если бы не он? Этот кусище непременно оказался бы у меня в глотке. Представляешь?
– Отнюдь, – хитровато глядя на дочку, возразил Николай.
– Доктору пришлось бы разобрать меня на части, то бишь, на кусочки средней величины, чтобы достать это проклятое мясо.
– Ой, а что еще интересного можно из тебя вытащить? – хихикнула Анастасия. – Скрываешь? Жадничаешь?
– Прекрати хулиганить! – потребовал Алексей. – Дай хоть поесть по-человечески.
А Николай с легким удивлением отметил, что в нем самом, очевидно, что-то изменилось. Еще вчера сцена с мясом показалась бы ему отвратительной. Сейчас она вызвала у него некоторое удовлетворение своим завершением. И еще радость: Алексей определенно стал лучше есть – не то, что раньше, когда приходилось чуть ли не впихивать в него каждый кусок. А эту бурду вон как наворачивает и еще требует, чтоб не мешали.
На следующий день охранники к обеду не пришли. Не было их и на третий, когда меню несколько обогатилось: в тазике принесли рыбный суп, хоть и с массой мелких костей.
– Право, – с некоторым удивлением заметил Николай. – Я начинаю скучать по нашим инквизиторам.
И, словно услышав его сетования, сейчас же отворилась дверь, стукнув ручкой о стенку, и в столовой загремели сапоги: явились Авдеев, Зотов и еще один, которого они называли Груздем, а иногда Мошкой[153].
В тот раз супа почему-то было мало, но зато больше принесли второго – все ту же вермишель и котлеты. Александра мяса не ела и свою котлету положила на тарелку мужу, откуда ее мгновенно выхватил пальцами Груздь.
– Ум-м-м! – побормотал он, прожевывая добычу. – Не хочуть некотры екплотаторши и кровососки рабоче-крестьянскую котлету жрать. Им, поди, марципаны подавай!..
Прожевав, он так же ловко выхватил из тарелки Николая вторую котлету и сожрал ее также в несколько секунд. Николай сидел неподвижно, с выпрямленной спиной, как статуя. Не поворачивая головы, он ждал, когда Груздь уберется сам. Груздь отодвинул Николая локтем и полез в котелок, стоявший посреди стола. Запустил туда пятерню и вытащил сразу две котлеты. Одну он бросил Зотову, другую – Авдееву, они ловко их поймали. «Вона как! Ловят еще лучше, чем мой Джой!» – удивился Алексей.
Авдеев заметил, что по лицу мальчика скользнула тень насмешки, и неожиданно разъярился. Подойдя к столу, он одним ударом опрокинул котелок, и исполкомовские яства поехали по столу, а несколько котлет шлепнулись на пол.
– Ты что же это с ума сходишь, ирод! – вскочила Демидова.
Не отвечая, он быстрым шагом скрылся за дверью. За ним потянулись Зотов и Груздь.
В тот день Романовы отказались и от ужина. Была пятница, день постный, да и никакого не было желания доедать дневные котлеты, повалявшиеся на полу.
– Эти мизерабли, – сказал отец, – как ни странно, опять нас выручили. А больше всех им должны быть благодарны наши собаки…
Все к вечеру собрались в угловой комнате. Здесь по-прежнему были три кровати – только для родителей и Алексея. Все девочки по-прежнему спали на полу, и когда Боткин и Демидова предложили им отдать свои кровати, они наотрез отказались. Анастасия тогда со смехом заявила Демидовой:
– Нюта! Я тебя разоблачила! Ты сама хочешь спать на полу! Конечно, ка-а-а-кое удобство! Ты мне завидуешь и хочешь подсунуть свою кровать! Не выйдет – меня не проведешь!
Некоторое время сидели молча. А когда солнце проникло в комнату сквозь незакрашенную полоску оконного стекла и скользнуло по лепнине потолка, Татьяна неожиданно для себя – это потом она поняла, что не она сама, а душа ее запела – спела несколько тактов «Херувимской песни» с того места, на каком они остановились в прошлый раз. Сестры подхватили и чарующая своей древней простотой мелодия на четыре голоса понеслась по дому – через грязный заплеванный коридор, замусоренную, провонявшую портянками и самогонным перегаром караульную, скользнула вдоль стен, исписанных отвратительными похабными рисунками, и вырвалась через открытые двери в сад и полетела дальше к закатному небу. Застыл на пулеметной вышке у ворот часовой, проснулся в караульной Авдеев и никак не мог понять, где он и что это за удивительные звуки. Замер у не закрытой до конца двери в комнату Романовых охранник Зотов, пытаясь различить в аккорде голос Татьяны.
Пение стихло. Зотов напряженно продолжал слушать. В комнате прозвучали несколько неразборчивых фраз, потом что-то на иностранном языке сказала императрица, упала на пол книга, потом голос Татьяны, с досадой воскликнувшей:
– Ну, где же оно?!
К Зотову тихо подошел Авдеев.
– Ты чего тут? – шепотом спросил он. – Контрреволюцию услышал?
– Замолчи! – отмахнулся Зотов.
Послышался голос Ольги:
– Вот, здесь оно!
Потом Ольга откашлялась и чистым и ясным, словно вода лесного родника, голосом запела:
- Царица неба и земли,
- Скорбящих утешенье,
- Молитве грешников внемли,
- В тебе – надежда и спасенье.
Песнь-молитву подхватила своим бархатным контральто Татьяна:
- Погрязли мы во зле страстей,
- Блуждаем в тьме порока…
И теперь пели все, Зотов, к удивлению своему, различил даже чуть надтреснутый голос Александры:
- …Но наша Родина! О, к ней
- Склони всевидящее око!
- Святая Русь, твой светлый дом
- Почти что погибает.
- К Тебе, Заступница, зовем,
- Иной никто из нас не знает.
- О, не оставь Своих детей,
- Скорбящих упованье.
- Не отврати своих очей
- От нашей скорби и страданья.
Мелодия затихла. Через минуту снова послышался голос Ольги. Теперь в нем звенела сила, доселе не знакомая Чайковскому. Она читала стихи:
- Пошли нам, Господи, терпенье
- В годину бурных мрачных дней
- Сносить народное гоненье
- И пытки наших палачей.
- Дай крепость нам, о Боже правый,
- Злодейство ближнего прощать
- И крест тяжелый и кровавый
- С твоею кротостью встречать.
- И в дни мятежного волненья,
- Когда ограбят нас враги,
- Терпеть позор и оскорбленья,
- Христос Спаситель, помоги!
- Владыка мира, Бог Вселенной,
- Благослови молиться нас
- И дай покой душе смиренной
- В невыносимый страшный час.
- И у преддверия могилы
- Вдохни в уста Твоих рабов
- Нечеловеческие силы
- Молиться кротко за врагов! [154]
В комнате долго стояло молчание, потом послышались неразборчивые восклицания. Заглушая всех, громко сказала императрица:
– Ольга, дитя мое, потойти ко мне, I want you kiss to[155] вольшебные и вдохновенные слова. Это самий лючший слова, которые я услышала за последние годы… если не считать других вольшебных слов, который всекда говорил мне мой чудесный муж и ваш замечательный отец! Как же это замечательно сказано! – и она произнесла чисто и почти без акцента:
- И у преддверии могилы
- Вдохни в уста Твоих рабов
- Нечеловеческие силы
- Молиться кротко за врагов…
Авдеев выругался:
– Ты чего? – удивился Зотов.
– Ах ты, сука старая! – разъярился Авдеев. – Так она, стерва германская, хочет, чтоб мы за нее еще и молились! Хрен тебе с кисточкой, а не молитва. Ну ты у меня еще запоешь!.. С притопом!
– Нет, – возразил Зотов. – Тут ее слова по-другому понимать надо.
Они прошли в караулку и закрыли дверь.
– Как еще понимать? – не унимался Авдеев. – Она же сказала: «Рабы должны молиться за своих врагов». Так?
– Ну, вроде того.
– А теперь скажи, кто мы для нее? Ну, не сейчас, а совсем недавно? Рабы! А кто нам враги? Они, Романовы. Ну, шпионка кайзеровская, подстилка распутинская!.. Теперь ты у меня попляшешь! – стукнул он кулаком по столу.
Зотов все еще находился под впечатлением пения и стихов, он был словно под легким хмелем и ему очень не хотелось возвращаться из того мира в свой обычный. Что-то заныло у него в груди, а какое-то доселе незнакомое чувство охватило его, и так сильно, что он впервые в жизни ощутил в горле горький комок. «Что за черт!» – удивился он и вспомнил, как в январе 1906 года в деревне Домки, где он жил с матерью, пришла казенная бумага о том, что его отец погиб в Порт-Артуре за Царя, Отечество и Веру. За месяц до того умерли его младшие сестренка и брат – от горячки, при которой по всему телу высыпают прыщи. Земский врач сказал, что эта болезнь называется «корь». Зотов тоже ею переболел, но выжил. Мать сошла в могилу в том же году – от горя. Тогда он впервые услышал о себе на кладбище: «Круглый сирота». И вот сейчас, после услышанной им песни и стихов снова проснулось в нем уже подзабытое чувство сиротства, когда ты один, горе давит тебя к земле и высасывает и опустошает всего тебя, как паук высасывает муху, оставляя от нее лишь пустую и сухую оболочку.
– Нет, Шурка, не так все! – уже увереннее возразил Зотов, с сожалением чувствуя, что наваждение музыки и стихов покидает его, и он возвращается к грязной и постылой жизни. Он зябко передернул плечами.
– Чего трясешься? – буркнул Авдеев.
– Да так, что-то похолодало…
– Похолодало? – удивился Авдеев. – Дак жара-то тридцать шесть градусов днем была! Не захворал часом?






