Наследство последнего императора Волынский Николай
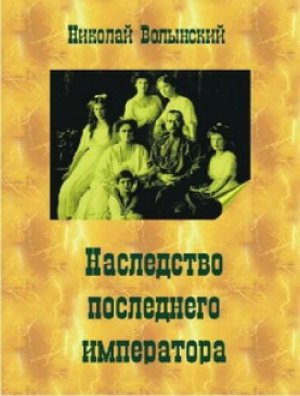
– Я не ваша светлость! – неожиданно резко ответил Львов. – Хотя без мыла не могу, как любой нормальный человек.
– Ну, как же! Известное дело! – издевательски усмехнулся заместитель. – А разве вы не князь?
– Да, я бывший князь! – со скромным и потому внушительным достоинством ответил Львов. – И, будучи когда-то давно председателем Временного правительства, я первым предложил своим коллегам принять декрет о ликвидации всех сословий и титульных сословных обращений на всей территории России. Ну а если вам так страшно хочется, можете обращаться ко мне: «Ваше сиятельство». А еще точнее – «ваше бывшее сиятельство».
– А может, и не бывшее вовсе? – издевательски осклабился заместитель.
– Погодь, Василий! – недовольно перебил его Лукоянов. – Не встревай!
Василий с обиженной физиономией отошел на полшага от стола.
Голощекин знаком подозвал его к себе.
– Это что – тот самый? – вполголоса спросил он.
– Да, – кивнул заместитель. – Заговорщик недостреленный! Кто же еще?
– Георгий Евгеньевич! – извиняющимся тоном обратился Лукоянов к «бывшему сиятельству». – Вы можете дать мне честное слово просто гражданина Львова, что никаких иных целей, кроме промышленных, у вас здесь нет?
– Безусловно! – заявил Львов. – Здесь, при ваших свидетелях и, – он оглянулся на Василия, – ваших заместителях, я даю вам свое личное честное слово гражданина в том, что я ни секунды не вводил вас в заблуждение и что цель моего пребывания именно та, которая указана в моих бумагах!
– Ну что, Василий? – спросил Лукоянов у заместителя. – Что будем делать?
– Как что, Федор Николаевич? Что тут еще думать? – удивился Василий. – Расходная ведомость – что еще?
– Вы это о чем? – забеспокоился Львов.
– Как же так? – удивился Василий. – Был князь председателем Временного правительства, а простой бухгалтерии не выучил! Есть в бухгалтерии «приход», а есть и «расход». Догадались?
Краснота с лица князя Львова схлынула и сменилась желто-серой бледностью. «Желчь разлилась, – констатировал Голощекин. – Боится, сволочь!»
– Погоди, говорю тебе! – поморщился Лукоянов. – Нельзя же так пугать граждан.
– Тогда пусть он скажет, почему его родная тетка мадам Писарева делает признание в своих записках, как бывший князь Львов, вербует в Екатеринбурге офицеров для белой армии адмирала Колчака.
– Ах, это! – с неожиданным облегчением перевел дух Львов. – Знаете ли, я не могу нести ответственность или объяснять те или иные поступки девяностолетней старушки, впавшей в тихое помешательство. Касательно моей тетки и ее болезненных фантазий лучше всего справиться у психиатра Каракозова, который наблюдает мою тетушку уже восемь лет.
– Справимся, будьте уверены! – угрожающе пообещал Василий. – Для твоего психиатра Каракозова место в арестантской тоже приготовлено.
Лукоянову, как понял Голощекин, все это надоело. Федор негромко стукнул кулаком по своему столу – большому, черного дерева, украшенному блестящими медными завитушками.
– Так! Разговоры окончены. Я принял решение! – сказал он и поднялся со стула.
Вместе с ним в испуге поднялся пожелтевший князь Львов.
– Гражданин Львов! Вы дали честное слово и вы свободны! Ваши документы и деньги будут вам немедленно возвращены, – заявил Лукоянов. – Но я бы вам настоятельно рекомендовал, Георгий Евгеньевич, – добавил он уже неофициальным, доверительным тоном, – немедленно, как это для вас возможно, покинуть Екатеринбург. И не только из-за наших слишком ретивых сотрудников, хотя и это достаточная причина. Есть и другая, известная пока небольшому кругу лиц. Полагаю, и вы могли слышать о мятеже чехословацкого корпуса. О том, что чехи, бывшие наши пленные, которых через Сибирь отправляли на их родину, неожиданно вышли из повиновения, стали вести себя, как самые настоящие разбойники, а точнее – криминальные отпетые бандиты. В ответ на попытку их разоружить, стали захватывать наши города и села. И теперь действуют, как преступники-каратели. Свергают законные органы советской власти, расстреливают рабоче-крестьянских депутатов, а также членов нашей партии. Командующий корпусом генерал Гайда вошел в сношения с адмиралом Колчаком с целью создания общего фронта против нас. И в настоящий момент они движутся в направлении Екатеринбурга. Причем, движутся довольно быстро …
Он испытывающе посмотрел в глаза Львову. Тот настороженно молчал и ждал, что Лукоянов скажет дальше.
– Я понимаю, – продолжил Лукоянов, – некоторым членам бывшей буржуазной власти все равно, расстреливают Гайда и Колчак большевиков или нет…
– Не говорите! – перебил его князь Львов и протестующе отгородился ладонями. – Я не сочувствую… Я не сочувствую большевикам во всем… абсолютно во всем… но они – наши русские люди. Эти австро-чешские разбойники и мерзавцы объявили войну не вам и вашей партии, а России, гражданин председатель чека! И русская кровь в этом случае не имеет политического цвета! Она у нас у всех красная.
– Как наше знамя, – подал голос Голощекин.
– Да! – согласился Львов и дерзко прибавил: – Знамя Февральской революции тоже было красным.
Лукоянов кивнул.
– Прошу вас, присядьте, князь, – устало сказал он.
Они оба сели.
– Но я не могу понять, – заговорил Львов, не обратив внимания на то, как обратился к нему Лукоянов, – почему в городе не объявлено особое положение? Почему не объявлена мобилизация? Почему?! – он повысил голос, словно находился на трибуне Государственной Думы. – Почему вы не призвали граждан к оружию?
– Да потому, Георгий Евгеньевич, – устало ответил Лукоянов, – что мы не хотим лишних жертв. Город защитить невозможно. И не все граждане станут на нашу сторону. У нас мало сил. А перед нами – корпус Гайды и армия Колчака. И если Гайда оставляет после себя выжженную землю, то после Колчака она остается насквозь мокрой от крови. Иногда мне кажется, что адмирал – просто психически больной человек, – вдруг доверительно добавил Лукоянов, обращаясь сразу ко всем в кабинете. – Только за два дня он сжег шесть деревень – живьем сжег! Всех – и мужиков, и баб с детьми заколотили в избах и сожгли! А за что? А только за то, что они могут… вы понимаете, Георгий Евгеньевич! – они просто могут, теоретически могут! – оказать помощь красным! Если захотят… А если не захотят?! Неважно! Могут!.. Даже немцы никогда так не свирепствовали, даже прохвосты-чехи так не зверствуют, как этот, с позволения сказать, русский офицер! Адмирал! Герой Арктики! Зверь кровавый…
Львов молчал, затих и Василий. Голощекин еще никогда не видел Лукоянова таким взволнованным. У того даже затряслась левая щека.
– Так что город нам, скорее всего, придется сдать, – сказал Лукоянов уже спокойнее. – Решение, конечно, примет, Уралсовет, я только высказываю свое личное мнение и надеюсь, Георгий Евгеньевич, на вашу деликатность…
Львов молча кивнул. Он был очень озабочен.
– Я хочу с полной ответственностью вас предупредить, – продолжил Лукоянов, – что и вы можете оказаться не в полной безопасности, если дождетесь Колчака. Три дня назад он казнил семерых членов Учредительного собрания, которые находились в составе его «правительства». Казнил за то, что они попытались возразить против зверств адмирала. Никто из казненных не состоял в партии большевиков. Четверо трудовиков, два октябриста, один кадет. Так что… – он вздохнул.
В кабинете возникла тягучая пауза.
– Ладно, Федор, – встрепенулся Голощекин. – Ты уже закончил? Все с князем?
– Сейчас, – ответил Лукоянов и снова обратился к Львову. – Хочу вас, Георгий Евгеньевич, предупредить и еще об одном чрезвычайно важном обстоятельстве. Дело в том, что генерал Гайда и адмирал Колчак захватили два эшелона с государственным золотым запасом России. Я бы точнее сказал – украли два эшелона с государственным золотом – тем самым, которое было направлено Временным правительством в тыл якобы для пущей сохранности и для расчета с союзниками…
– Я к этому решению не имею никакого отношения! – запротестовал Львов. – Все это было сделано при Керенском! Мало того, я всегда возражал против такой меры и предупреждал, что золото будет непременно украдено!
– Вот оно как! – не скрывая иронии, сказал Лукоянов. – Вы возражали! Наверное, мало возражали. Да, как и следовало ожидать, русское золото украдено. И оно пойдет не народные нужды, а в распоряжение палачей народа! Или вы думаете, что Колчак вернет золотой запас России? Русскому народу?
– Никогда! – твердо, с полной уверенностью произнес князь Львов, которого явно приободрил лукояновский пафос, напомнив ему революционный Февраль, когда князь и сам пребывал в митинговой эйфории. – Никогда! Колчак весь в крови. Что ему до народа, что до России? Знаете, – вдруг доверительно заговорил Львов, – я тоже иногда думаю, что адмирал Колчак просто сошел с ума. Есть такая разновидность маньяков – вид человеческой крови приносит им величайшее наслаждение. Вот и великий князь Николай Николаевич был таким…
– В самом деле?! – воскликнул Лукоянов.
– Был-был! – закивал Львов.
– Надо же… Итак, значит, золото будет разворовано. И вот тут вы можете оказаться очень неудобным свидетелем, Георгий Евгеньевич. Не для нас! С нами вы сейчас распрощаетесь. Неудобным для Колчака и, безусловно, для генерала Гайды. У вас есть авторитет, вас знают за границей. Гайде живым вы тоже не нужны[163].
– Боюсь, Федор Иванович, что в ваших словах есть известная доля истины, – невесело согласился Львов.
– Так что прошу нас извинить, – поднялся Лукоянов. – Вы должны понять нас: в такое время всего начинаешь опасаться…
Львов кивнул, но прощаться не спешил.
– Вы действительно сдадите город? – еще раз спросил он.
– А как вы считаете, можем ли мы его удержать? – усмехнулся Лукоянов.
– Не сможете, – сказал Львов. – При нынешних обстоятельствах – никак.
Он помолчал.
– У вас тут Романовы под арестом… я знаю, – неожиданно сказал он.
– Об этом весь мир знает! – пожал плечами Лукоянов.
– И… как вы с ними намерены?.. – деликатно спросил Львов.
Лукоянов испытывающе посмотрел на Львова.
– А вы как считаете? – спросил он. – Как бы вы поступили на нашем месте?
– Не знаю, – ответил Львов. – Но таскать с собой такой груз… он с сомнением покачал головой.
– Ну, – возразил Лукоянов, – положим, это не совсем груз, а все-таки люди. И прислуга с ними…
– Вот я и говорю, – произнес Львов. – Еще и прислуга… Керенский с самого начала мечтал их всех расстрелять. Без прислуги, разумеется. Потом сделал вид, что жалеет.
– Жалел бы – не загнал в Сибирь! – подал реплику с дивана Голощекин.
– Совершенно верно, – кивнул Львов. – Ну что же, будьте здоровы! Дай нам Бог встретиться при лучших обстоятельствах. Вы мне понравились, Федор Иванович. И вы, Василий… Несмотря даже на то, что ваши подчиненные не давали мне мыла… – улыбнулся Львов.
Он пожал руку Лукоянову, потом Голощекину и протянул открытую ладонь Василию. Тот помедлил и смущенно и быстро пожал руку «бывшего сиятельства».
– Василий, проводи! – приказал Лукоянов. – Ну, здравствуй, Филипп… – он встал из-за стола, потянулся. – Ух! Закостенел весь… Со вчерашнего утра без маковой росинки! Сутки пошли.
Звонком он вызвал ординарца.
– Раздуй, друг мой, самоварище – самый большой! – попросил он. – И еще чего-нибудь… – он повернулся к Голощекину. – Ну, а как в России с продовольствием? Все плохо?
– Очень плохо, – ответил Голощекин. – Мне вот выдали паек на дорогу – рыбу – сушеную воблу. Две штуки. И еще ворчали: много, очень много, даже сильно много.
– Воблу? В России называют воблу рыбой? А у нас паровозы с прошлой недели стали воблой топить! – засмеялся Лукоянов. – Заместо угля! Еще жарче выходит!.. Может, железной дороге вообще от угля надо отказаться, а?
– На все паровозы рыбы не хватит, – хмуро возразил Голощекин. – Ты вот, что Федор: зови сюда и здесь президиум исполкома!
– Как? Сюда? – не понял Лукоянов.
– Да, – сказал Голощекин. – И немедленно сейчас же! Новости из Кремля я привез – очень чрезвычайные.
– Всех, наверное, сейчас не собрать, – засомневался Лукоянов. – И народ не поймет, зачем здесь, у меня, собираться, а не в исполкоме.
– Нам все и не нужны никогда! – заявил Голощекин. – А насчет «не поймет» – не совсем сомневайся. Все поймет. Я же сказал – очень много чрезвычайных новостей! Из самого Кремля! От самых сфер! А твое присутственное место как называется? Правильно: чрезвычайная комиссия. И дело, про которое надо нам среди себя говорить, как раз по твоей части. Дай мне карандаш! И бумаги кусочек, но хороший.
Он быстро написал несколько фамилий.
– Вот, без этих товарищей нам сейчас не обойтись. Остальных проинформируем подробно и потом. Особенно эсеров и анархистов. На том свете… Еще не поступил приказ их арестовать и запереть по домам заключения?
– Пока нет, – осторожно ответил Лукоянов. – А должен поступить? Ты точно знаешь?
Голощекин презрительно плюнул на пол.
– Ты меня очень иногда невероятно удивляешь, Федор! – заявил он. – А как ты думал? Что тут точно знать? Взорвать бомбой германского посла, чтобы немцы вошли в Москву – это шутки? Еще неизвестно, чем все кончится, хотя немцы вроде уже не так сердятся… А мятеж Савинкова? Так что жди с минуты на минуту приказ. Я бы на твоем месте арестовал их всех немедленно – всех: и левых, и правых!
– Ну, зачем же всех? – запротестовал Лукоянов. – Не анархисты же графа Мирбаха взрывали, а эсеры! Да и Блюмкин, бомбист, в нашем ведомстве служил… И Савинков не анархист, а эсер!.. Да наверняка никто из наших эсеров, то есть из местных, и не знал о том, что такой теракт готовится!
Голощекин поправил маузер на боку и тихо, проникновенно сказал, глядя Лукоянову прямо в глаза:
– Это война, Федор. Гражданская война с участием иностранных войск. Страшнее любой другой войны. Напал на тебя немец или француз – ты его разбил, и он пошел к себе домой. И все, – война кончилась. Можно заключать мир и жить дальше. А когда Иван воюет против Петра, или против Петра с Исааком, то и тому, и этим уходить некуда. И будут они воевать, пока одни не уничтожат других. Здесь никакой мир невозможен. Потому что у обоих – дом здесь. Так что или он тебя, или ты – его. По-другому не бывает. И никакой гуманизм здесь невозможен. Потому что твой враг не будет к тебе применять гуманизм. Он тебя, гуманного, просто повесит или сожжет в паровозной топке заместо воблы. Еще лучше гореть будешь!
Лукоянов повертел в руках свой портсигар, в котором уже со вчерашнего вечера не было ни одной папиросы, и произнес:
– Да, Филипп, тут, к сожалению, ты прав. Гражданские войны – самые жестокие и кровопролитные. И каждая из сторон по-своему права. То есть можно сказать, тут нет ни правых, ни виноватых…
– А вот и нет! – отрезал Голощекин. – Твои рассуждения – типично оппортунистически-пораженческая контра.
– Это ты говоришь мне? – возмутился Лукоянов.
– Ну, прости, – спохватился Голощекин. – Слегка перехватил… Но все равно! Я знаю только одно: правы – только мы! Потому что мы – за лучшее будущее для народа, а они – за лучшее прошлое для себя!.. Ладно, – он сбавил тон, – некогда сейчас спорить. Будь другом, вызови товарищей.
Лукоянов нажал кнопку звонка – появился секретарь-машинист.
– Вот, – дал он ему список Голощекина. – Немедленно всех этих товарищей – сюда. Или сами пусть добираются, или организуй доставку. Скажи: причина – чрезвычайная. Все должны быть здесь через двадцать минут!
– Кстати, Федор, – спохватился Голощекин. – Дай мне два пульмана.
– Едешь куда?
– Никуда мне ехать не надо. А тут один очень большой человек уже здесь приехал – поселить надо. От самого Якова.
– Свердлова?
– А какой у нас еще Яков в Москве? Вот от него тут из американской взаимопомощи.
– Американской? – переспросил Лукоянов.
– Оттуда.
– А в Американскую гостиницу не хочет? – усмехнулся председатель чека.
– У тебя не умный хохом! – отрезал Голощекин.
– Я к тому, что здесь есть удобные номера.
– Не надо! – решительно заявил военный комиссар. – Ты будешь ему мешать.
– Надолго американец твой?
– А я знаю? – ответил Голощекин. – Не докладывает. Так даешь два пульмана?
– Бери.
Первым в чека появился Белобородов. Он застал Лукоянова и Голощекина пьющими чай – Лукоянов из чашки, а Голощекин пил по-купечески – из блюдечка.
– Что такое? Почему здесь собираемся, а не в исполкоме? – недоуменно спросил он, беря и себе чашку. – Переворот? Власть переменилась? Совдепы ликвидированы?
– Еще нет, но скоро переменится. И тебя ликвидируют тоже скоро, – заверил его Голощекин. – Ты не очень-то наливай! – прикрикнул он на председателя исполкома, – оставь и другим! Разошелся!.. Здесь тебе не совдеп.
Белобородов, посмеиваясь, налил себе полный стакан.
– Это все? – кивнул он на пустой стол.
– Это все, что нам выделила советская власть, – подтвердил Голощекин.
Он положил себе на колени свой чемоданчик, долго возился с замком, и, наконец, отпер. Аккуратно приоткрыл крышку, чтобы никто не успел увидеть фляжку, вытащил половинку воблы и бросил ее на стол.
– Награда от ЦИКа! За верную службу! – важно сообщил он.
Белобородов взял воблу, понюхал, поморщился и бросил на место.
– У нас такой рыбой третий день стали паровозы топить, – сообщил он.
– Да уж знаю! – ответил Голощекин. – Хорошо, вопше говоря, придумано. Особенно на время голодухи. Одну рыбину в топку, другую – себе в карман.
Вошел Сафаров, председатель обкома партии – как всегда, лощеный, безукоризненно выглаженный, чисто выбритый. Обычная солдатская шинель выглядела на нем дорогим пальто. И неизменное золотое, как у Свердлова, пенсне, о котором Лукоянов утверждал, что Сафаров и спит, не снимая пенсне с носа, хотя зрение у него нормальное.
– Что за шум? – спросил Сафаров. – Чека решила арестовать советскую власть?
– Пусть только попробует! – угрожающе отозвался Белобородов. – Мы ему подробно расскажем, куда Макар телят не гонял!
– А шо за Макар? – поинтересовался Голощекин. – Агент вэчека?
Белобородов расхохотался.
– Ой, какой это страшный агент! – помотал головой председатель исполкома. – Страшнее любого военного комиссара! И тебя страшнее.
– Ты шутки шути, – угрюмо бросил Голощекин, – но не сильно увлекайся. А не хочешь не сильно, так иди в цирк. Шутник!.. – и неожиданно выругался матом, что вызвало новый взрыв смеха.
Голощекин покраснел и стал оглядываться по сторонам.
– Что? Что ржешь? Пориджа с утра не дали? – проворчал он.
– Ты, Филипп, не представляешь себе, какая это удивительная картина – еврей-матерщинник! – пояснил Сафаров, не обратив внимания на поридж.
– А если армянин? Вот ты, например? – с вызовом спросил Голощекин.
– Я не армянин, – ответил Сафаров.
– А твой отец?
– Отец мой был армянином, – спокойно сказал Сафаров. – А я, наверное, все-таки русский большевик.
– «Наверное»? – переспросил Голощекин. – Ты говоришь, «наверное»?
Вмешался Лукоянов. Всем было известно, что Голощекин недолюбливает Сафарова, тот платил Голощекину такой же монетой, но сейчас их пикирование было не к месту.
– Георгий! – недовольно обратился он к Сафарову, тем давая деликатно понять, что на самом деле имеет в виду Голощекина – декрет о самой угнетенной нации еще не отменили. – Георгий, о праве наций на самоопределение поговорим потом. Давай к делу!
– Ну, вот он пусть и начинает. Рассказывай, зачем собрал, – ответил Сафаров. – В самом деле, не вздумал же ты вместе с Федором всю местную власть арестовать?
– Сейчас, – кивнул Голощекин. – Еще не все здесь. Где твои? – спросил он Лукоянова.
Не успел Лукоянов ответить, как пришли члены коллегии ВЧК Владимир Горин, Исай Радзинский и Яков Юровский. Почти вслед за ними – член президиума исполкома и комиссар по снабжению Пинхус Войков. Через минуту появился еще чекист – Михаил Кудрин.
– Ну, кажется, все здесь, – сказал Голощекин. – Председатель, – обратился он к Белобородову, – начинай!
– Нет, – возразил Белобородов, – это ты начинай. Я открываю заседание президиума в неполном составе. А ты – давай свой основной доклад.
Голощекин задумался на секунду, откашлялся и сказал:
– Товарищи! Прежде всего, я хотел бы сказать о текущем моменте. Как вам всем известно, обстановка сложилась очень сложная. И она гораздо сложнее, чем кое-кому из нас несложно кажется, – он оглядел присутствующих, и все закивали ему в ответ. – Через пять, максимум через семь-восемь дней Екатеринбург будет сдан. Нет никаких сложных сомнений о том, что мы не сможет задержать город. И эту гостиницу, где нам так сегодня уютно и безопасно, будет занимать, скорее всего, кровавая контрразведка адмирала-палача Колчака, а может, его опередит другой палач – генерал Гайда. Поскольку меня не было здесь в последние дни, то, я, как военком, захотел услышать, как идет эвакуация города, государственных ценностей и городского и партийного архивов. Эти сведения важны и будут связаны с теми, которые я сейчас намереваюсь вам, уважаемые товарищи, сообщать.
– Нормально идет эвакуация, – нехотя произнес Белобородов. – Все согласно плану. Но разве исполком теперь ответствен перед военным комиссаром? И ему подчиняется?
Голощекин пропустил реплику мимо ушей и вопросительно уставился на Лукоянова.
– У меня тоже без каких-либо неожиданностей… Все тоже по плану, – сообщил предчека.
– В таком образе, – продолжил Голощекин, – остается один нерешенный, очень важный, и, признаюсь вам, товарищи, болезненный вопрос. Что будем задумывать с Романовым? И с его клевретами?
Ответа он не услышал. Все напряженно молчали и ждали, что он скажет дальше.
– А что по этому поводу, в конце концов, думают в совнаркоме и ВЦИКе? – спросил Сафаров. – Ты для чего ездил в Москву? Чтобы нам сейчас здесь экзамены устраивать? Тебе экзаменовку поручили провести во ВЦИКе, совнаркоме и в ЦК?
– Ну… что по этому поводу думают в совнаркоме и ВЦИКе, и в ЦК! – сказал Голощекин. – Я знаю? А? Я знаю?.. Я виделся только с товарищем Свердловым, а не со всем ВЦИКом. И еще с товарищем Лениным, а не со всем совнаркомом. А Льва Давыдовича увидеть не довелось. Он нам и не нужен сейчас. Пока сами справимся. Без Лёвы.
Он замолчал.
– Обиделся ты, что ли? – заметил Лукоянов. – Ты, Филипп, не тяни кота за хвост! И театра не надо. С чем приехал? Давай, какие там у тебя тайны мадридского двора?
– От товарища Ленина, – уже спокойнее заговорил Голощекин, – я ничего нового не услышал…
– Стой-ка! – вдруг спохватился Белобородов. – От товарища Ленина вчера поздно вечером, то есть по-московскому – рано утром, была срочная телеграмма.
Все удивленно повернулись к предисполкома.
– Что ж ты молчишь? – возмутился Лукоянов.
– Да вот, боялся московского гостя прервать!.. – с легкой усмешкой заявил Белобородов. – Значит так: Ленин требует немедленно «молнией» сообщить о Романовых. Об их состоянии. Уже третий раз за неделю телеграфирует. Говорит, за границей в газетах пишут, будто всех Романовых расстреляли. На этот раз пришла нота из Дании, от королевы – бабушки Николашки.
– А мать его где? – спросил Сафаров.
– В Крыму пока отдыхает, – ответил Лукоянов.
– Ну и что нота? – спросил Голощекин.
– Я и ответил: «Все в порядке, Владимир Ильич. Никто ихних Романовых не трогает. Все живы-здоровы».
– Так… – Голощекин снял свой шлем-буденовку – по привычке, он, как в синагоге, обычно не снимал шапку в помещении. Бережно погладил свою мокрую лысину. – С телеграммой все понятно! Ему и Троцкому не пролетарское возмездие самодержавному палачу хочется. Спят и видят – суд устроить и на нем театр сделать, чтоб все им хлопали. Только как они смогут его провести, для меня лично – большая загадка.
– И что Свердлов? Ведь вы, товарищ Голощекин, наверняка обсуждали с ним главный вопрос, – раздался густой бас Юровского.
– Яков Михайлович, твой двойной тезка, с которым я дискутировал с полдня о том, как решить этот наш непростой и болезненно-политический вопрос, – ответил Голощекин, – сказал мне буквально такое следующее: «Филипп, так и передай товарищам в Екатеринбурге: ВЦИК официальную санкцию на расстрел Романова не дает!»
– Ах, вот как! – живо отозвался Войков. – Официальную не дает! – и так же, как и Шифф, спросил: – А неофициальную?
Голощекин бросил возмущенный взгляд в сторону Войкова.
– Петр! За что ты говоришь? Какую-такую «неофициальную»? Разве может глава советской республики таки еще какую-то другую санкцию давать, кроме как официальной! Это ж тебе таки ВЦИК, а не синагога!
– Понятно! Все правильно! – с нескрываемой иронией согласился Лукоянов. – Рак не рыба – значит, дурак Кандыба. А если рыба не рак, то и Кандыба дурак.
– Что ты хочешь с этим сказать? – подозрительно спросил Голощекин.
– А то хочу сказать, – веско ответил ему Лукоянов, – что отдуваться за все потом придется нам. Здесь. Нас же потом и обвинят во всех грехах. А они там, в Москве, останутся чистенькими.
– Твои предложения? – прищурившись, спросил Голощекин.
– У меня есть предложения, – отозвался Лукоянов. – Но я хотел бы сначала знать, что думают товарищи. Может, услышу что-нибудь более разумное, чем мое предложение.
– Тогда прошу высказываться товарищам! – предложил Голощекин.
Никто, впрочем, высказываться не спешил. Войков расстегнул пиджак, едва сходившийся на животе, взял стакан, медленно налил из самовара кипятку, добавил туда заварки и сделал несколько глотков. Белобородов, о чем-то задумавшись, засмотрелся в окно. Кудрин впился взглядом в Голощекина, ловя каждое его слово. Лукоянов демонстративно углубился в чтение какой-то бумажки. Юровский просто молчал. На его массивном, мясистом лице невозможно было что-либо прочесть. Равнодушно молчал и Горин.
– Тогда я задам вопрос председателю нашего исполкома, – наконец нарушил молчание Голощекин. – Скажи-ка мне, товарищ председатель, – повернулся он к Белобородову, – ты можешь дать гарантию, что Романов не попадет в руки Колчаку или Гайде и не станет живым знаменем контрреволюции?
Белобородов почесал в затылке.
– О чем ты еще спрашиваешь, Филипп? Конечно, таких гарантий никто дать не может, – ответил он.
– А почему они должны обязательно попасть в руки Колчаку? – возразил Лукоянов. – Я думаю, что мы вполне можем начать их эвакуацию уже сегодня и в течение суток отправить в центр. Николай и его семья – ценные заложники. Козырные карты. При политической игре с Антантой или Германией они, безусловно, понадобятся совнаркому.
– Ха! Ха! Ха! – издевательски-раздельно произнес Голощекин. – Какие-такие козыри, Федор! О чем размечтался? Кому нужны твои Романовы! Уверяю тебя, и Колчаку, и Антанте, и немцам, а уж Гайде – тем более на твоего Николая наплевать! – он взял стакан и сделал глоток – слишком большой. Поперхнулся и долго откашливался.
– Тогда почему мы так опасаемся, что Николай попадет к белым? – пробасил Юровский. Однако ответа ему никто не дал.
– Товарищ Голощекин, я бы не стал утверждать наверняка то, в чем так твердо убежден ты, – холодно произнес Лукоянов. – Но позволь тебе напомнить: две минуты назад ты сказал совершенно противоположное – нельзя допустить, чтобы Николай и семья попали в руки Колчаку и не стали «живым знаменем». Я все-таки не понимаю тебя, и вон товарищ Юровский тоже не понимает: представляет Николай ценность для белых или нет?
Тут вмешался Радзинский. До сих пор он только внимательно слушал всех и иронически улыбался.
– В России никому Николай не нужен! Никому! – заявил он. – Лучшее доказательство – факт, что за все время, пока Романовы здесь, не было ни одной – подчеркиваю! – ни одной, хоть бы детской попытки освободить Кровавого. Вот смотри сюда: в городе с полтыщи царских офицеров и генералов, как собак нерезаных, с тех пор, как академия генерального штаба переехала к нам из Питера. Из этой полутысячи не нашлось ни одного серьезного и целеустремленного военного, кто попытался хотя бы шаг сделать для освобождения Романовых! Разве не так? С кем ты будешь играть, если твои козыри в игре не участвуют и их как козыри никто не признает?
– Так-так, – согласно кивнул Лукоянов. – Верно. Но в таком случае, Исай, нам намного выгодней не увозить царя от белых, не прятать и, тем более, не расстреливать, а наоборот, найти способ передать его Колчаку целым и невредимым. Подбросить царя адмиралу! Вместе с семьей и прислугой.
Столь неожиданное предложение удивило всех.
– Что-то новое, – проговорил Белобородов. – Ты всерьез, Федор Николаевич?
– Я никогда не был так серьезен, как сейчас, – ответил Лукоянов.
– Ну, нет! – запротестовал Голощекин. – Ты, товарищ Лукоянов, любишь играть в деревянные шахматы – все знают. Но только мы с Колчаком не за шахматным столом сидим, не играем с ним, а воюем, причем, насмерть.
– Поясняю мысль, – сказал Лукоянов. – Агентура сообщает: среди белых – в деникинских войсках и корниловских – монархистов ненавидят почти так же, как и большевиков. Ну, может, немного меньше, всего чуть-чуть. Недавно там случай интересный был. Один из деникинцев спел «Боже, царя храни». Просто так, без умысла, машинально. И тут же получил пулю в лоб от своего боевого товарища. У Колчака такое вряд ли возможно, говорят, он больше к монархизму склоняется. Или был таковым. Но в нашем случае мировоззрение этого людоеда не имеет значения. Ему тоже не нужен император. По крайней мере, живой – уж точно не нужен. Вот мертвым он Колчаку нужнее! Как мученик, как страдалец. Как жертва красных. Но за живого Николая не будут воевать ни деникинцы, ни колчаковцы, а уж чехи – тем более. Это абсолютно верно.
– Ну и зачем нам его в таком разе подбрасывать? – подал голос Горин.
– Если мы организуем Романовым побег и приведем их к Колчаку, он волей-неволей должен будет их принять. И с этого момента в его войске начнутся разброд и шатания. Потому что тот, кто примет сейчас к себе бывшего императора, даст ему защиту, сразу же скомпрометирует себя не только в глазах всего белого движения, но и в глазах всей Европы, прежде всего, во мнении стран Антанты…
– Федор Николаевич, – едко осведомился Голощекин. – Тебе известна такая фамилия – барон Мюнхгаузен?
– Да, – ответил Лукоянов. – Мне кто-то говорил, что он – твой родственник.
Голощекин вспыхнул, но сдержался.
– Я категорически против предложения товарища Лукоянова, – заявил он. – То, что кажется ему здесь, в этом безопасном доме, такое простое и умное, то в жизни может повернуться совсем не так и не в ту сторону. Нельзя рисковать. Правильно ответил товарищ… да это я, кажется, и ответил: мы не в карты играем! Это сейчас Романов Деникину не нужен, потому что царь у нас сидит. А попадет к Деникину – генерал найдет Романову работу.
Горин спросил у Радзинского:
– Исай, ты сказал, никто не пытался Романовых освободить. А Соловьев?
– А, этот германский шпион? Федор о нем знает лучше меня.
– Что там о Соловьеве! – отмахнулся председатель чека. – Отвратительная история. Борис Соловьев – муж Матрены Распутиной – той самой, Гришкиной дочки. Явился сюда с деньгами, большими. Получил их от ряда представителей аристократических кругов в Петрограде и в Москве, еще часть – от германского командования: Соловьев – кадровый агент разведки германского генштаба. Приехал с заданием организовать фальшивый отряд для фальшивого освобождения Романовых. Задача – не допустить никаких других, настоящих, попыток освободить царя. Выдал нам двух царских агентов из Петрограда. Деньги частью растратил, частью украл. А неделю назад ушел от слежки и вовсе исчез. По последним сведениям, двинулся на Дальний Восток. Между прочим, говорят знающие люди, что он – магнетизер. Причем, сильный. Ну, там – мысли на расстоянии читает, предметы взглядом двигает… Жена у него – медиум. Он вводил ее в транс, и она в спящем виде рассказывала ему, что происходит в доме Ипатьева.
– Сказки! – фыркнул Кудрин.
– Нет, – поддержал Лукоянова Войков. – Такое в жизни бывает. Редко, но бывает. Вот только Николая сей колдун никуда не сдвинул.
– А этот второй… офицер Седов? – вспомнил Голощекин. – Чем там кончилось?
– Да, точно, есть и штаб-ротмистр Седов, – кивнул Лукоянов. – И у Седова достаточно было средств, времени и возможностей, чтобы устроить Романовым побег за границу. У него на руках было около сорока тысяч фунтов стерлингов и триста тысяч германских марок. Ну, марки – это так, бумага. Но у него были также драгоценности – золото и бриллианты. Прислали Седова из Петрограда люди Вырубовой. Но этот тоже не поторопился освобождать Романовых. До Тобольска добирался почти полгода. Полгода! Почему так долго, можно только догадки строить. Сейчас здесь болтается. Только тех денег у него уже нет. Вообще, ничего у него нет. Куда девал валюту, пока точно не известно, но, думаю, туда же, куда и Соловьев. Сейчас затаился. Ждет Колчака.
– Ты, Федор, забыл еще капитана Малиновского! – напомнил Радзинский.






