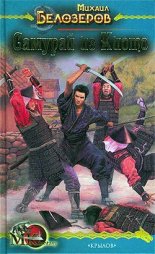Место Горенштейн Фридрих

Глава десятая
Журналист также жил в центре, недалеко от квартиры Марфы Прохоровны, в тихом переулке, который мне уже был знаком по тому вечеру, когда я провожал из компании Ятлина Машу и Колю. Для того чтоб добраться до его дома, нам понадобилось не больше десяти минут, – правда, мы шли накоротко, каким-то другим переулком, потом проходными дворами, отчего я сделал вывод, что Щусеву эта дорога хорошо известна и он у журналиста уже неоднократно бывал. И действительно, перед тем как войти в подъезд, он шепнул мне:
– Ты молчи, я за тебя отвечу.
Действительно, едва мы вошли в вестибюль великолепного, высшей категории дома (я все-таки строитель и толк в этом понимаю), в вестибюль, где даже почтовые ящики поблескивали никелем и за столом с телефоном сидела откормленная привратница, как эта привратница глянула на нас (особенно на Щусева, которого, очевидно, уже видела здесь и вспомнила о том), как эта привратница сказала:
– Если вы к… – и она назвала фамилию журналиста, – то их нет никого… Они уехали…
– Нет-нет, – ответил Щусев, – мы в семьдесят третью квартиру… Мы к Прохорову…
Я еще не знал тогда об опеке, которую в борьбе с вымогателями учинили Рита Михайловна и домработница Клава над журналистом (а ныне к нему прибавился еще и Коля, которого и вовсе откровенно заперли, правда по иной причине), но, конечно же, догадался, что у Щусева имеются основания подобным образом себя вести.
Мы вошли в роскошный лифт, двери которого сами захлопнулись. (Тогда это была еще новинка.)
– Обстановка здесь сложная, – тихо сказал мне в лифте Щусев, – но думаю, это только на руку, – и он загадочно улыбнулся, – не стану тебе объяснять, объяснять долго и только запутает. Сам поймешь.
Мы поднялись до предела, на самый верх, и вышли из лифта. Двери на лестничной площадке были одна краше и богаче другой – обитые клеенкой, поблескивающие многочисленными своеобразными замками с пружинами, на полу – цветные коврики для ног, явно импортные, ибо я таких никогда не видел. Вытереть ноги о такой коврик – это значило приобщиться к чему-то богатому. (Напоминаю, при моей постоянной нищете, в отличие от иных, возвеличивающих свое нищее положение презрением к богатству, я богатство уважаю.) Я с интересом оглядел двери, думая, к какой же из них подойдет Щусев, но он неожиданно пошел вниз.
– Этаж проехали? – спросил я, удивившись, ибо понимал, что Щусев здесь бывал и не такой он человек, чтоб не запомнить месторасположение серьезного объекта (как он иногда выражался). И действительно, это была не ошибка, а замысел.
– Наступает время, Гоша, – сказал Щусев, – когда жизнь нам ни одной ошибки не простит, даже мелкой, бытовой.
Щусев проехал на самый верхний этаж, ибо знал, что Рита Михайловна и Клава прислушиваются к шуму лифта и если он останавливается на их площадке, то тут же принимают меры вплоть до того, что заставляют журналиста уйти в дальние комнаты (в квартире пять комнат, кроме кухни), и сами встречают посетителя еще перед дверью, даже не дав ему позвонить. (Это Коля рассказал, оказывается, Щусеву, причем рассказал с горечью в адрес слабохарактерного отца. «Ибо я знаю, – добавил Коля, как известно отца тайно любивший, – знаю, что прячется он не из трусости, а из слабого характера, не в состоянии противостоять матери и Клаве». Тем более что последнее время их сторону взяла и Маша, ранее Колю и отца, наоборот, поддерживавшая.)
Маневр с лифтом позволил нам осторожно спуститься тремя этажами вниз, и Щусев остановился перед дверью, роскошной даже среди других богатых дверей, обтянутой каким-то особым материалом под крокодилью кожу. От двери этой исходил запах прочного достатка, а коврик для вытирания ног был вообще какой-то особой конструкции, щетинистый… Щусев молча приложил палец к губам, показывая, что я до поры должен соблюдать тишину. (Не следовало меня учить, я и так понял, что здесь надо вести себя особым образом, хоть и волновался, ибо все-таки стоял впервые на пороге Машиного дома.) Затем Щусев встал к двери вплотную, чтоб закрыть смотровой глазок, а мне кивнул на звонок. Я сразу понял и нажал. Раздался какой-то необычный, неординарный перезвон. Я нажал снова. И дверь распахнулась неожиданно быстро. Неожиданно даже для Щусева, который несколько растерялся. А что уж говорить о домработнице Клаве, которая и вовсе опешила, во-первых, от своей оплошности, а во-вторых, оттого, что увидела не того, кого ждала. Одно было следствием второго, и, как выяснилось потом, все в доме, даже журналист, оставивший на время свои раздумья, ждали врача-психиатра к Коле, но врач запаздывал. Так слепой случай (столь закономерный и ординарный в политическом противоборстве) помог нам, ибо неожиданный звонок был принят за звонок врача. (Тут помог также и маневр Щусева с лифтом, не давший Клаве выйти на шум и встретить нас перед закрытой дверью.)
– Ой, – растерянно вскрикнула Клава, – а их нету… Они в отъезде, велели передать.
В это время в коридоре появился журналист, думая, что пришел доктор, но тут же отпрянул, рассчитывая, что мы его не заметили. Следовательно, находился он к тому времени уже в новой стадии, которая постепенно созрела в период опеки и в одиночестве, и находился, если выразиться образно, под прямым углом к линии своего прежнего поведения – сперва сталинского, а затем антисталинского, то есть чувство долга, пусть и противоположного в разные периоды, у него постепенно заменилось анализом, который в его возрасте и при его мировоззрении неизбежно приводит к созерцательному консерватизму. Правда, новые взгляды его тогда еще находились в периоде созревания, но защитные реакции, как известно, созревают одними из первых, и, несмотря на то что поиски объективной истины лишь только начинались, то, что спасает от этой истины самолюбие, – остроумный и талантливый цинизм уже вполне овладел журналистом, после чего раздумья его стали (он это заметил) более ясными и интересными. Толчком к этому повороту (но, конечно же, не причиной) явилась третья пощечина, о которой тогда вовсе никто не знал, кроме приятеля журналиста, человека военного, то есть надежного и не болтливого. Следовательно, повлияло тут не общественное мнение, а личные размышления, тем более пощечина эта была получена случайно, может быть даже по ошибке, вблизи дачи приятеля, куда Рита Михайловна пыталась спрятать журналиста от вымогателей. (На собственной даче, конечно же, не спрячешься.) В тот момент, когда журналист переходил мостик над весьма живописным прудом, навстречу ему явилась какая-то молодая женщина или девушка и с традиционным криком «стукач!», ударив журналиста по щеке, побежала к кустам. Приятель, который в тот момент находился с удочками на берегу, хотел было за ней погнаться, но журналист остановил его, улыбнулся с некоторым цинизмом и в тот же день уехал с дачи домой.
Первая пощечина от искалеченного пытками реабилитированного вымогателя, как известно, журналиста потрясла и возмутила, вторая – от Висовина – его успокоила, заставила задуматься и на некоторый период подсказала путь чуть ли не христианского долготерпения в замаливании своих грехов сталинского времени. На третью пощечину он только цинично улыбнулся в ответ: ну что ж, мол, вот так… а как бы вы хотели?.. Ибо с тех пор произошел целый ряд событий. Разрыв его с шумным молодежным движением, которое он вначале, в первые хрущевские годы, чуть ли не возглавлял и для которого он (конечно же, до первой пощечины от реабилитированного) служил пророком, разрыв этот заставил его многое переосмыслить. Как ни странно, ему, человеку седому и опытному, многое подсказали собственные дети, которых он любил и за судьбу которых беспокоился, чувствуя здесь собственную вину и не споря уже с женой, Ритой Михайловной, когда та начинала его в подобном упрекать. Маша подсказала ему впрямую, изменив своим прежним шумным друзьям и дав им убийственные характеристики. Коля же – от обратного, этими друзьями увлеченный и вообще, кажется, попавший в дурную компанию, причем не зеленой глупой молодежи, а опытных негодяев, – так журналист в душе начал считать, вот до какой степени он переменился. Впрочем, человек этот всегда способен был к резким переменам, как глубоко себя ценящая натура, но если ранее для перемены ему нужно было какое-либо общественное впечатляющее движение, то ныне он стал более индивидуален, что вообще характерно для периодов отсутствия увлекающих общественных движений, и в нем, журналисте, начали появляться первые признаки тех веяний, которые распространились в обществе, да и то в неясном виде, спустя продолжительное время после описанных событий, то есть – созерцательность, усталость, выжидание, объективизм и раздумье… А все эти качества, особенно в бурные времена и особенно среди молодежи, выглядят подло. Вот почему журналист в последнее время замкнулся ото всех и даже от своих детей. (Пожалуй, и Маша его в этом не поняла бы, что уж говорить о Коле!) На все просьбы Риты Михайловны поговорить с Колей он категорически отказывался, ибо он знал Колю как умного мальчика, который сразу уловил бы обман, начни он с ним неискренний разговор. А искренний разговор, по его мнению, вообще привел бы к катастрофе и разрыву. Поэтому теперь, несмотря на столь оправдывающие его причины, когда с Колей что-то случилось особенное, журналисту было совестно перед женой. Никто, конечно, не догадывался в семье, что Коля участвовал в покушении на Молотова, но его вид, когда он вернулся домой возбужденный и с разорванными брюками (убегая, он их разорвал о забор), его вид и особый нездоровый блеск глаз, делавший его, кстати, очень похожим на отца в минуту душевной тревоги, – все это заставило принять немедленные меры, которые журналист сам же одобрил, впервые согласившись в этом смысле с Ритой Михайловной и заняв открыто консервативные позиции. Коля был заперт в маленькой комнатушке, куда ранее, в период раскаяния своего за грехи сталинского времени, журналист перебрался из своего роскошного кабинета. Кстати говоря, комнатушка эта уже некоторое время пустовала, ибо, вернувшись в новом качестве после третьей по счету пощечины, журналист велел Клаве перенести нужные ему книги и вещи из комнатушки назад, в свой богатый кабинет. Так что комнатушка эта еще ранее была освобождена и как бы ждала Колю в качестве домашней тюрьмы. Вызванный врач определил нервное истощение, прописал лекарства, постельный режим и лечение сном с применением препаратов, но Рита Михайловна считала, что врач этот осмотрел Колю весьма поверхностно, и потребовала обратиться к специалисту, кстати другу семьи, доценту Соловьеву, к услугам которого не прибегали, во-первых, потому, что Рита Михайловна не любила жену Соловьева, которая Риту Михайловну по глупости, как считала Рита Михайловна, ревнует к своему мужу и которая потому в отместку могла распустить слухи, что у Риты Михайловны дети нервнобольные, а во-вторых, потому, что Соловьева вообще не было в Москве. Но положение Коли так пугало Риту Михайловну, что, когда выяснилось, что Соловьев вернулся из Англии, Рита Михайловна тут же настояла пригласить его, пренебрегая дурными качествами его жены. Этого Соловьева они и ждали, но он запаздывал, и тут мы как раз и подоспели весьма удачно.
Все это, конечно, стало известно мне впоследствии, тогда же я был в полном неведении, был ошеломлен роскошной передней с зеркалами да и самим видом журналиста, седая грива которого была мне знакома по фотографии. Повторяю, журналист, судя по тому, что он сам хотел скрыться от нас, ныне в опеке со стороны не нуждался и если подчинялся в этом смысле жене, то явно не без тайной мысли переложить на нее нравственную ответственность за свое решение прекратить финансовую помощь реабилитированным. Тут, как оказалось, много сделал также и Висовин, написавший журналисту письмо, в котором просил более не присылать ему денег, и, возможно, даже позволивший себе намеки относительно истинных целей, на которые эти деньги употребляются. Подробностей мы, конечно, в тот момент, стоя в передней, не знали, но в общих чертах даже и я некий поворот в отношении к нам журналиста осознал. Тем более, не сомневаюсь, засек его и Щусев.
– А вот и вы, – сказал Щусев и, буквально оттолкнув домработницу, прошел вглубь квартиры к журналисту.
Как выяснилось (вообще многое почерпнуто потом из рассказов самого действующего лица либо его близких и мной переработано), итак, как выяснилось, в последнее время, с новым поворотом от долга к анализу и созерцанию, журналист редко бывал добр и растерян перед напором, как прежде, а чаще остер и насмешлив, однако болезнь Коли выбила его из колеи и в какой-то степени напомнила о долге и ошибках. Так что Щусева, после того как обман не удался, журналист встретил доброй, растерянной, задумчивой улыбкой, почти такой же, какой он ответил в свое время на пощечину Висовина. Эта улыбка (пассивная улыбка, чем она резко отличалась от циничной активной улыбки после третьей пощечины), эта улыбка была последним, что я увидел, ибо домработница Клава, очевидно по простоте своего сознания, в сложившейся ситуации прежде всего рассудила, что с одним будет справиться легче, чем с двумя, и, воспользовавшись моей нерешительной позой на пороге у открытой двери, вдруг сильно схватила меня привыкшими к физическому труду руками и при этом, не стесняясь, прижалась ко мне своей довольно упругой грудью деревенской бабы. Я не успел ничего сообразить, как от сильного, мужского толчка оказался на площадке. Дверь передо мной захлопнулась, и мы со Щусевым были таким образом отрезаны друг от друга. Первоначально я растерялся и хотел даже уйти, но все-таки потоптался еще минуту-другую у двери, и весьма кстати, ибо дверь вскоре распахнулась и я увидел женщину, которая наглядно демонстрировала, как годы и страдания могут впоследствии видоизменить Машу.
Вообще, когда дочь похожа на мать (это была Рита Михайловна), когда обе они красивы, но красота матери уже тронута временем и обстоятельствами, это весьма пугает, особенно влюбленного в дочь мечтателя и романтика, каковым я был. Я увидел еще густые Машины волосы, но искусственного, безукоризненной черноты цвета, явно крашеные (Рита Михайловна носила длинную и, как она считала, молодящую ее прическу), прекрасную лебединую Машину шею, сохранившую форму, очевидно, от многочисленных втираний кремов, но от этих же втираний приобретшую нездоровый сальный блеск кожи, я увидел осевшую книзу Машину фигуру на оплывших, явно больных ногах, воспаленные, усталые голубые Машины глаза и крупный Машин рот, единственная мужская деталь на Машином лице, придающая нежной ее женственности активное начало, однако, в данном случае, полный нездоровых прокуренных зубов с двумя или тремя золотыми, чего у Маши не было вовсе. И я вдруг понял в этот момент, что вновь жестоко обманут и Маша как венец, как конечный этап моей жизни не стоит перенесенных мною страданий. Я не то чтобы разлюбил Машу (даже и Рита Михайловна по-прежнему впечатляла, ибо была все-таки весьма красива), я не разлюбил Машу, но я снизил ставку, и я понял, что Маша не венец, а лишь этап на пути к венцу. Все эти мысли, разумеется не в таких подробностях, пронеслись мгновенно, пока я стоял перед вновь открывшейся дверью.
– Входите, – сказала Рита Михайловна, с горечью и неприязнью посмотрев на меня, – она, очевидно, открыла дверь по настоянию Щусева. (Голос у нее был явно Машин, без всякого налета, может, чуть-чуть ниже из-за никотина. И у меня, несмотря на разочарование, забилось сердце.) – Только тише, – сказала она, когда я шагнул в прихожую, причем и сама снизила голос до шепота, – у меня болен сын, он не спал всю ночь, лишь недавно заснул, – при этом она посмотрела и на меня, и на Щусева, и, кажется, даже на журналиста со злобой.
Все по-прежнему были на том же месте и, мне показалось, в тех позах, в каких я видел их до того, как домработница меня вытолкнула. Но они явно о чем-то столковались и пришли к компромиссному решению, ибо Щусев на замечание Риты Михайловны сказал шепотом:
– Хорошо, и это ваше условие мы принимаем.
Значит, сообразил я, были приняты и другие условия Риты Михайловны. (Ибо конечно же она, а не журналист была главной стороной в переговорах.) А также приняты условия и Щусева. (В частности, впустить меня.)
Мы прошли в кабинет журналиста, кабинет, который меня ошеломил. Все здесь было вкус и богатство, но богатство изобретательное, которого иному, дай и миллион, не достигнуть. Я оглядывался и вбирал все в себя. Так вот что существовало на свете, пока я в ничтожестве боролся за койко-место. Это мягкая белая медвежья шкура на полу, старинная тяжелая дворянская мебель, а не полированный модерн, но в углу новейшего типа торшер… Книги вокруг до потолка… Бронза… На стене Пушкин, а не Хемингуэй, но две картины в золоченых рамах явно в стиле сюрреализма (как выяснилось потом – Пикассо), а, конечно, не социалистического реализма и даже не критического реализма. Вот оно, сочетание. Вот он, высший ряд… Но одновременно я понял также, что люди, живущие среди всего этого и всего этого достигшие, не способны всем этим распорядиться в полной мере и, более того, создается впечатление, измучены всем этим. Так думал я, усаживаясь осторожно в роскошное кресло (я сидел в таком кресле впервые). Журналист тоже опустился в кресло, безразлично, скучно и без всякого аппетита. (Эти люди утратили вкус к жизни и к роскоши, а у меня еще сохранились нетронутыми целые пласты наслаждений, которые предстоит познать.) Щусев также ткнулся в кресло безразлично, правда крайне сосредоточенный – наверное, на своем плане борьбы с журналистом. (Вернее, с Ритой Михайловной.) И все-таки его план – это не мой план. Пока мне еще трудно со Щусевым бороться, тем более действия его пока мне на пользу, разумеется до известных пределов. Я один. У меня нет никакой опоры. Какая прекрасная опора эта семья. Пять комнат, запах прочности и власти, исходящий от старинной бронзы и современных картин. Мысли о Маше, которые владели мной, когда я увидел похожую на нее мать, даже и на пользу, как я теперь понимаю, ибо они делают Машу не венцом, а этапом… Но меня ненавидят здесь все, кроме, пожалуй, Коли… Хотя кто знает, что с ним после того, как он оказался запертым… Наверное, ему дали снотворное, иначе бы он среагировал на наш приход…
Так, несколько растрепанно мысля, погруженный в себя, я пропустил начало противоборства. Правда, вел противоборство Щусев, я-то здесь был сбоку припеку, еще не понимая, зачем он меня взял.
– Значит, вы отказываетесь направлять нужные суммы? – говорил Щусев.
Очевидно, этот вопрос он задал во второй или в третий раз, ибо журналист сказал:
– Если вы хотите переломить меня монотонностью вопроса, то вряд ли это удастся. И признаюсь, я вас переоценил. Вы удивительно ничтожная личность, и мне даже жалко, что я буду участвовать в общем показательном судебном процессе, если ваш шантаж увенчается успехом… Разумеется, в качестве свидетеля, но и того достаточно. Вы шантажируете меня тем, что покажете корешки почтовых переводов прошлых сумм, следовательно, докажете мое участие в вашем хулиганстве… И этим вы думаете меня запугать? – журналист хохотнул коротко и небрежно.
Ах, вот до какой остроты дошел разговор, пока я разглядывал мебель и вообще был сосредоточен на своем. Лицо журналиста выглядело теперь жестко, даже жестоко, причем, пожалуй, к себе и к своей семье, ибо я знал, что со Щусевым так говорить не следует. Это человек опасный и смертельно больной. Я видел, что даже и Рите Михайловне такой поворот в журналисте (ох, как часты, буквально ежеминутны были в этом человеке повороты), даже и Рите Михайловне, нашей главной противнице, такой поворот не понравился и она, по-моему, помимо всего, усмотрела еще и вызов себе, и противоборство ее опеке, которая журналисту начала надоедать.
– Сколько вам надо денег? – быстро спросила она Щусева.
– Деньги нужны не мне, а России.
Я понял, что он на грани и колеблется между желанием примириться или сделать в противоборстве следующий ход. Но тут журналист, которым овладело капризно-злобное состояние, главным образом на себя и на свою прошлую покорность (это чувство мне знакомо), торопливо спросил, чтоб не дать Щусеву вернуться к покою и миру:
– Скажите, вы не родственник архитектора Щусева, строившего Мавзолей Ленина?
В принципе вопрос был обычен и неудивителен, но только не в данной ситуации и не в данном развитии взаимоотношений, когда дело надо было закруглять. К тому же Щусева уже, наверное, по этому поводу спрашивали много раз.
– Нет, – начиная даже слегка дрожать, сказал Щусев с ненавистью (его прорвало). – Я другой… Меня в концлагере на ж… сажали…
Он выразился грубо, невзирая на присутствие женщины, и громко. (Весь разговор до того происходил по просьбе Риты Михайловны шепотом.)
– Замолчи! – не стесняясь нас, впрочем поставленная в крайнее положение, прикрикнула на мужа Рита Михайловна.
– А мне надоело! – тоже выйдя из пределов, выкрикнул журналист. – Разумеется, я совершил много непродуманных поступков в сталинские времена…
– Жертвам, на которых вы доносили… – перебил Щусев, – было безразлично, продуманы ваши поступки или нет.
– Я не доносил, – сказал журналист также с ненавистью, которая крайне не шла к его доброму лицу и делала это лицо даже в чем-то пугающим. Есть лица, к которым ненависть просто не лепится. – Я не доносил… – повторил журналист, – ибо в сталинские времена мне не на кого было доносить… Я не имел тогда дела с мерзавцами… И пожалуйста, прекратите здесь употреблять грубые слова… При женщине…
– А, вы о ж… – сказал Щусев, – я поясню… Сажать на ж… это скорее условный термин… лагерный… Это значит взять провинившегося заключенного за руки и ноги, сильно его растянуть и одновременно по команде отпустить. Он ударяется о землю сразу и часто не имеет при этом внешних повреждений, но внутренности его приходят в негодность… Особенно в этом смысле страдают легкие… После трех сажаний кровотечение неизбежно…
Мне кажется, Щусев говорил сейчас с искренней горечью и злобой, даже потеряв нить противоборства. Он, безусловно, имел в запасе какие-то ходы против журналиста, ведь недаром же он взял и меня с собой. В чем-то он и меня намеревался использовать. Но поведение журналиста (оно было для Щусева ново и неожиданно), но поведение потянуло весь разговор не туда, а его искренность при воспоминании о пытке помешала ему довести дело до конца и прибрать вновь журналиста к рукам. Причем лучше всего было бы, если б журналист вел свою циничную линию, тут-то его и можно было подловить, и тут-то, я отметил это для себя, и тут-то сказались недостатки Щусева – его уличная грубость методов. Впрочем, его действительно трогали за больное, а это всегда мешает тонкости и противоборству. То, что журналист после слов Щусева утратил свой цинизм, было в конечном итоге нам во вред, ибо он как-то сник, потерялся после всплеска, и инициативу явно опять брала Рита Михайловна.
– Сколько? – спросила она. – И быстрее уходите, мы ждем врача к сыну…
– Вот как, – посмотрел на нее Щусев. – Нам не нужны единовременные пособия на бедность… Нам не нужны еврейские деньги… Еврейский пластырь на русские раны…
Щусева явно заносило.
– Во-первых, мы не евреи, – вспыхнув, сказала Рита Михайловна, – а даже если бы и были евреи, какая разница…
Я видел, как она глянула на журналиста, а он на нее… Я видел, как этим людям неловко друг перед другом за все, что сейчас происходило, о чем они говорят и в чем они принимают участие.
– А что же вам нужно? – устало сказал журналист.
– Во-первых, вы должны извиниться за нанесенное мне и моему товарищу оскорбление, – сказал Щусев.
– Хорошо, – сказал журналист, – извините, пожалуйста… Ну, а во-вторых… Во-вторых, поскольку я понимаю, – он полез в ящик стола и вынул хрустящую пачку денег, закрепленную резинкой и, очевидно, приготовленную для каких-то домашних нужд, – вот возьмите… Только уходите побыстрее…
Наступила пауза. Я понимал затруднение Щусева, ибо он, выразившись о еврейских деньгах, ныне не знал, как повернуть и не упустить этой жирной дотации. И я впервые за все время нашего посещения принял инициативу на себя, встал с кресла, подошел к столу и взял деньги из протянутой руки журналиста. Своим поступком я оказал услугу как Щусеву, так и журналисту, который стоял неловко с протянутой вперед рукой. Более того, в действиях моих не было ничего истеричного, чем отличался в этот раз Щусев. (Правда, напоминаю, он был после припадка.) Мне самому понравилось, как я подошел, взял деньги и положил их в карман пиджака. Сказать по-честному, я хотел понравиться этим людям или, в крайнем случае, показать им, что я нечто иное, чем Щусев. И действительно, журналист посмотрел на меня внимательно и сказал:
– Ваша фамилия не Цвибышев?
– Да, – ответил я, польщенный.
– О вас мне много говорил Коля, – сказал журналист. – Вы бы зашли как-нибудь… Тут еще один человек вами интересуется… Рита, это ведь Цвибышев…
Подобное уже было вовсе неожиданно. Я понимал, что в дело сейчас вступит Щусев. Такой странный поворот в моих отношениях с семьей журналиста его, безусловно, не устраивал. И действительно, Щусев тут же перебил раздраженно:
– Нам пора…
Я соображал, какое избрать продолжение. Решать надо было мгновенно. Однако мне так ничего и не удалось придумать. И тут вновь ко мне на помощь пришло Провидение, причем с самой неожиданной стороны. Вдруг на пороге кабинета явился Висовин (очевидно, Маша открыла дверь своим ключом, вот почему неожиданно и без звонка), явился Висовин, вокруг которого, мне подумалось, и хотел строить свое противоборство с журналистом Щусев, но разговор неожиданно отклонился в другую сторону.
Висовин оглядел всех, растерявшихся от его внезапного появления, потом молча подошел к Щусеву, схватил его за горло и легко, поскольку Щусев был все-таки ослаблен утренним припадком, легко повалил на пол, на богатую шкуру белого медведя. Во время этого дикого происшествия я находился до того в парализованном, застывшем и отрешенном состоянии, что отметил мягкую шкуру медведя, на которую повалили Щусева, как комический момент. В остальном же все приняло очень серьезный оборот, ибо Висовин, воспользовавшись нашим замешательством, так сдавил горло Щусева, что у него посинело лицо и хлынула изо рта кровь. (Напоминаю, он был болен легкими, отбитыми в концлагере.) Остальное замелькало, зарябило, и, как всегда во время неожиданного скандала крайнего толка, как во сне, где все может случиться и нет ничего недозволенного, я увидел Машу не то что с побледневшим, но совершенно обескровленным лицом, Машу, которая странно как-то вращалась вокруг своей оси, отталкивая мать, во рту которой блестели золотые зубы, и журналиста, который в первое мгновение бросился вон из кабинета, то ли позвать кого-то, то ли просто убежать, и при этом, второпях споткнувшись, он ударился своей всемирно известной седой головой об угол золоченой рамы сюрреалистической картины. А Висовин между тем продолжал душить Щусева, и даже уж не совсем на эмоции, но с проблесками расчета и разума, ибо уперся коленом Щусеву в грудь, помогая себе. К счастью, в кабинет ворвалась домработница, натура простая, и она без излишних подсознательных действий навалилась всем своим тяжелым упитанным телом, тяжелыми грудями своими на спину Висовину. Гикнув, как делает простой человек перед тем, как употребить решающее усилие, она разом оторвала Висовина от Щусева, причем как-то боком, так что левая рука Висовина вовсе освободила горло Щусева, правая же касалась горла концами пальцев и жадно тянулась к этому горлу. Я видел, что лицо Клавы покраснело от усилий, и в решающий момент я пришел ей на помощь: захватил и убрал окончательно эту правую руку Висовина от горла Щусева, лежавшего без сознания, с мокрыми от яркой легочной крови губами. Несколько пятен крови было и на полу, но пролилось на паркет, мимо шкуры белого медведя, лишь чуть-чуть забрызгав ее с краю.
Пока мы с Клавой проделывали все эти манипуляции, хозяева из кабинета исчезли, и весьма кстати, так как освободилось пространство, необходимое для маневра. Висовин, бывший десантник, вдруг применил подсечку, и Клава тяжело рухнула на пол, меня же Висовин отбросил и снова протянул руки, жадно, в самозабвении устремился к горлу лежавшего без сознания Щусева, дабы закончить начатое. Но я успел вцепиться Висовину в рубашку, лопнувшую с треском, и все-таки придержал его. К тому времени поднялась Клава и вновь бросилась грудями на спину Висовина, силы которого явно иссякали от усталости и эмоциональной затраты. Он и сам осознал, что вторично ему приема не повторить, и потому, когда мы волокли его, сказал прерывающимся голосом:
– Гоша, его надо убить… Прошу тебя… Я на себя возьму… Вы ни при чем… Сколько он еще напортит живой… Это стукач… Он всех обманывает… Он и тех обманывает…
Клава волокла Висовина к двери, а я повторял все ее движения. Подбежала Рита Михайловна. (Маша, как выяснилось, была заперта в ванной комнате, и Рита Михайловна, таким образом, освободилась.) Дверные замки были отперты, и мы втроем выбросили Висовина на площадку. На площадке было много народу, привлеченного шумом, по виду все люди зажиточные, соседи из богатых квартир. В ушах моих повторялся монотонный гулкий звук: уау-уау-уау… Я видел, что Висовин в разорванной мною рубашке побежал вниз, увернувшись от чьих-то рук, которые хотели его задержать, впрочем проделав это довольно вяло. Вот он скрылся за лестничным поворотом, и все. Я почему-то подумал, что вижу его в последний раз. (Я ошибся. Он появился опять в моей жизни, но уж гораздо позднее.) Впрочем, на подобные лирические отступления времени у меня не было. Надо было осознать новую ситуацию, внезапно сложившуюся, и мое место в ней. Когда я вернулся в кабинет, Щусев, очень слабый, поникший, с исцарапанной в кровь ногтями Висовина шеей, сидел на диване, куда, очевидно, помог ему забраться журналист. Сам журналист, тоже мятый и подавленный, сидел «у себя», то есть за огромным красного дерева «творческим» столом, и молчал. Вскоре в комнату вошли Рита Михайловна и Маша, которая наконец выпущена была из ванной.
Глава одиннадцатая
Случившееся настолько напоминало ночной кошмар, что мы все имели лица более удивленные, чем испуганные, причем каждый удивлялся другому и, кажется, даже оглядывал с недоверием, не понимая, все ли это доподлинно произошло в действительности. Себя я со стороны не видел, но у всех этих людей, мне кажется, на мгновение взгляд был одинаковый, свойственный оглушенным и ищущий в окружении каких-либо привычных ориентиров, чтобы сознание, уцепившись за них, вновь ожило. И ориентир этот явился в лице незаменимой в таких интеллектуально усталых семьях, примитивной Клавы, которая, войдя в кабинет, начала деловито подбирать осколки вазы дорогого фарфора.
– Надо бы в милицию, – сказала сердито Клава, прихрамывая, ибо в борьбе Висовин ушиб ей бедро и ногу, – дрянь хрущевская… Евреи недорезанные… Жаль, что вас Сталин недорезал…
– Ну что ты такое говоришь, Клава? – слабым голосом сказала Рита Михайловна. – Какие они евреи?.. Да и при чем тут евреи?..
– А все эти реабилитированные евреи, – сказала Клава.
– Ее надо было давно рассчитать, – вспыхнула Маша, отчего бледные щеки ее порозовели, и вообще она, кажется, приходила в себя, – эту сталинскую стерву!..
– Да, сталинская, – независимо сказала Клава, – я сталинская…
– Хватит, Клава, – строго оборвала Рита Михайловна, – и ты помолчи, – обернулась она к дочери, – ты что натворила?.. Я теперь только начинаю понимать, что ты натворила… Чтоб этого Висовина и духу не было…
– Правильно он сделал, – сказала со злобой Маша, и злоба эта вовсе ее укрепила, так что она даже встала, – я, конечно, не ждала, чтоб он за горло… Но правильно… Это стукач… Хватит с меня семейных работников КГБ, – и она кивнула на Щусева, который продолжал сидеть с истерзанной шеей, склонив голову к плечу, то ли измученный настолько, что не реагировал, то ли (он, кстати, тоже несколько порозовел), то ли соображая, как действовать далее. (Я тоже был этим озабочен, потому и молчал.)
– Маша, – крикнул дочери журналист, – подумай, о чем ты говоришь!.. В наших унавоженных протестом недрах зреют такие силы, что выявление их есть благо, а не позор.
– Вот как ты заговорил, – вспыхнула Маша. – Я тебя защищала, а видно, Коля прав… Ты, русский интеллигент, смеешь восхвалять донос!..
– Я говорю не о доносе, а о предотвращении готовящихся преступлений… Всякое государство имеет органы безопасности…
– Тише, – прервала Рита Михайловна, – кажется, Коля проснулся… – (Я не знал еще тогда, то ли ей действительно почудилось, то ли она сказала специально, чтоб прервать разговор, принявший весьма опасный характер.) – У Коли, – продолжала она, убедившись, что Коля не проснулся, – у Коли сегодня первый день лечения сном… Какое счастье, что этот скандал он попросту проспал… И вот что, Клава, – обернулась Рита Михайловна к домработнице, – никаких разговоров, никакой милиции. Мы вызовем такси, и они сейчас уедут. Соседям скажи: был скандал… Дети нахулиганили… Без подробностей, которые, я надеюсь, никому не выгодны, – она глянула на Щусева, который все еще сидел устало, с запекшейся на губах кровью…
Журналист также обратил, казалось, лишь сейчас внимание на кровь.
– У вас частые кровотечения? – спросил он Щусева.
– У меня отбиты легкие, – ответил тот слабо, – но я еще поживу. – И тут голос его окреп. – Этот любовник вашей дочери, – он с ненавистью обернулся к Маше, – ваш любовник меня не переживет… Считайте, что он уже подох в психиатричке… Пойдем, Гоша, – и, употребив усилие, Щусев встал, опершись мне о плечо.
Я понял, что, обратив внимание на кровь (собственно, кровь проступила с самого начала, как только Висовин начал душить Щусева, но события так завертелись, что журналист, а вместе с ним и остальные, лишь придя в себя, по-настоящему поняли, что Щусев больной и страдающий человек), так вот, обратив внимание на это, журналист, человек в основе своей все-таки мягкий и добрый, смягчил свое противоборство со Щусевым. Однако, как я понял, Щусеву это было невыгодно, ибо весь свой расчет он строил на пределе и все его действия носили острый завершающий порядок. Вот в этом мне с ним было не по пути, ибо я лишь начинал. Фраза, брошенная Маше и журналисту, насчет того, что Маша – любовница Висовина, была умышленно оскорбительная. Но, опершись после этой фразы мне на плечо, Щусев как бы и меня приобщал к своей открыто объявленной семье журналиста войне. Нет, у меня был иной расчет, и я, решившись, освободил свое плечо от руки Щусева. Он едва не потерял равновесия, ибо был еще крайне слаб, и, не нанеси Щусев такого страшного, умышленного оскорбления этой семье, я жестом своим, оставившим без опоры больного человека, конечно бы, проиграл в их глазах, ибо они были воспитаны на гуманной морали. Тем не менее я пошел на риск, зная, что Щусев своими оскорблениями помог мне оставить его и начать самостоятельные отношения с этой семьей.
– Ты не прав, Платон, – сказал я, – и обязан сейчас извиниться… – Я сказал ему, во-первых, «Платон», а во-вторых, «ты», чтоб показать публично мое равенство. Сейчас я неожиданно мог взять реванш за неудачу мою во время утреннего разговора со Щусевым, когда он одержал надо мной верх. – Уверен, – добавил я, – что отношения Маши с Висовиным были чисты.
Тут я перегнул в хитрости, ибо Маша сразу крикнула нервно, причем отыграв на мне весь свой гнев (в адрес открытого оскорбления Щусева она промолчала).
– Я не прошу вас своими пошлостями защищать меня! – крикнула Маша.
– Не кричи, – оборвала ее Рита Михайловна.
Это уже окрик в мою пользу. Если б еще Щусев оскорбил меня, а у него были основания, то это могло мне крайне помочь в моих отношениях с этой семьей. Но Щусев словно почувствовал мое желание, обернулся осторожно (быстрые и резкие движения явно причиняли ему боль) и сказал мне, кажется едва заметно улыбнувшись:
– Попробуй, попробуй, Гоша, может, что и получится… Все бывает… – и пошел далее, осторожно и экономно неся себя и делая частые остановки. Дышал он тяжело, хоть и старался улыбаться.
– Ему надо все-таки помочь, – невольно вырвалось у журналиста, – вызвать такси… И деньги… Передайте ему деньги, которые он взял у нас для устройства судьбы России, – в этом месте журналист не удержался и ввел в свою искренность, в жалость к избитому и больному сатирический мотив, на который Щусев никак не реагировал, видно сосредоточенный на своем.
– Деньги сейчас не надо, – сказала Рита Михайловна, – тут Висовин внизу может ждать его и отнимет.
– Мама, не смей так о Христофоре, – крикнула Маша, – он не ради денег!
– Да и ему мы немало денежных переводов отправили, – сказала Рита Михайловна, – а за что? В те годы тюрьма была лотереей. И вообще, в период борьбы за свою независимость Россия никогда не жила законом, ибо закон противоречит силе, нужной для борьбы. – Рита Михайловна, оказывается, тоже не чужда политических мыслей, отметил я про себя. – Да, да, – продолжала она, – требовать за свои страдания денег так же пошло, как инвалиду выставлять культяпки.
– Мама, перестань! – снова крикнула Маша.
Щусев, который между тем медленно, тяжело дыша, продвигался к двери, остановился на пороге и вдруг сказал, обернувшись:
– Знаете, как в деревнях мужики выпаривают кипятком из пропотевших своих рубах вшей?.. Вот так же вас выпарит Россия… Выпарит, а потом отстирает рубашку от вашей жидовской вшивой крови… – И он шагнул в открытые перед ним Клавой двери, все так же тяжело, порывисто дыша. Дверь захлопнулась.
Несмотря на то что скандал был самого дикого свойства, все мы были ошеломлены, причем, главным образом, тоном Щусева. От слов этого смертельно больного человека веяло не нервами и страстью, а застывшим холодом, поднявшимся с самого основания, с низов, откуда все начинается, но редко достигает поверхности в первозданном виде, переходя от этапа к этапу и преобразуясь. Это была ненависть, которую и я, наслушавшись Щусева, ощутил впервые. Это была первородная идеология какой-то тяжелой, лежащей в основании силы, до конца неясной даже тем, кто к этой силе принадлежит. И мне показалось, что эта сила давила снизу с пугающей повелительностью, которую нельзя было не учитывать тем, кто когда-либо возглавлял Россию… Это была та биологическая слизь, из которой все рождалось и развивалось и, едва родившись, старалось подальше отделиться от своей вызывающей брезгливость основы и быть наименее на нее похожей… Но иногда общественные течения переходного периода, когда все взвинчено и взбаламучено, выносят куски этой слизи наверх, и тогда все чувствуют ее силу, и ее влияние, и свое от нее происхождение. Одни со страхом встречают куски этой первородной слизи, а другие, особенно запутавшиеся в многоклеточном своем организме, – с радостью, как простой, ясный выход к своему источнику и началу… Исторической судьбе угодно было, чтоб чаще всего, особенно в славяно-германском котле, первородная слизь эта, вынесенная в бурные времена наверх, принимала форму искренней антисемитской страсти. Так и со Щусевым, подведшим ясный для себя итог того путаного, что здесь произошло. Слабая многоклеточная жизнь так ненавидеть не способна. Так ненавидит сама цельная ясная смерть, таящаяся в изначальном одноклеточном зародыше.
Ситуация после яростного ухода избитого, едва не задушенного Щусева складывалась со многими неизвестными. Во-первых, каковы отношения Маши с Висовиным? Так ли она его любит и так ли «в огонь и в воду»?.. Вслед за ним она не побежала, когда, после того как его выбросили вон, ее выпустили из ванной, а лишь защищала его словесно. Впрочем, судя по всему, она в то же время не могла простить ему крайних безрассудных действий и попытки совершить убийство в доме ее родителей, вместо того, как они, очевидно, договорились, чтоб просто по-рыцарски выбросить Щусева из квартиры. Помимо всего прочего, этим поступком он завоевал бы симпатию родителей, особенно отца. Мать-то все равно была бы против их женитьбы, но уж не так категорично. Однако, отдавшись порыву ярости при виде Щусева или в соответствии с планом (напоминаю, Висовин предлагал мне помочь ему в ликвидации Щусева, но затем перевел это в шутку), итак, Висовин пошел на крайность и все испортил. Я восстановил для себя направление Машиных мыслей и, должен сказать, примерно оказался где-то около истины, как выяснилось впоследствии. Далее – неизвестно было отношение ко мне Риты Михайловны, особенно после намеков журналиста о некоем разговоре с Колей… Коля… Вот направление… Я решил не заниматься всем комплексом отношений, тем более пауза уж чересчур затягивалась.
Маша, глянув на меня с неприязнью, сразу же вышла. (Машу я как будто пока «подсчитал» и понял. На время Машу следует только учитывать как фактор отрицательный, но не более того.) На меня смотрели журналист и Рита Михайловна, да и сам я понимал двусмысленность своего положения. Ворвался я сюда насильно, вместе со Щусевым и в качестве вымогателя. Правда, после того произошел целый комплекс разнообразных действий, но каков итог после общего сложения и вычитания, я не осознавал. Впрочем, эти люди и сами не подвели, очевидно, итога, потому и смотрели на меня молча. «Коля, – подумал я опять, – ввести в дело Колю».
– А что с Колей? – спросил я. – Как он себя чувствует?
Фраза на первый взгляд обыденная и банальная, но в моем положении «на острие бритвы» я считаю, что прозрение помогло мне ее найти. Недаром этой фразе предшествовала напряженная умственная работа. Я с волнением ждал продолжения. Чем ответят? Не укажут ли попросту на дверь?
– Коля серьезно болен, – ответила мне Рита Михайловна. Я облегченно вздохнул. Нет, так не отвечают, когда хотят рубить сплеча, то есть попросту выгнать. Конечно, даже до элементарного доверия еще далеко, но тем не менее намечалось если не доверие, то хотя бы разговор. И точно, Рита Михайловна встала и сказала мне:
– Простите, Гоша… Кажется, так?
Подобная фамильярность этой женщины совсем обрадовала меня.
– Да, – ответил я. – Вообще-то меня Григорий зовут, а Гоша – это скорее Георгий… Но вот привык я – Гоша и Гоша…
И данное продолжение было правильно. После всех крайностей, после животных страстей и вздыбленности чувств такая неловкость и путаность выражений с моей стороны, которая явилась сама собой, экспромтом, действовала в мою пользу и успокаивала этих людей.
– Я хотела бы с вами поговорить, – сказала Рита Михайловна. – Мы пойдем ко мне, – обернулась она к мужу. – Позвони все-таки Соловьеву… У тебя болен сын, а твой друг, врач, доцент, светило, ведет себя как непорядочная свинья. (Это было сказано резко и при мне, что меня обрадовало, поскольку невольно вписывало меня в круг внутренних, интимных семейных отношений.)
– Может быть, его срочно вызвали в кремлевку, – сказал журналист.
– Хоть позвонил бы, – сказала Рита Михайловна, – а может, и к лучшему… Мне кажется, я была несправедлива к рядовому врачу… Всякие эти светила… – и она небрежно махнула рукой. – Пойдемте, Гоша…
Мы прошли коридором, потом роскошной комнатой со старинным буфетом во всю стену – очевидно, здесь была столовая – и вошли в небольшую, изящно обставленную комнатушку с кремовыми обоями. Это была супружеская спальня хозяев, но по неким весьма разнообразным и часто даже трудно осознаваемым признакам первое, о чем я подумал, войдя сюда, это то, что журналист давно уже здесь не ночует, а спит в своем кабинете на диване. Ну, во-первых, потому, что Рита Михайловна сказала:
– Я пойду к себе…
Это понятно и на поверхности. Но были и иные, едва заметные на первый взгляд, признаки того, что Рита Михайловна иногда очень тонко и по-светски осторожно изменяет мужу. Да, именно так развивалась моя мысль, пока я оглядывал спальню. На стене висела большая фронтовая фотография молодого журналиста с очень мужским, веселым, ясным лицом сталинского периода, сильно отличающимся от нынешнего помятого интеллектуального лица, явно получающего главные наслаждения не от тела, а от духа и раздумий. Я впервые был наедине с настоящей светской женщиной, и здесь, в полумраке, при опущенных на окнах шторах, она чрезвычайно похожа была на свою дочь, но без той жесткой недоступности, которая разжигает баловней судьбы и пресыщенных, меня же, наоборот, отпугивает. Мысли мои пошли было еще дальше, но я тут же опомнился и остановил себя, поглядев даже с тревогой, не заметила ли чего Рита Михайловна. Но она села на мягкий пуфик как будто бы нейтрально и безразлично к новому направлению во мне. Я сел на такой же пуфик, несколько от Риты Михайловны поодаль, дабы окончательно подавить это направление.
– Расскажите мне о себе, – сказала Рита Михайловна.
Я позволил себе подумать предварительно не более минуты, но мне кажется, что план своего рассказа выработал достаточно точно. Я решил в основу своего рассказа положить правду, лишь умышленно усиливая или ослабляя отдельные моменты и иногда допуская искажения. (В частности, о моем знакомстве со Щусевым.) Говорил я недолго, минут двадцать, и здесь тоже был расчет – не утомить Риту Михайловну, отчего у нее невольно может возникнуть неприятное, а следовательно, подозрительное отношение ко мне. Я рассказал о своей жизни в общежитии, о своем раннем сиротстве, но о борьбе за койко-место говорить не стал, ибо считал, что это меня унизит, а сообщил лишь, что реабилитация дала мне крайне мало, в своих надеждах я разочаровался и тут появился Щусев со своими предложениями и обещаниями. Я поверил и втянулся во все эти дела… Вот примерно в таком духе, достаточно сдержанно, я все изложил.
– Гоша, – сказала мне Рита Михайловна, – ничего, что я вас так называю?
– Пожалуйста, пожалуйста, – сказал я, чувствуя, что рассказ мой удачен и произвел хорошее впечатление.
– Гоша, – повторила Рита Михайловна, – я поняла, что Коля увлечен вами и доверяет вам. Он очень преданный и добрый мальчик, но в силу ряда причин ему нужен мужской авторитет, которому он мог бы верить… Я буду с вами совсем уж откровенна… Подобное происходит оттого, что отец его не занял в достаточной мере этого места… Ах, все это очень сложно, и вам не понять… Тем более отца он любит, да и отец его очень любит… Но обстоятельства, специфика нашей семьи, раннее приобщение Коли к политическим спорам, ко всякого рода книгам и толкованиям… Потом время… Время, крайне неудачное для подобных мальчиков… не удивительно, что он попал под влияние этого Щусева… Тут еще Ятлин какой-то был, но с Ятлиным, слава богу, он теперь не встречается… Я не стану спрашивать подробностей последнего похождения, когда он вернулся весь истерзанный… Вероятно, какая-нибудь уличная драка… (Представляю, подумал я про себя, что бы с ней было, если бы она узнала, что ее Коля участвовал в нападении на бывшего министра иностранных дел Молотова… Ни более ни менее.) Короче, я хотела бы вам предложить погостить у нас, побыть рядом с Колей… Учитывая ваше на него влияние и учитывая, что вы осознали ошибочность и опасность взаимоотношений со Щусевым… Нас Коля не признает… Мы с отцом так устали…
Такое можно было придумать только «по щучьему велению». Разумеется, я согласился, допустив, правда, здесь ошибку в том смысле, что согласился чересчур поспешно и не скрывая радости от подобного оборота. Но и Рита Михайловна была настолько удовлетворена, что не заметила этого моего промаха.
– Сейчас погуляйте, – сказала Рита Михайловна, – вы, надеюсь, не обижаетесь, что я вам предлагаю сейчас уйти… Я не гоню вас, но нам надо тут кое-что решить семейно… А к обеду возвращайтесь. Позвоните три раза, потом еще два…
Таков был разговор, открывший мне дорогу в эту семью. Вернувшись к обеду (не чувствуя усталости, я гулял по бульвару, обдумывая ситуацию), вернувшись, я отметил, что чрезвычайного ничего не произошло и приглашение Риты Михайловны погостить было встречено, как и следовало ожидать, Машей – враждебно, журналистом – с неким странным любопытством (он вообще ко мне приглядывался), а Коля за обедом вовсе отсутствовал. Обед был вкусен, но мучителен, ибо Маша, как я понял, решила именно сейчас дать мне первый бой. Человек тщеславный бывает одновременно весьма стеснителен, ибо дорожит посторонним мнением, и вот это-то Маша поняла. С супом я справился довольно прилично, зачерпывая его осторожно тяжелой ложкой старинного серебра. Правда, дабы с ложки не пропадали ароматные, пряные капли супа, пока я нес ложку от тарелки ко рту, я употребил кусочек хлеба, неся его следом за ложкой снизу и принимая эти капли на хлеб. Но, поймав взгляд, который бросила Маша журналисту, тут же опомнился, кусочек хлеба проглотил и в дальнейшем, зачерпнув суп, подолгу держал ложку над тарелкой, дабы все капли стекли назад. В результате все уже есть закончили, а я все еще хлебал суп и не нашел ничего лучшего, как отодвинуть недоеденную тарелку этого первого в моей жизни богатого супа. На второе Клава подала огромное блюдо дымящегося, сильно наперченного мяса, обложенного жареной картошкой. Каждому следовало взять себе «по аппетиту». После недоеденного супа я остался голоден, а тут, при виде жаркого, у меня и вовсе больно заныл желудок. «Лучше бы разделяли на порции, – подумал я, – а то как тут решить… Вот тот, с прожилками, красавец кусок… Потянуться к нему, пожалуй, неудобно… Для этого надо миновать небольшой сухой кусочек с костью, лежащий на краю блюда и пригоревший… Клава, наверное, и поставила блюдо так, чтобы этот кусок мне достался. Конечно, и он аппетитный, и я такое едал редко. Но ни в какое сравнение, решительно ни в какое не идет он с тем красавцем, даже на вид мягким, пахучим и – точно темный мрамор – разделенным светлыми прожилками…» Так, ошеломленный богатыми мясными кусками, я на какое-то время потерял собранность и забылся. Более того, вокруг этих кусков я и сосредоточил свои душевные силы, и если в прежние времена в подобной ситуации я довольствовался бы пригорелым куском, то сейчас я решился и ткнул вилку в красавца с прожилками, понес его через стол и положил себе в тарелку. И тут же поднял глаза. Оказывается, за мной наблюдали. Маша – с раздраженной усмешкой, журналист – с внимательным, но не могу сказать враждебным любопытством, а Рита Михайловна – с беспокойством. У каждого из них на тарелке лежал маленький аккуратный кусочек мяса, от которого они отрезали еще более маленький кусочек, совершенно игрушечный, посыпали его зеленью и проглатывали. Я взял со стоящей передо мной подставки нож с коротким и тупым лезвием и принялся резать. Я знал, что это опасная для меня операция, ибо раза два уже оконфузился таким образом, причем в домах менее аристократических. То ли я недостаточно прижимал кусок вилкой, то ли слишком резко дергал ножом. «Спокойнее, – сказал я сам себе, – вилку погружаем поглубже, прижимая левой рукой… В правую – нож…»
– Значит, Коле взяли гувернера, – с нервным весельем сказала Маша, весьма умело выбрав момент, чтобы выбить меня из колеи.
– Перестань, Маша, – сказала Рита Михайловна, – Гоша товарищ Коли… Он погостит у нас…
– Зачем вы лицемерите? – сказала Маша, отложив вилку и нож и поглядев на родителей. – После этого вы требуете от меня с Колей, чтоб мы были честными в жизни… Я еще не поняла, правда, вашей нелепой комбинации, но не сомневаюсь: она нелепа… Ну пусть Коля по молодости… Но вы, вы… Связаться с махровыми черносотенцами…
И все это говорилось при мне открыто и даже с вызовом, причем в тот момент, когда я пытался осторожно разрезать кусок мяса, не уронив его с тарелки.
– Маша, – прикрикнул уже журналист, – веди себя тактично!.. Ты сильно изменилась, Маша, – добавил он тише.
– Нет, это ты изменился, – не уменьшая нервного напора, сказала Маша, – а я еще защищала тебя, когда антисталинисты тебя побили в клубе.
– Маша, – крикнула Рита Михайловна, – сейчас же уйди из-за стола!.. Я запрещаю тебе общаться с этим Висовиным… Это он тебя учит подобному…
– Я не оправдываю Христофора, – сказала Маша, – но я его понимаю… Честного человека гонят, а антисемита сажают за обеденный стол… И это русская интеллигенция…
– Маша! – опять крикнула Рита Михайловна и сильно хлопнула ладонью по столу. Звякнула посуда. Сорвалось с вазы и покатилось яблоко. (Клава, поскольку обед затянулся, а она куда-то спешила, успела поставить на стол десерт.)
И в тот же момент, очевидно чисто физиологически испуганный ударом, я упустил кусок мяса, который сорвался с тарелки и шлепнулся в салат. Маша захохотала, но явно с нажимом.
– Уйди из-за стола, тебя ведь мать просит, – тихо сказал журналист, – какая ты жестокая, Маша.
Маша встала и, продолжая так же с нажимом хохотать, ушла.
Я сидел, крепко, до боли стиснув кулаки под столом и впившись ногтями в ладони. Я более не боготворил эту девушку. Я видел ее всю, до малейших деталей, глядя ей вслед, когда она уходила. Прекрасная шея ее, капризный, заносчивый поворот головы, сочные бедра… Я более не любовался ею, а в бешенстве оценивал ее тело. Я не любил ее более, а ненавидел и желал… Насилие – вот моя мечта о ней: грубо схватить и ломать… И бить при этом по щекам… Сердце мое стучало тяжело, и весь я внезапно оказался в злобной истоме.
– Примите наши извинения, – серьезно глядя на меня, сказал журналист.
– И не обращайте внимания, – добавила Рита Михайловна. – Сейчас пообедаем и поедем… Там вы будете одни с Колей…
– Куда поедем? – нашел я возможным спросить, несколько успокоенный извинениями журналиста и упуская из виду, что журналист, находясь в новом созерцательно-циничном качестве, весьма легко раздает извинения, ибо вообще несерьезно относится к ситуациям, возникающим от всевозможных действий, особенно со стороны молодежи и вообще общества протеста.
– Коля ведь на даче, – сказала Рита Михайловна, – со вчерашнего дня… Мы его чуть ли не силой туда перевезли… Представляете, если б он находился в этом скандале. Я нарочно говорила, что он здесь, чтобы сбить со следа… Вот до чего мы дожили в хрущевские времена, – вздохнула она, но тут же вновь приобрела деловой вид, позвала Клаву и попросила ее вызвать из гаража машину. – Твой Соловьев уже вряд ли сегодня появится, – с упреком обернулась она к журналисту, – мы его завтра отвезем… Не станем его дожидаться, поедем… Это невропатолог, – пояснила она мне.
В этот момент раздался звонок – не условный и долгий. Все за столом притихли, и я увидел на лице журналиста и Риты Михайловны искренний испуг. Выглянула и Маша. Эти люди действительно жили как в осаде. Рита Михайловна махнула журналисту, чтоб он шел в одну из комнат, а Клаве сделала условный жест, помахав в разные стороны рукой перед лицом. Клава понимающе кивнула, и слышно было, как она говорила кому-то в передней:
– Нету, нету… Уехали, и все тут… – Потом она вдруг вернулась и сказала мне: – Вас просят… Какой-то мальчишка…
Я растерялся, не зная, как поступить, и невольно поддавшись общей атмосфере страха, возникшей после звонка, но Рита Михайловна жестом показала мне, что надо идти, видно тем самым пытаясь отвести удар от себя… Я встал, пошел и увидел на лестничной площадке перед дверью Сережу Чаколинского. На какое-то время я вдруг совершенно забыл о существовании этих ребят и сейчас, увидев знакомого, даже успокоился.
– Деньги давай, – глянув на меня с честной мальчишеской неприязнью, сказал Сережа, и при этом на щеках у него заиграл пионерский румянец. – Платон Алексеевич велели…
Ах вот оно что. Я полез в карман и достал пачку денег, о которых также вовсе забыл, чего со мной еще не случалось. Я не успел даже протянуть деньги, как Сережа сам вырвал их у меня из рук, сбежал вниз на половину лестничного пролета и, остановившись, уж явно от себя, а не согласно полученного задания, добавил:
– Продал Платона Алексеевича богатым жидам, сволочь!.. Иуда сталинский!.. Стукач! – и, погрозив кулаком, побежал вниз.
Я знал, что Сережа меня всегда недолюбливал, но этот его искренний мальчишеский напор меня привел в растерянность.
– Что там? – встревоженно подошла Рита Михайловна.
– За деньгами приходили, – ответил я.
– Да вы не расстраивайтесь, – сказала Рита Михайловна, – вам с вашими прежними друзьями не по пути… Так же как и Коле… И слава богу, что избавились. А сейчас на дачу поедем. Знаете, какая там местность… Лес сосновый, красота…
И действительно, едва я сел в новенькую серую «Волгу», личную собственность журналиста, как многое забылось и стало легче. А когда мы выехали за город, то стало совсем легко и хорошо. Я сидел рядом с шофером, невысоким плотным парнем. Рита Михайловна с какими-то пакетами, очевидно съестными запасами, примостилась сзади. На коленях она держала коробку с ореховым тортом. Собственная машина, специально оплачиваемый шофер, ореховый торт – все было прочно и богато. На мгновение я прикрыл глаза и подумал: «Так вот уже куда занесла тебя жизнь по избранному тобой пути… Где оно, это койко-место?.. А ведь все так недавно еще было».
Разговор, который завел между тем Виктор (шофер) с Ритой Михайловной, был как нельзя более в соответствии с мыслями.
– А Алексей Иванович на «мерседес» пересел, – сказал Виктор, – гляжу, Петька их мимо меня катит весь в улыбке… «Волгу» свою, говорит, мой продал, а вот «мерседес» через какую-то иностранную комиссию получил… Ничего, говорю, наш скоро «форд» американский достанет…
– Ах, Виктор, – сказала Рита Михайловна, – разве до этого нам теперь?..
– Как Коля? – сразу же поддержал и уловил состояние Виктор.
– Болеет, – сказала Рита Михайловна.
– Хороший он у вас парень, – продолжал Виктор, – умный… Тут один еврейчик у него был дружок, я их раз на дачу вез… Такое он интересное говорил про Сталина и про Россию вообще… А вот наш брат Иван до такого не додумается… Ума не хватит…
– Ты вот что, Виктор, – сказала Рита Михайловна, – ты такие разговоры не веди…
– Да я о чем? – замялся шофер, чувствуя, что он где-то прошиб и не угодил хозяевам: то, что ранее хозяевам было приятно и считалось признаком хорошего тона, теперь их раздражало. – Я только о том, – продолжал Виктор, – что Коля хороших себе ребят в друзья выбирает… Вы приятель его будете?
– Да, – сухо ответил я.
Настроение мое на некоторое время утратило легкость, стало беспокойным, а затем я вновь рассеялся, глядя на несущуюся мимо местность, и постепенно повеселел.
Вокруг начинала уже бушевать золотая подмосковная осень, особенно красивая в этой лесистой, явно привилегированной местности. Не было ни загородной пыли, ни дыма заводов, не слышно было и грохота электричек. В открытое окно автомобиля влетал вкусный запах начинающей увядать листвы и сохнущих трав. Изредка мелькала аккуратная бензоколонка или милицейский пост. Там, где дорога разбегалась двумя рукавами, на одном из отростков висел дорожный знак, воспрещающий проезд, но Виктор явно привычно направил машину именно туда. Проехав метров пятьсот, машина уперлась в шлагбаум. Виктор выглянул и помахал рукой – очевидно, знакомому милиционеру, который вышел из будочки на обочине. Милиционер поднял шлагбаум, и мы въехали в сосновый лес, вдоль которого замелькали богатые дачи. Возле одной из дач Виктор затормозил и, выйдя из машины, прошел в калитку. Залаяла, а потом, узнав, ласково завизжала собака.
– Сначала я пойду к Коле, подготовлю его, а потом – вы, – сказала мне Рита Михайловна.
Виктор распахнул ворота, сел в машину и, проехав по дорожке, остановился у крыльца. И сразу же на шум выбежала пожилая женщина, почти старуха, в переднике.
– Я уже и в город звонила, – торопливо и испуганно затараторила она, – сказали, вы сюда… Ну, думаю, хотя бы быстрей…
– А что случилось? – тоже пугаясь, спросила Рита Михайловна. – Вы толком, Глаша, говорите…
– Да грохочет и грохочет, – сказала Глаша, – и грозится… Говорит, окна выбью… Или дачу подожгу, если не выпустят… А у него ведь спички… И матом ругается… Меня обругал, – пожаловалась Глаша, – а я ведь, как вы велели…
– Ах, тише… – сразу заторопилась, побледнев, Рита Михайловна. – Что же вы раньше не позвонили?.. Вы же сказали «все хорошо», когда я звонила. – И, говоря это, Рита Михайловна торопливо вошла на крыльцо, оттуда прошла по комнатам и вверх по винтовой лестнице. Сверху действительно доносились стук и крики.
– Было хорошо с утра, – говорила, семеня следом, Глаша, – а потом началось…
– Ах, помолчите! – прикрикнула на нее Рита Михайловна.
– Вот дает, – тихо усмехнулся Виктор, очевидно исподтишка мстя Рите Михайловне за замечание в дороге. – С жиру бесятся… – Он явно хотел найти во мне союзника, но я отвернулся. «Скользкий тип, – решил я про себя. – Надо быть с ним осторожней».
Мы с Виктором стояли в одной из комнат, так же как и городская квартира, уставленной старинной мебелью. В раскрытые окна терпко пахло сухими листьями, хвоей и песком – пока еще непривычными для меня дачными запахами… Виктор явно подошел поближе к лестнице, чтобы различать, о чем кричит Коля. Я тоже прислушался.
– Сволочи! – кричал Коля. – Сталинские прихлебаи! Разбогатели на народном страдании!.. Я тебя не признаю матерью, сука!.. И отца не признаю!.. – После этого послышался грохот, что-то разбилось.
– Вот дает, – попросту светился от удовольствия Виктор, но, услышав шаги Риты Михайловны, он торопливо сделал лицо свое скорбным и серьезным.
– Идите к нему, прошу вас, – сказала Рита Михайловна мне дрожащим голосом, – может, вы его успокоите… А вы идите, Виктор, к машине! – прикрикнула она на шофера, видно уловив в нем злорадство. – Вообще поменьше здесь вертитесь…
– Я здесь не верчусь, – огрызнулся вдруг Виктор (значит, и он строптив и развращен в либеральном семействе). – Если на то пошло, я расчет возьму… Много лет лакеев нет… Советские помещики какие нашлись! – И он торопливо хлопнул дверью.
Не знаю, во что вылилась бы подобная сцена в иной обстановке, но сейчас Рите Михайловне было не до этого.
– Прошу вас, – снова сказала она мне, – успокойте Колю… Наверх поднимитесь… По лесенке, по лесенке.
Я не видел все до конца, но уже ощущал, какие богатые возможности открывает передо мной данная ситуация. И я еще раз мысленно поблагодарил сам себя за то, что пошел на разрыв со Щусевым и сделал ставку на эту семью… Я поднялся по лесенке и остановился перед дверью, в которую все время колотили, очевидно то ли ногами, то ли стулом, ибо звук время от времени менялся.
– Коля, – сказал я, – это Гоша говорит, Цвибышев.
На мгновение в комнате наступила тишина, а потом Коля другим, явно радостным голосом крикнул:
– Гоша, ты нашел меня!.. И Платон Алексеевич здесь?
– Нет, – сказал я. – Нам надо поговорить.
– Пусть меня отопрут, – крикнул Коля, – они заперли меня!.. Мерзавцы!..
– Дайте ключ, – громко и властно сказал я.
Я понял, что если упущу подобную ситуацию и не выжму из нее максимум возможного, то следует ставить на себе крест. Это опять же ситуация из той серии, которую создает для избранников судьбы само Провидение.
Рита Михайловна торопливо выдернула ключ из рук Глаши и протянула его мне. Причем не я спустился за ключом, а она подала его мне, поднявшись по лесенке. Я отпер дверь, и Коля бросился мне на шею. Он действительно ужасно выглядел: был бледен, всклокочен, с запекшимися губами.
– Они заперли меня, – повторял он, – сперва дома, а потом перевезли сюда… Как арестанта или душевнобольного… я никогда, никогда им этого не прощу… Слышишь, ты, сука!.. – крикнул он в пролет лестницы. – Я не желаю вас знать!.. Тебя и того сталинского стукача!.. Я не признаю его отцом!..
Я слышал, как внизу заплакала Рита Михайловна.
– Не надо так, Коля, – сказал я, – успокойся…
– Кто мне теперь поверит, что я не стукач, – говорил Коля, – бросил друзей… Они мне укол сделали, и я заснул… Они подло, подло меня сюда перевезли и заперли… Что подумают ребята, что подумает Щусев?..
– Об этом потом, – сказал я. – Сейчас успокойся… Никто о тебе дурно не думает.
– Правда?! – радостно вскрикнул Коля. – А мне так было ужасно… Я проснулся здесь и все понял… Какое это ужасное чувство предателя…
– Ты не предатель, Коля, – сказал я, – ты по-настоящему честный человек… Только не надо так ругать родителей.
– Я их не признаю, – снова начал возбуждаться Коля, – я сам виноват… Мне давно надо было уйти, но я не мог расстаться с этим подлым уютом… В общежитие, в рабочее общежитие уйти…
– Пригласите его погулять, – осторожно и робко подсказала снизу Рита Михайловна, – если он даст слово, что не убежит.
– Молчи, – снова крикнул Коля, – домашняя наушница!.. Домашнее КГБ!..
– Действительно, пойдем погуляем, – сказал я. – Ты бледен и дурно выглядишь… А бежать он никуда не собирается, – сказал я якобы сердито Рите Михайловне, мол, оскорбляющей Колю такими подозрениями.
– Да, это верно, – сказал Коля. – Сейчас мы с тобой пойдем (он говорил мне «ты», но это в порыве, это в высшем доверии, и меня подобное не коробило). Нам поговорить надо, я очень с тобой поговорить хочу.
Он спустился вниз и прошел вслед за мной, по-моему умышленно толкнув мать плечом так сильно, что она едва удержалась за перила.
– Ты его, Коля, к озеру поведи, – невзирая на грубости сына и в беспокойстве за него, как-то униженно сказала Рита Михайловна.
– Тебя не спрашивают, – оборвал ее Коля и вышел на крыльцо.
– Идите за ним, – шепнула мне Рита Михайловна, – ни на шаг не отставайте, прошу вас…
– Все будет хорошо, – сказал я, несколько даже покровительственно.
– Как я вам благодарна, – сказала Рита Михайловна, – вас попросту сам Бог послал.
Глава двенадцатая