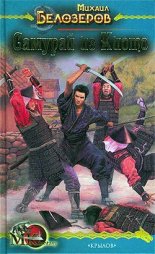Место Горенштейн Фридрих

– Сколько ждать? – спросил я.
– Десять лет, – ответил журналист, – или двадцать, или всю жизнь, до самой смерти… Терпение – основа жизни… Всякая господствующая идеология, даже если она ранее терпение отрицает, потом, с приходом зрелости и опыта, берет его на вооружение… Конечно, называя другими словами, часто по форме противоположными… За тысячу лет своего существования Россия имела семь месяцев демократии, с февраля по октябрь семнадцатого года, и эта демократия едва не погубила ее государственность… А в России, как в стране все-таки молодой, твердая государственность есть первооснова и ничем заменена быть не может в национальной жизни… Всякая подмена приводит к слабости… Вспомним хотя бы новгородское вече…
– К чему же вы все-таки призываете? – очевидно пытаясь взять у меня реванш в борьбе за Машу, вставил Иванов.
– К безвременью, – ответил журналист. – Россия нуждается по крайней мере в двух-трех веках безвременья… Отсутствие резких порывов и движений. Все силы страны должны быть сосредоточены на внутреннем созревании. Пусть на этот период восторжествует тихий, мирный, влачащий свою лямку обыватель. Этого не следует пугаться. Это будет лишь фасад. За фасадом этим будут происходить интереснейшие процессы.
– Какие процессы? – уж совсем неуважительно выкрикнули из-публики. – Вы говорите загадками…
– России необходимы три века стабильности и покоя, – сказал журналист, – три века скуки, и вы не можете даже себе вообразить, какой страной мы станем… Три века советской власти, которая, как бы там ни было, наиболее соответствует национальным особенностям и интересам страны, и поверьте, свое трехсотлетие советская власть будет праздновать в совершенно ином облике… – Журналист замолк, шелестя тезисами.
На какое-то мгновение воцарилась тишина.
– У меня вопрос, – поднялся кто-то в задних рядах. – Я слышал, что вы были лично знакомы со Сталиным. Хотелось бы послушать ваши впечатления.
– Ну что же, – сказал журналист. – Во-первых, лично я никогда с Иосифом Виссарионовичем знаком не был, но мне приходилось общаться с ним через определенные инстанции. – Это «Иосифом Виссарионовичем», то есть наименование Сталина по имени-отчеству, было употреблено журналистом явно опрометчиво и, безусловно, насторожило публику, в большинстве, конечно же, настроенную оппозиционно к прошлому и возбужденную хрущевскими разоблачениями. Очевидно, это ощутил и сам журналист, ибо более он так не выражался. – Сталин, конечно, хотел быть просвещенным самодержцем, покровителем обиженных, покровителем искусства и науки… Но он видел, что в этом, особенно в последние годы, он все более расходится с силой, на которую опирался… Война принесла много бед и разрушений стране, но, помимо всего прочего, издержками всякой победоносной войны является народный шовинизм, без которого не выиграть ни одной большой войны, но который по победоносному окончанию ее требует награды… В тысяча девятьсот четырнадцатом году с этой силой справиться было проще, чем в тысяча девятьсот сорок пятом. Мне кажется, что Сталин и сам боялся этой силы и потому толкал от себя тех, кому он ранее покровительствовал и кто хотел укрыться в святой и великой сталинской тени… Это к началу пятидесятых годов стало особенно очевидно. Он толкал от себя интеллигентное общество, чтоб не позволить этой силе покусать и себя, ибо при всей его власти он был исполнителем воли русских националистических масс… Масс, которые выделяли из своей среды также и жертвы, лишь бы властвовать, подобно тому как в семье экономят на чем-либо и жертвуют чем-либо, чтоб приобрести какую-нибудь ценную вещь… Это я для наглядности… Чтоб жертвами своими купить империю…
– Братцы, – поднялся вдруг некто в публике, судя по внешнему виду явно пострадавший и реабилитированный, – братцы, да я сам из деревни, из народа… Сколько у нас жертв!.. В одной нашей деревне сколько жертв! Сколько мы вынесли, мучений сколько, раскулачивание, а этот пытается всю вину свалить на простой народ… Да он Сталина хочет реабилитировать… Да знаешь ли ты, – он задохнулся от ненависти, – я на фронте был с шестнадцати лет, трижды ранен… И после плена – на Воркуту… Сорок градусов мороза… Ночью к нарам примерзаешь… У меня искривлен позвоночник… Ах ты, гад!.. – И он, хромая, побежал по проходу к эстраде.
Не уверен, догадалась ли сразу публика, зачем он бежит, но, безусловно, журналист догадался. Он хоть и сильно побледнел, но оставался неподвижен и с привычной даже, той самой найденной после третьей пощечины, не лишенной цинизма улыбкой ждал реабилитированного инвалида, словно завершал некую заранее намеченную программу. Инвалид этот, невзирая на увечье, вкосую и ловко как-то вскочил на эстраду, размахнулся и ударил журналиста по щеке. Лишь после этого инвалида войны и сталинских репрессий сумел схватить за руки окончательно подавленный и оглушенный председательствующий.
– Ну, вот и все, – сказал журналист, тоже, кстати, достаточно цинично, словно подытоживая заранее намеченную программу. Но после этого лицо его обрело вдруг новое выражение, и, глядя куда-то поверх голов, подняв палец кверху, он произнес: – Современная черносотенная идея – это нечто среднее между крайней советской идеей и крайней антисоветской идеей… – Сказав это, он мягко сел на пол, словно бы отдохнуть.
В публике началось быстрое движение и хаос. Явилась наконец милиция, очевидно вызванная кем-то по просьбе председательствующего еще до выступления журналиста. Милиция задержала ударившего инвалида, который, несмотря на деревенскую внешность, оказался студентом-переростком первого курса, а также задержала почему-то мирно полемизировавшего Иванова. Несмотря на двусмысленность своего положения, едва отец получил очередную публичную пощечину, Маша и Коля бросились к нему, в первое мгновение повинуясь порыву родственного чувства, однако уже во второе мгновение Коля тут же, на краю эстрады, с искаженным от страдания лицом, пытался прокричать в спину разбегавшейся публики, что он ненавидит своего отца-сталиниста и отрекается от него. Во время этих слов Коли отец сел на пол, и случившееся заставило Колю оборвать свое отречение на полуслове. Коля даже подумал (он потом мне это говорил), что это его отречение доконало отца. Но здесь он, пожалуй, не прав. Мне кажется, цинично улыбаясь в ожидании пощечины, журналист уже был не в полном сознании, а может, и ранее того, ибо отдельные куски его выступления были не совсем последовательны и путаны, но не от умственного все-таки помешательства, и это важно, а от слабости и предынфарктного состояния.
Надо сказать, что единственной, кто в этой ситуации сохранял присутствие духа, была Маша. Коля, начавший было свою обличительную речь против отца и тут же оборвавший ее, был подавлен до крайности его страшным, неузнаваемым, чужим видом, так что он попросту плакал, опустившись перед лежавшим отцом на колени. Меня же, помимо чисто физического страха, охватило еще и чувство брезгливости. Действительно, мне приходилось несколько раз сталкиваться с припадками. (Напоминаю: и Щусев, и Висовин, и реабилитированный Бительмахер, в компании которого я познакомился со Щусевым, были склонны к припадкам. Но там припадки были активно злобны, здесь же и припадок был вялым, либеральным.)
Первым делом Маша быстро вынула из сумочки кружевной благоухающий платочек и вытерла этим платочком отцу губы и подбородок.
– «Скорую помощь», – повторял председательствующий. – Надо немедленно… Я сейчас…
– Не надо, – сказала Маша, – у нас машина. Гоша, вы сходите предупредите Виктора, пусть подгонит машину во двор, к черному ходу, чтоб через толпу не нести.
Я с радостью побежал и, более того, делая вид, что объясняю Виктору подробно, подольше возле него задержался, чтоб не нести журналиста, который вызывал во мне брезгливость. И действительно, пока я ходил, журналиста вынесли Маша, председательствующий, Коля и один из милиционеров. (Второй увел Иванова и Еркина, того инвалида, который ударил журналиста.)
Журналиста положили на заднее сиденье, и Маша приняла его голову к себе на колени. Коля сел рядом с шофером, мне же места не оказалось.
– Вы лучше всего на дачу езжайте, – сказала мне Маша, – на квартире сейчас будет тесно и шумно… Мы маму сейчас сюда вызовем, но там Глаша… На электричке езжайте, а потом автобус… Кстати, если вас будут спрашивать, если мама потом спросит, как все было… – Она задумалась. – Да вообще-то, чего врать? – Маша махнула рукой, и они уехали.
Глава пятнадцатая
На даче журналиста я прожил в одиночестве три дня. Вел я себя весьма дипломатично и на все вопросы Глаши, действовавшей, возможно, по заданию Риты Михайловны, отвечал хоть и вежливо (жил я здесь по распоряжению хозяев, но качество-то питания ведь зависело в данной ситуации от Глаши, которая в отсутствие хозяев верховодила на даче), итак, отвечал я хоть вежливо, но однозначно.
– Дурно сделалось. Сердце, наверное от духоты, скорей всего…
– Ох ты, – вздыхала Глаша, – духота, духота… Дети – вот она духота… Дети годы сокращают… Да и то правда, что сами же они и подучили их всякому такому… Уже лет пять, а может и поменьше, начали к нам наезжать… Полный дом… Та-та-та, та-та-та… И одни явреи… А яврей, он всегда русской властью недоволен, оно и понятно… А ты-то чего, русский человек?.. И детей подучил тому же…
Разговоры с Глашей носили резкий и смелый относительно хозяина характер. Я думаю, сама по себе она б на то не решилась, если бы не заручилась поддержкой хозяйки, Риты Михайловны. Я в таких разговорах старался отмалчиваться или неопределенно мычал и кивал головой. Так, повторяю, прошло три дня, весьма, кстати, приятных, за исключением этих опасных для меня монологов Глаши.
На третий день к вечеру на дачу приехал Коля. Вид у него был угрюмый и замкнутый.
– Ну, что отец? – спросил я.
– Поправился, – сказал Коля. – Мать его собирается в Чехословакию везти на воды. А потом в Италию. Пусть едут… А я, Гоша, из дому уйду…
– Как? – с искренним испугом спросил я, ибо это было мне весьма невыгодно.
– А так, – ответил Коля, – совсем уйду. Давно надо было… Да мать меня и выгнала, собственно.
– Ну, Коля, – сказал я. – Это она погорячилась, это бывает. Уверен, сейчас она жалеет о случившемся.
– Нет, – сказал Коля. – У нас с родителями был серьезный разговор… Без криков… У меня и Маши… Их не устраивает наша жизнь, а нас не устраивает их жизнь… Достаточно уже истории с Висовиным… Ведь это из-за отца Висовин попал в концлагерь. Маша мне все рассказала. Фактически отец написал на него донос, пусть и в виде газетной статьи…
– Прости меня, Коля, – сказал я, – но это было не так…
– Нет, так, Гоша, так… В тот момент, когда с отцом случился приступ, это было ужасно, и мне его было искренне жаль… Но вспомни, что он говорил… Ведь он проповедовал сталинизм… И это в наше время, после всех разоблачений… Гоша, мой отец – враг нашему делу, тому делу, которому и я, и ты, и Щусев, и даже Маша пусть ошибочно и в другом плане, но отдают себя целиком.
– Какому же это делу? – спросил я вдруг, хоть этого и не следовало делать, тем более учитывая историю с доносом на Щусева, который я обманом заставил подписать Колю.
И действительно, Коля тут же посмотрел на меня с излишним вниманием.
– То есть как какому? – спросил он.
– Ну да, какому? – продолжал я вопреки разуму и логике опасную игру, может быть, потому, что мне захотелось самому в тот момент до конца выяснить, какому делу мы служим.
– Делу свободной и счастливой России, – ответил Коля.
– От чего свободной и как счастливой? – спросил я. – Пока мы не свободны и не счастливы, мы и есть Россия… А как станем свободны и счастливы, то тут же исчезнем, перестанем быть, чем мы есть, а превратимся в какую-нибудь многомиллионную Голландию… В чем же тогда состоит идея русского мессианства?
– Интересно, – снова внимательно посмотрел на меня Коля, – откуда ты этих мыслей набрался? Это, Гоша, не твои мысли, признайся… Это моего отца мысли… Ты поменьше его слушай… Он ведь человек литературного мышления. Ему важно, как мысль складывается, а не то, что в ней заключено.
Я согласился, и опасный разговор на том и был исчерпан.
Но, как говорится, все еще только начиналось, и последствия диспута, столь несвоевременно организованного Русским национальным обществом по борьбе с антисемитизмом имени профессора Троицкого, начинали проявлять себя во всех направлениях. К вечеру того дня, когда приехал Коля, на дачу явился сам журналист с Ритой Михайловной и каким-то широкоплечим, незнакомым мне человеком. Уж по тому, как Коля прошел мимо родителей, словно их не существовало, я понял, что в семье началась настоящая «гражданская война» не на жизнь, а на смерть, причем без скидок на возраст и положение. Заявление Коли о том, что отец поправился, не совсем соответствовало действительности, ибо журналист мог передвигаться, лишь опираясь на плечо Риты Михайловны, при этом он слегка волочил по земле левую ногу.
– Гоша, – не обратив внимания на Колю, сказала мне ласково Рита Михайловна, – зайдите к нам через полчасика… В кабинет.
– Хорошо, – вежливо ответил я.
– Чего они от тебя хотят? – сердито сказал Коля, когда мы остались наедине.
– Не знаю, – ответил я, – наверное, будут просить повлиять на тебя.
– А ты не ходи, – сказал Коля с юношеской заносчивостью, – хоть они мне, к сожалению, родители, но я их знаю.
– Надо пойти, – сказал я Коле, – в интересах организации так надо… На днях я виделся со Щусевым.
– Ну, что Платон Алексеевич? – крикнул Коля.
– Есть определенные соображения, – ответил я. – Сейчас еще рано о них говорить.
Ложь моя на этот раз прозвучала весьма вяло и печально, но Коля был так возбужден известием о встрече со Щусевым, что этого не заметил. Вообще было чудом, что Коля до сих пор не сообразил посетить Щусева, который, пожалуй, все еще был в Москве. Впрочем, Коля мне искренне доверял и поэтому соглашался, что в целях конспирации и в связи с изменившимися условиями общение со Щусевым он должен поддерживать только через меня.
– Что ж, – сказал Коля, – иди, только будь осторожен. Мой отец ведь опытный провокатор, я в этом убедился. – Что Коля имеет в виду, не знаю, но после этих слов он как-то озлобился и побледнел, словно вспомнил о чем-то. – А этот в сером костюме, Роман Иванович, – продолжал Коля, – подполковник КГБ, или полковник, не знаю точно, но из КГБ… Он у нас уже бывал. Мать говорит, что это военный журналист, фронтовой друг отца, но я-то знаю, в семье не скроешь… Так что будь осторожен, как бы они о Платоне Алексеевиче не начали прощупывать… Ты Платона Алексеевича предупреди…
– Он уже предупрежден, – сказал я.
– А насчет нашего этого, – Коля скривился, – нашего доноса… Ты уже отправил?..
– Нет, – ответил я, – отправлю, когда потребуется и по согласованию со Щусевым.
– Ну хорошо, – сказал Коля, – я жду тебя у озера. – И он пошел по тропинке в лес.
Я посмотрел с завистью ему вслед, на его беззаботную принципиальность и независимость, и, вздохнув, пошел к дому.
Я подошел к кабинету журналиста, но дверь там была заперта, и было тихо. Очевидно, явился я значительно ранее нужного времени либо Колины родители и гость слишком долго засиделись за чаем, ибо голоса их раздавались с застекленной террасы.
– Ах, Роман Иванович, – говорила Рита Михайловна, – как я его просила… Ведь своими действиями ты влияешь на судьбу детей. Никакой ответственности перед семьей.
– Ну, глупость получилась, Рита, – сказал журналист, – что теперь вспоминать… Но я уверен, что там находился кто-то из лакировщиков, который совершенно исказил мое выступление…
– Твое выступление было застенографировано абсолютно беспристрастно, – сказал гость, – и подвергнуто в отделе самому объективному разбору… Если ты хочешь, я могу как-нибудь дать тебе его прослушать, когда оно будет обработано в техническом отделе. И вообще, напрасно ты думаешь, что к тебе пристрастно и плохо относятся. В аппарате, конечно, у тебя имеются недруги, но в руководстве не против тебя.
– Ну хорошо, Роман, – перебил журналист, – когда это я заявлял о необходимости не допускать расправы над евреями в неорганизованном порядке? Какая глупость, как я вообще мог призывать к расправе над евреями?.. Ведь это глупость…
– Глупость, – согласился Роман Иванович, – это глупость. Об этом куске я так и заявил. Очевидно, наши товарищи были введены в заблуждение аплодисментами экстремистской группки, которая у нас зарегистрирована как активно националистическая. Но должен тебе заметить, что мысль твоя все-таки была неясна и давала повод к толкованиям. Ну а твое заявление о народном шовинизме… Или твое заявление о современной черной сотне… Или твой весьма скользкий пример с табуретом и висельником…
– В смысле?.. – перебил журналист как-то даже нервно. – В каком смысле этот пример скользкий?
– Не спорь, – резко осадила мужа Рита Михайловна, – твои споры уже завели семью на грань катастрофы, и детей, и тебя самого.
– Нет, подожди, – не унимался журналист, – тут надо разобраться, тут явный сговор и передергивание. Так любое слово мое могут к делу пришить.
– Ну хорошо, – сказал Роман Иванович. – Зная твой характер, я захватил кое-какие выписки, чтобы тебе все стало ясно и чтобы прекратить недоразумение. – Наступила небольшая пауза, – очевидно, Роман Иванович полез в карман, доставая записи. – Четырнадцатого августа прошлого года, – прочел Роман Иванович, – примерно в девять часов вечера в доме художника Шнейдермана у тебя был спор с хозяином о России. Шнейдерман при этом ругал беспорядки, царящие в России. На что ты ответил: «Россия, Лев Абрамович, страна и вам, и Европе непонятная. Беспорядок наш как раз и есть основа непонятной для Запада загадочной русской души. И стоит навести у нас порядок, отменить воровство, расхлябанность и безделье, как Россия погибнет, ибо все это взаимно уравновешивается, как в природе взаимно уравновешиваются и служат основой жизни самые негативные явления, не терпящие вмешательства извне… Внутренняя жизнь России близка к законам природы, а не к законам европейской цивилизации…» Прости меня за длинную цитату, просто я хотел бы, чтобы ты убедился в нашей объективности… Второго февраля этого года в разговоре с доктором Холодковским ты заявил, цитирую: «Маркс и Энгельс написали огромное количество талантливых книг, смысл которых был более понятен их западным классовым врагам, чем полукультурным марксистам…» И наконец, совсем уж недавно, буквально два месяца тому назад, ты заявил в случайной компании, подчеркиваю, в случайной компании: «Евангелие от Коммунистического манифеста отличается тем, что в нем обращаются к каждому индивидуально, в то время как Манифест нельзя воспринимать без массы, причем обезличенной, ибо обращается он не к человеческой личности, а к классу в целом…»
– Позволь, – крикнул журналист, – но Коммунистический манифест и не ставил перед собой задачи духовного воздействия на личность в отдельности, но лишь на личность в обществе. Именно это я и имел в виду…
– Я говорю не о том, что ты имел в виду, – сказал Роман Иванович, – а о том, как ты был понят… А этот диспут, в котором ко всему замешана твоя дочь и эта кучка идиотов из общества имени Троицкого… Твое выступление там выделено теперь в отдельное дело… Но более всего меня заботит дело Коли… У нас, повторяю, имеются работники, которые относятся к тебе весьма дурно еще со старых времен, еще с тех времен, когда они ревновали тебя из-за хорошего отношения к тебе Сталина. Ну так вот, поднятая тобой волна дает им возможность действовать против тебя и особенно против Коли. Ранее я думал, что мне как-то удастся замять, но теперь вряд ли… – Две-три фразы я не расслышал и пропустил и уловил лишь конец какой-то мысли. – …тем более, – говорил Роман Иванович, – что у нас были работники, которые Щусеву доверяли, и сейчас они сделают все, чтобы себя реабилитировать… (опять я не расслышал одну-две фразы). Тот парень, он как? Цвибышев, кажется?
Услышав-свою фамилию, я вздрогнул.
– Там все хорошо, – сказала Рита Михайловна, – он сейчас должен подойти…
Я слышал, как она встала и пошла к дверям. Бежать мне было поздно и небезопасно, ибо, если б подобное мое движение было замечено, меня могли бы заподозрить в каком-то тайном замысле.
– Он здесь, – сказала Рита Михайловна, увидев меня, – подождите, Гоша… С вами хочет поговорить один наш знакомый. (Чисто женская нелогичность. Во-первых, я знал, кто этот человек, а во-вторых, сами же они меня к встрече с ним готовили.)
В приоткрытую на террасу дверь я видел столик, на котором стояла бутылка коньяка, открытая банка паюсной икры и нарезанные лимоны.
– А пусть он сюда, – услышал я голос журналиста, – зачем в кабинет? Здесь мы так хорошо сидим. (По-моему, журналист опорожнил одну-две рюмочки.)
– Нет, – сказал Роман Иванович, – ты здесь побудь, ты отдыхай, а я с ним сейчас должен потолковать.
– Возьми, Роман, ключ, – сразу сообразила Рита Михайловна.
Роман Иванович вышел вместе с Ритой Михайловной. (Журналист остался на террасе.) Роман Иванович коротко кивнул мне, открыл кабинет ключом, пропустил меня, и мы остались наедине.
– Садитесь, – сказал мне Роман Иванович.
Я сел.
– Давайте, – сказал Роман Иванович.
Я не сразу сообразил, о чем речь, но, замявшись секунду-другую, все-таки догадался, полез в карман и протянул донос. Роман Иванович взял и принялся читать. Читал он долго и внимательно.
– Ну что ж, – сказал он, – конечно, немало шероховатостей, но в общем приемлемо… Должен вас предупредить, что вам предстоит поездка.
– Куда? – тревожно спросил я.
– У вас есть связи с группой Щусева? – не отвечая на мой вопрос, неожиданно спросил Роман Иванович.
– Я уже давно не общаюсь.
– А что вам известно об отношениях Щусева с русским националистическим движением за границей? С русской антисоветской эмиграцией?
– Никогда, ничего, – растерянно как-то ответил я, поняв, что подвергаюсь допросу, и волнуясь оттого, что Роман Иванович может меня в чем-то заподозрить и не поверить.
– А Горюн? – спросил Роман Иванович. – Что вам о нем известно? О его взаимоотношениях со Щусевым?
– Мы состояли в одной организации, – ответил я, – но Щусев ненавидел его.
– Почему?
– Горюн был сторонник Троцкого, – ответил я, – а Щусев считал троцкизм еврейским движением, направленным на порабощение России.
– Было бы неплохо, если б вы могли поехать вместе с группой Щусева, – сказал Роман Иванович. По тому, как он перескакивал от темы к теме, я понял, что мои сведения его не интересуют, все это и так ему известно, он просто прощупывает меня. – Щусев вас в чем-нибудь подозревает? – спросил Роман Иванович.
– Раньше он мне доверял, относительно конечно, – ответил я, – но теперь, пожалуй, не доверяет.
– Ну хорошо, – сказал Роман Иванович, – во всяком случае, вы должны явиться к месту назначения одновременно с группой Щусева… Поможете местным товарищам в опознании…
– А Щусев собирается куда-то ехать? – спросил я.
– Да, – ответил Роман Иванович, – тот район сейчас весьма беспокойный… Там было несколько стихийных выступлений экономического характера… Появлялись и антисоветские листовки… Надо бы выявить, кто их распространяет, нет ли здесь связи с группой Щусева…
– Коля тоже поедет? – тревожно спросил я.
– Нет, – ответил Роман Иванович, – достаточно, если вы пройдете там регистрацию… А на докладной подписи вас обоих. Таким образом, у меня будет возможность вас из дела извлечь… В крайнем случае вы будете проходить отдельно, но это уже проще… Вы меня поняли?
– Да, – ответил я.
– Ну, все, – сказал Роман Иванович, встал, и мы вместе вышли из кабинета.
У дверей кабинета нас ждала уже взволнованная Рита Михайловна.
– Роман, – сказала она, – только что приехала Маша, она ищет встречи с тобой… Я ее пока спровадила.
– Подожди, – сказал Роман Иванович, – в чем дело?
– Маша хочет хлопотать за какого-то своего знакомого, за какого-то Иванова.
– Ах, это тот… – сказал Роман Иванович. – Я вряд ли смогу что-либо сделать.
– Да тебе и не надо ничего делать, – крикнула Рита Михайловна, – этого еще не хватало! Сумасбродная девчонка! Ты и так достаточно много делаешь для нашей семьи… Роман, у тебя с Гошей все?
– Да как будто.
– Тогда неплохо, если б ты сейчас уехал.
– Гонишь? – улыбнулся Роман Иванович.
– Мы ведь люди свои, – сказала Рита Михайловна, – эта сумасбродка устроит скандал, возбудит Колю, и бог его знает, что она натворит.
– Да мне, собственно, и пора, – сказал Роман Иванович.
– Ну, чудесно, – сказала Рита Михайловна. – Господи, какой ужас иметь таких детей!.. Ведь к ним буквально липнет всякая антисоветчина…
Я понял, что лишний при этом разговоре, и вышел во двор. «Значит, Маша приехала, – подумал я с радостью, – и я ее увижу… Но куда ее отослали? Наверно, на озеро к Коле». И действительно, углубившись в лес, я увидел брата и сестру, которые торопливо шли к даче.
– Роман Иванович еще здесь? – издали крикнула мне Маша.
– Кажется, уехал, – ответил я.
– Ну вот, – горячился Коля. – Я ведь тебе сказал: они нарочно тебя спровадили, чтоб ты с ним не встретилась. У мамы сталинские методы. (Напоминаю, Коля все дурное именовал сталинским.)
– Сволочи! – сказала Маша. Она была крайне взволнована и бледна. – Значит, ты меня обманула, – крикнула Маша, увидев Риту Михайловну на дачном крыльце.
– Оставь этот тон, – сразу же возбудила себя Рита Михайловна, чтоб чувствовать себя против Маши потверже. (Мне кажется, она ее побаивалась.)
– Где отец? – спросила Маша.
– Не твое дело! – крикнула Рита Михайловна. – Я ведь тебе запретила показываться на даче.
– Где отец? – снова повторила Маша.
– Он болен, – уже потише сказала Рита Михайловна, – но разве тебя это интересует?
– Да ты не слушай эту сталинскую стерву! – грубо крикнул Коля. – Он на террасе. – И вместе с Машей они проскочили внутрь дома.
– Пойдемте, – отирая заблестевшие слезы, шепнула мне Рита Михайловна, – может, вам удастся повлиять на Колю.
Мы поспешили следом. Журналист, как и прежде, сидел в кресле. Разморенный коньячком, он, кажется, задремал и вот теперь был разбужен криком.
– Отец, – говорила Маша, – Сашу Иванова, помнишь, того, кто делал на диспуте доклад, обвиняют в хулиганских действиях… Но ведь это не он тебя ударил, он просто спорил с тобой…
– Ну что ты хочешь, Маша? – вяло, еще не оправившись от сна, спросил журналист.
– Ты должен официально написать, что он не совершил против тебя никакого хулиганства.
– Ты ведь неглупая девушка, Маша, – сказал журналист. – Вспомни тему его доклада, тут ведь все гораздо серьезнее.
– Напишешь или не напишешь? – резко перебила она.
– Ну хорошо, напишу, – испуганно как-то сказал журналист.
– Ничего ты не напишешь, – вмешалась Рита Михайловна. – Еще чего недоставало. И перестань, Маша, тиранить больного отца. Как тебе не стыдно! Ты, Маша, издеваешься над родными тебе людьми ради какого-то чужого типа, замешанного в антисоветских делишках.
– Он мне не чужой, – крикнула Маша, – это мой жених!.. Вы мне чужие!..
Меня обдало жаром. Значит, Маша его любит, значит, снова соперник и снова из пострадавших. Но четких мыслей у меня в тот момент не было, ибо далее все пошло клочками.
– Не желаю вас больше знать! – крикнула Маша.
– Маша, – пытался подняться из кресла журналист, но у него, очевидно от волнения, отнялась больная левая нога, которой он безуспешно скользил по полу. – Маша, я ведь согласен.
– Ничего ты не напишешь! – снова крикнула Рита Михайловна. – Пусть уходит!.. Слишком она разжирела на отцовские денежки!..
– Плевать на ваши иудины деньги! – крикнул Коля. – Отец называется!.. Людей закладывал… Эта дача на чекистские деньги построена… Сталинские сволочи!.. Я с тобой, Маша… Все!.. Навсегда!.. – И, взявшись за руки, оба чрезвычайно в гневе похожие лицом, брат и сестра выбежали из дачной калитки.
– Вы за Колей, – вытаращив от волнения как-то по-рачьи глаза, шепнула мне Рита Михайловна, – не упускайте его, прошу вас…
Я выбежал следом. Брат и сестра торопливо шли по тропке вдоль дачных заборов к автобусу. Я догнал их.
– Ты с нами, Гоша, – сказал Коля, – так я и знал… Здесь не может находиться порядочный человек. Мой отец – платный стукач, я в том убедился. Мне кажется, он что-то замышляет и против Щусева.
Я остановился в волнении:
– Откуда ты это взял?
– У меня предположение… Отец одно время ведь был с ним довольно тесно связан… Деньги посылал… Собственно, благодаря отцу я и познакомился. Но теперь я понял, что отец попросту чекистский шпион. Ты обязательно поставь об этом Щусева в известность.
– Хорошо, – сказал я, пытаясь замять опасный разговор.
Всю дорогу брат и сестра горячо (даже излишне горячо) доказывали друг другу, как хорошо им будет вдвоем и как правильно они сделали, что порвали с подобными родителями.
– Снимем комнату, – говорил Коля, – я буду работать. Я давно хотел идти на завод, жить своим трудом. Вот Гоша все время один, без чужой помощи, живет, и как хорошо. Он знает, чего хочет, у него есть цель…
При этих Колиных словах я посмотрел на него предостерегающе, боясь, что в юношеском запале он разболтает о моей мечте возглавить Россию. Вернее, он об этом давно разболтал, и причем в разных местах: Ятлину, своему бывшему кумиру, и отцу своему, судя по намекам. Но при Маше мне не хотелось его болтовни, ибо от Маши снести насмешки мне было особенно тяжело. К счастью, Коля, находясь после ссоры с родителями в раздробленных чувствах, тут же перескочил на иную тему и начал доказывать, что лучше всего им устроиться у родственницы Марфы Прохоровны. (Той самой, где Коля организовал явку для группы Щусева.) Но Маша запротестовала, и между ними чуть не произошла первая открытая размолвка. Я понял, что, несмотря на взаимную любовь, между братом и сестрой по-прежнему сохраняется политическое противоборство и каждый друг друга хочет обратить в свою веру.
– Напрасно ты, Маша, так о наших, – сказал Коля, – ты видишь лишь отдельные недостатки, но не видишь цель. А ведь она святая и истинно русская.
– Глупышка ты еще, Коля, – ласково, но настойчиво сказала Маша.
На это Коля притих и замкнулся. Исходя из всего я понял, что подобный разговор между ними не первый и, более того, между ними бывали разговоры и пожестче. Таким образом, я понял, что в обществе имени Троицкого, куда мы, безусловно, ехали, Коля будет вести себя по меньшей мере настороженно.
Русское национальное общество по борьбе с антисемитизмом имени профессора Троицкого (очередная компания, подумал я, сколько их уже прошло передо мной за время моей политической активности) помещалось в однокомнатной квартире в одном из новых, отдаленных и пока неблагоустроенных районов Москвы. Дома эти стояли кучкой среди захламленного пустыря. «Жилмассив» – так и называлась трамвайная остановка, от которой пешком было еще километра полтора-два по пыльной, с колдобинами и рытвинами, дороге. «Наверное, в дождь здесь все развозит, – подумал я, – не пройти, не проехать». Мы вошли в один из подъездов, где еще пахло свежей покраской и цементом, поднялись на седьмой этаж пешком (лифт существовал, но стоял на приколе), и Маша позвонила у одной из дверей. (Единственной на лестничной площадке, перед которой не лежало тряпки или резинового коврика, чтобы вытирать ноги.) Открыл нам высокий, костлявый молодой человек крайне нечистоплотного вида, с добрыми голубыми глазами, которые постоянно как бы извинялись и просили о чем-то, глядя на собеседника.
– Анненков Иван Александрович, – торопливо как-то представился он, словно боясь, что мы его заподозрим в невежливости. И при этом улыбнулся, обнажив бескровные десны.
– Это, Ваня, мой брат Николай, – сказала Маша.
– Очень приятно, – сказал Анненков и, несколько изогнувшись в спине, пожал Коле руку.
Вежливость его была искренняя, но, учитывая нашу с Колей настороженность и холодок, она выглядела как подобострастие. И вообще, человек искренне добрый и вежливый на фоне современной замкнутости, иронии и личного достоинства невольно выглядит униженным и чуть ли не лакеем. Подумав так, я почувствовал неловкость, и когда Маша представила меня как своего знакомого, отчего мне стало крайне хорошо, то, чтоб хоть чем-нибудь отплатить за вежливость Анненкова и при этом скрыть неприятное ощущение от холодного, бескровного и костяного рукопожатия хозяина, я сказал:
– Анненков… где-то я слыхал, не припомню…
– Вы, наверное, имеете в виду моего прадеда, – тотчас же откликнулся Анненков, – тоже, кстати, Ивана Александровича. Известный декабрист. Был поручиком кавалергардского полка. За участие в Северном обществе осужден по второму разряду и сослан на каторжные работы в Сибирь…
Причем все это говорилось тут же, в темной прихожей у порога. Я сдержался, но Коля прямо-таки прыснул, не выдержав. Должен, кстати, заметить, что Коля хоть и был в основе своей добрым мальчиком, но, если уж настраивался против своих общественных оппонентов, способен был дерзить вполне откровенно и не без наглости. (Вспомним хотя бы его поведение на уличном диспуте у памятника Маяковскому в первый день нашего знакомства.) Да и кроме того, мне показалось, что Коля, который преклонялся перед декабристами, перед этим «мужественным русским рыцарством», явно ревновал к ним Анненкова, тем более что Анненков якобы был родственником декабриста. В общем, поведение Коли стало сразу же настолько резким (я это предполагал, еще даже не видя Анненкова, а так, по интуиции), так вот, поведение Коли настолько стало обнаженно враждебным и насмешливым, что и кроткий Анненков, по-моему, нечто заметил, ибо повернулся к Коле с удивлением и растерянностью в своих добрых голубых глазах. Маша сердито посмотрела на Колю, не зная, что и предпринять, но тут я нашелся. (У меня после бесчисленных политических противоборств отличная тренировка.)
– У нас с Колей всю дорогу был спор, – вставил я. – Мы загадали желания и решили, что выиграет тот, кто угадает, – откроет дверь мужчина или женщина. Я утверждал, что женщина, а Коля – что мужчина. Вот он выиграл и радуется.
Объяснение было нелепейшее, но в подобной ситуации оно-то и наиболее правдоподобно, ибо не нуждается в логике, а нуждается лишь в добром согласии поверить на слово. Во время моей длинной тирады Анненков перевел взгляд с Коли и смотрел теперь уже с искренним вниманием мне в лицо, все-таки стараясь понять мое путаное и нелепое объяснение. Оттого что оно было путано и Анненков его явно не понимал, он чувствовал себя смущенным, виноватым, и на мгновение после моей тирады наступила неловкая пауза, весьма опасная, ибо я боялся, как бы Коля во время ее не расхохотался. К счастью, обошлось, очевидно, еще и потому, что Маша крепко взяла Колю за локоть.
– Ах, вы о суеверии, – наконец понял что-то Анненков и, оттого что понял, добро улыбнулся, опять показав бескровные десны.
– Именно, – торопливо подхватил я.
– Да, – сказал Анненков, – все мы подвержены… А разве антисемитизм не страшное суеверие нашей несчастной отчизны?.. Да вы проходите, все уже в сборе, – сказал Анненков, как бы вспомнив о цели нашей встречи, – а я насчет чая… Вы в комнату проходите. – И он, повернувшись, ушел на кухню…
– Не смей, слышишь… – только и успела сердито шепнуть Маша Коле.
Удивительно, как быстро распались их добрые отношения, не скованные теперь общей неприязнью к «родителям-сталинистам» (как они выражались).
Мы вошли в комнату, как и естественно было предположить по виду хозяина и по прихожей, бедно обставленную и неопрятную. Мебели было много, очевидно перевезенной из другой, более вместительной комнаты или квартиры, но вся она была старая, шаткая и разнокалиберная. Стояло два платяных шкафа: один с треснутым мутным зеркалом, второй какой-то кособокий, с вывернутыми дверцами. Стояла поблекшего никеля кровать, с которой все четыре шишечки были утеряны, и видна была нарезка, куда они в свое время наворачивались. Стоял тяжелый буфет с цветными стеклами, в свое время, очевидно, весьма красивый, но ныне пыльный, с облупившимся лаком и с запахом порченых продуктов изнутри. В углу укреплена была икона Христа в потемневшем серебряном окладе. За столом, устланным старой, облезшего плюша скатертью с золотистыми кистями, сидели парень и девушка, явно находящиеся в связи между собой, гуляющие друг с другом или попросту муж и жена. Это я определил прежде всего и с первого взгляда, хоть сидели они даже в некотором отдалении друг от друга и без всякого флирта. Просто в их позе по отношению друг к другу был некий покой, который устанавливается, когда мужчина и женщина уже познали друг друга. Я, человек ущемленный и жаждущий, особенно в присутствии Маши, научился подобное распознавать вполне. Девушка была одета с претензией и, возможно, из состоятельной семьи, как и Маша, но несколько постарше Маши и, конечно же, уступающая ей внешне. В парне временами мелькало нечто семитское, при определенном повороте головы что ли, но в общем был он волосом светел, сероглаз, с коротким прямым носом и очень белой кожей, на которой, не только на лице, но и на шее, видны были веснушки. Может, эти веснушки также придавали его лицу временами семитский оттенок, несмотря на остальные атрибуты славянского в нем. Парня звали весьма стандартно – Виталий, девушку же – Лира; очевидно, из семьи музыкантов, подумал я.
Мы с Колей представились и уселись на скрипучие стулья, а Маша пошла на кухню помогать Анненкову. Поскольку, по словам Маши, Русское национальное общество по борьбе с антисемитизмом имени Троицкого состояло пока из пяти членов, все были в сборе, за исключением, разумеется, Иванова, который был арестован.
Глава шестнадцатая
Вскоре, благодаря хлопотам Анненкова и Маши, на столе появился чай, два нарезных батона и пастила вместо сахара, принесенная в сахарнице, причем каждая штучка была поломана пополам, то ли чтоб уместить в сахарнице, то ли ради экономии. За время моей политической жизни, а также благодаря прежнему моему бесправию и материальной убогости я научился по угощению различать и определять характер компании. Например, в одной из первых моих компаний, куда привела меня Цвета еще в провинции и где присутствовал сам богопочитаемый тогда Арский, питание было зажиточным и обильным, что свидетельствовало о связях той компании с официальным укладом жизни, несмотря на оппозиционную смелость речей, поразившую тогда меня, человека начинающего в политике. В московской же компании Ятлина все было наоборот, все разнузданно, все в противоборстве. В бесшабашно нарезанных колбасах и сырах, в мятых руками, наломанных кусках хлеба, в обильно открытых банках разнообразных консервов было уже само по себе нечто молодежное, отвергающее весь уклад прошлой жизни. Здесь же торжествовала скромная, неаппетитная бедность. Батоны были черствы и крошились, чай – явные спитки, а пастилу подали в липкой сахарнице.
– А ветчину, которую ты принесла, – сказал Анненков Лире, – мы решили Саше для передачи сохранить… Если никто не возражает…
– Нет, нет, – сказал Виталий, – и очень хорошо.
– Я, ребята, без денег, – неловко улыбнувшись, сказал Анненков, – вы уж извините, без стипендии…
– Да что ты, Ваня, – сказала Маша, – хорошо хоть тебя вовсе не исключили.
– Меня ведь обвинили, что я секту жидовствующих хочу восстановить… У нас на кафедре Святого Писания, Ветхого Завета, как сместили отца Антона, так тяжело стало, – Анненков вздохнул, – и скучно, и, извините за выражение, подло… Не только профессура, но и слушатели в основном меня ненавидят. Народ у нас подобрался все не духовный, злой и безграмотный… Каждый угодить старается, чтоб богатый приход получить… Тема моя курсовая была «Древнерусская проповедь в домонгольский период»… Так меня обвинили, что я там из Талмуда цитату использовал…
– Так вы студент Духовной академии? – спросил Коля.
– Да, – повернувшись к нему и улыбнувшись зачем-то, сказал Анненков.
Оттого что каждому, кто к нему обращался, Анненков отвечал с улыбкой, она казалась угодливой, хоть в действительности не была таковой, а выглядела так лишь рядом с лицами людей, озабоченных соблюдением своего достоинства. Но тем не менее это раздражало. Причем раздражало до того, что Коля, который как пришел, так и пребывал в озлоблении (а возможно, и в тоске, ибо, как добрый в основе своей мальчик, он уже начал мучиться раскаянием относительно его грубости родителям и одновременно неприязнью к себе за отсутствие принципиальности), так вот, пребывая в этаком состоянии, Коля и вовсе забылся, раздраженный улыбкой «этого попика», как Коля его про себя окрестил и даже шепотом со мной поделился своей кличкой.
– Так я не пойму, – сказал Коля, – вы еврейскую религию исповедуете или русскую?.. Вы меня извините, я впервые разговариваю с попом и потому путаюсь… Или вы раввин?
А в этом мальчике значительно больше яда, чем можно было предположить, отметил я про себя.
– Во-первых, Ваня еще не священник, а слушатель Духовной академии, – вмешалась Маша, сердито глядя на Колю, – а во-вторых, ты неплохих пакостей набрался от черносотенца Щусева.
Я вздрогнул, и сердце мое тревожно заколотилось. Маша совершила грубейшую ошибку, вытащив сейчас эту фамилию на поверхность, да еще публично и в таком непочтительном тоне… Но и я виноват. Надо было хотя бы в общих чертах объяснить ей ситуацию, конечно не в подлиннике, но как-либо ухитриться и объяснить, что Коля пока еще под влиянием Щусева и все должно проводиться постепенно. Поистине Маша сильно изменилась, даже за тот короткий промежуток, что я ее знал. В ней появилась запальчивость, сопровождающая какой-то духовный перелом или сильное разочарование. В практических же ее шагах наблюдалась явная непоследовательность. Так, стремясь вырвать Колю из-под влияния родителей-«сталинистов» и как будто добившись этого, она тем не менее вела себя запальчиво и рубила сплеча.
– Щусев русский патриот! – вскочил со своего места Коля. – Он был в концлагере двадцать лет! Его пытали сталинские палачи, ему легкие отбили!.. А вы чем занимаетесь?
– Позвольте, – сказал Виталий, – Щусев – это главарь хулиганствующей черносотенной банды, зарегистрированной у нас в списках… Вы спрашиваете, чем мы занимаемся? Мы стремимся в меру наших сил посеять в простых русских людях, в их сердцах, в их обманутых сердцах понимание трагической судьбы еврейского народа… Потоков крови… Оправдаться… За погромы и преследования…
– А кто оправдается за реки русской крови… – крикнул Коля, – крепостное право и так далее?.. Русский народ сам замучен и страдает…
– Так почему ж ты порвал со своим отцом? – уж окончательно теряя самообладание, крикнула Маша.
– Я порвал с ним за то, что он сталинский стукач и иуда, а не за то, что он русский патриот, – крикнул Коля, – вот так… Да он и не русский патриот… Ты, Машка, ошиблась… И если ты его за это ненавидишь, за русский патриотизм, то ошиблась…
– Вы антисемит? – спросила Лира, поглядев на Колю свысока, но тон и форма ее вопроса вышли глупыми настолько, что Коля расхохотался, правда первоначально искренне, а потом (хохотал он долго) уж явно с некоторой натяжкой.
– А идите вы все к черту! – сказал Коля. – Гоша, пойдем отсюда, они нам еще обрезание сделают.
Такого я от Коли не ожидал, и вообще я его слышал впервые в этом ракурсе. Несмотря на общение со Щусевым, я не помню, чтоб тот при Коле что-либо говорил впрямую на подобные темы (мне даже казалось, что Щусев опасается), а неприязнь Коли к пионеру Сереже Чаколинскому, который по всякому поводу употреблял антиеврейские выкрики, создавала у меня впечатление, что Коля его не любит также и по этой причине. Должен, однако, ради справедливости заметить, что Коля, конечно же, пребывал в некоем юношеском противоборстве не столько с просемитской идеей, сколько с людьми, эту идею проповедующими, людьми, которые ему чисто физически не нравились. Ему неприятно было также, что сестра его Маша хочет увлечь его своей просемитской идеей и совершенно игнорирует личные Колины воззрения, точно он еще сопляк и мальчишка.
Брат и сестра стояли теперь друг против друга, снова, как на даче, крайне похожие, но теперь гнев не объединял, а разъединял их.
– Так идешь, Гоша? – снова повторил Коля, но, глянув на меня, тут же заметил: – Хотя ты ведь влюблен в Машку… И черт с тобой, не буду тебе мешать…
Он бросился в переднюю, ткнулся в дверь, подергал ее, наконец справился с замком и выбежал. Я слышал, как шаги его протарахтели по лестнице и как хлопнула внизу дверь парадного. Я испугался, не обратит ли свой гнев Маша и против меня из-за публичных Колиных слов о моей влюбленности, но она эти Колины замечания опустила, словно не расслышала.
– Извините меня, – сказала Маша, – извините, что я привела сюда брата. Он еще с детства сильно искалечен духовно. Тут и я виновата, но особенно родители, отец.
– Да, – сказал Анненков, – это лишь подтверждает необходимость главную работу развернуть среди юношей.
– Согласно современным психологическим исследованиям, – сказал Виталий, – основа духовного фундамента формируется к трем-четырем годам…
– Ты хочешь сказать, что мы должны проповедовать любовь к евреям младенцам? – сказала Маша. Она была явно угнетена духовно, а значит, раздражена, да и к тому ж, как мне показалось, недолюбливала Виталия.
– Представь себе, – вступилась за своего кавалера Лира, – дети подвергаются дурному воздействию именно в семье и именно с младенчества… Я где-то читала, что, когда во время кишиневского погрома тысяча девятьсот третьего года евреям забивали в голову столярные гвозди, ребята совсем младенческих возрастов были со своими родителями и некоторые даже на руках… Совсем рядом с истязаемыми жертвами.