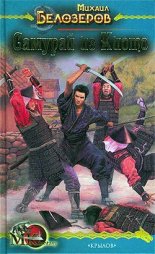Место Горенштейн Фридрих

– Я считал: в первую очередь надо об общественных делах, – сказал докладывающий и холодно посмотрел на секретаря обкома.
Но Мотылин не обращал уже внимания на этот недобрый взгляд. «Алешка, – думал он. – Вот и нет Алешки… Сколько лет я его знал… Двадцать… Ну конечно… Нет, девятнадцать. А ведь с него все у меня началось. Сосед по палате в госпитале, фронтовичок. Это он добился, чтобы меня назначили к нему на завод парторгом… В сорок втором… Ну и поработали же мы тогда…»
– Где он, – сразу охрипшим голосом спросил Мотылин, – в морге?
– Нет, тело его уже перевезено на квартиру, – ответил докладывающий, – кстати, одна небольшая деталь. Может, она и не к месту сейчас, но все же считаю своим долгом сообщить о показаниях захваченных злоумышленников. Они утверждают, что Гаврюшин был не тем человеком, за кого себя выдавал.
– Что? – удивленно поднял голову Мотылин. – Что вы такое говорите?
– Они утверждают, что его фамилия Лейбович. Лейбович Абрам Исаакович. Я думаю, надо послать запрос.
– Оставьте эту вашу чепуху, – так яростно и с такой свирепой горечью крикнул Мотылин, что докладывающий невольно подтянулся и многолетний инстинкт, реагирующий на твердость в голосе вышестоящей инстанции, заставил докладывающего даже принять стойку «смирно». – Нашли достоверный источник, – добавил Мотылин уже тише, – эти бандиты умышленно хотят опорочить свою жертву… Можете идти, – сказал Мотылин совсем уж тихо.
Докладывающий ушел. Мотылин некоторое время посидел, чтобы справиться с волнением и не выглядеть бледным перед секретарем. (У него был мужчина секретарь, как у высших центральных инстанций.) Секретарь его, бывший учитель истории, был тем не менее прирожденным и талантливым исполнителем. Он весьма оперативно доложил, что машина подана, но при этом добавил, что подана она с заднего подъезда. Мотылин спустился небольшим лифтом и вышел на улицу. Наверное, от пережитого волнения ему стало зябко, и он пожалел, что не надел кожаного пальто. У машины помимо шофера было еще двое в прорезиненных синих плащах китайского типа. Мотылин сразу же понял, откуда они, но ничего не сказал. Это был первый случай за время его работы на посту секретаря обкома, когда он ехал с охраной. Обычно он садился рядом с шофером, но один из охраны сказал:
– Садитесь сзади, товарищ секретарь.
И Мотылин подчинился. Рядом с шофером сел охранник, который порекомендовал Мотылину место сзади. А вслед за Мотылиным полез второй, широколицый, похоже нацмен, казах или татарин. Оба, помимо синих плащей, носили одинаковые фетровые шляпы. «Хотя бы головные уборы сменили, – досадливо подумал Мотылин, – одеваются как близнецы».
Город был пустынен. Кое-где попадались выбитые витрины магазинов, мелькали милицейские патрули, а на перекрестках стояли военные газики и бронетранспортеры. Промчалось несколько пожарных машин, видно на нефтеперерабатывающий. «Однако, как далеко зашло, – подумал Мотылин, – не удержаться мне, загремел я. Ладно, уйду на пенсию. А Алешка?.. Ах, Алешка, Алешка… Ему уже пенсия не нужна. Но единственно, что я обязан сделать, пока еще у власти, – это позаботиться о семье Гаврюшина. Подать соответствующие документы по поводу персональной пенсии…»
В большой пятикомнатной (на троих) квартире Гаврюшина остро пахло лекарствами, так что Мотылин первоначально даже подумал: «Сведения о смерти Алешки неверны. Раз лекарства, значит, его лечат». Но, глянув на Любовь Николаевну, понял, что лекарства нужны были не Алешке, а ей. Алешке ничего уж более не надо было.
– Где он? – спросил Мотылин у Нины, дочери, ибо понял, что в данный момент она была здесь старшей, мать же ее, Любовь Николаевна, сидела на диване совершенно отрешенная и без слез. (В то время как Нина плакала.)
– В спальне, – сказала плача Нина и пошла вслед за Мотылиным в спальню.
Гаврюшин всегда был крупным мужчиной, а последнее время он вовсе пополнел и раздался. Однако то, что лежало укрытое медицинской клеенкой на кровати, вообще имело нечеловеческие размеры. Решившись, Мотылин приподнял край клеенки. Гаврюшина он не узнал. Дело не в том, что смерть, особенно насильственная смерть, меняет черты человека. Он это понимал и видел немало мертвецов на фронте, черты которых отличались от внешнего вида этих людей, пока они были живы. Но в данном случае никакого отличия от живого Гаврюшина не было, ибо это попросту не был Гаврюшин. Даже мелькнула мысль: а не подменили ли его? И тут же вторая, еще более нелепая и быстрая: вот, может, откуда слухи о Лейбовиче… Мотылин тут же тряхнул головой, отгоняя эту чепуху, тем более когда первый зрительный шок после жуткого вида человека, замученного насмерть, прошел, Мотылин начал в нем все-таки различать какие-то знакомые черты Гаврюшина. Нос Алексея Ильича был сломан ударом и достаточно неумело вправлен на место, но лоб, хоть весь в синих кровоподтеках, был гаврюшинский. Вообще вся голова Гаврюшина, его шея и лицо налились изнутри, из-под кожи, черно-синим цветом, один глаз, очевидно, вытек и был закрыт марлевым пластырем, второй же покрыт был сплошной багровой опухолью.
Мне случайно удалось ознакомиться, в общих чертах и бегло разумеется, с протоколом следственного осмотра трупа. (В управлении, куда я был привезен, царил беспорядок, вызванный происходящими событиями, и многие бумаги лежали как бы оставленные впопыхах.) Следственный осмотр этот крайне отличался от судебно-медицинского. (Я позднее должен был выступить свидетелем на суде по делу обвиняемых, с которыми ранее встречался.) В частности, в следственном протоколе указывалось, что пострадавший, возможно еще при жизни, подвергался осквернению и губы его измазаны были нечистотами, в судебно-медицинском это было опущено. Форма, размер, расположение пятен крови, направление потоков и брызг были механически перенесены из следственного протокола наружного осмотра в судебно-медицинский, но причина смерти указывалась разная. (На эту-то неувязку и обратил внимание адвокат главного злоумышленника.) У меня сложилось впечатление, что судебно-медицинский осмотр, проведенный в более спокойной обстановке, был направлен к тому, чтоб снять элемент массовости и народности в убийстве директора завода Гаврюшина и приписать это кучке злоумышленников, прибывших ко всему еще со стороны. Так, о причине смерти в судебно-медицинском протоколе указывалось как о целенаправленной и четкой: удар тяжелым предметом в затылок. В то время как в следственном осмотре говорилось, что смерть наступила от множества ударов, скорей всего кулаками, и ни один из этих ударов не носил решающего и акцентирующего характера, а к смерти пострадавшего привело их количество и продолжительность времени избиения…
Но все эти пертурбации и подчистки произошли позднее и, наверно, не без ведома Мотылина. (Алешке-то безразлично, как он был убит, а всякая возможность уменьшить масштабы мятежа полезна, наверно, подумал Мотылин, когда узнал о подчистках.) Но это было, повторяю, уже позднее. Тогда же Мотылин, совершенно подавленный увиденным, не обладал способностью в данный момент не то что соблюдать свой интерес, но даже и не понимал, что именно он должен сейчас делать далее и что сказать жене и дочери покойного. Он вышел из спальни в столовую, где Любовь Николаевна по-прежнему сидела, отвердевшая вся от горя. (Одни люди от горя твердеют, как бы каменеют, другие же, наоборот, расплываются, становятся вялыми и лежат пластом.)
– Игнатий Андреевич, – сказала вдруг Любовь Николаевна совершенно свежим голосом, оттого и пугающим и вступающим в контраст с ее застывшим видом, – Игнатий Андреевич, знаете какую мерзость говорят об Алеше?.. Будто он скрывал свое подлинное имя, фамилию и национальность…
И оттого, что эта окаменевшая от горя женщина, любившая Гаврюшина, и прожившая с ним восемнадцать лет, и родившая ему дочь, нашла возможным сейчас упомянуть о неких фактах, доставленных ей в виде слухов вместе с трупом мужа, заставило Мотылина задуматься в совершенно ином направлении, а именно: он вспомнил о докладывающем и подумал, что, может, это и путь и, как ни странно, отгадка многого, что сейчас происходило. Тем не менее он сказал Любови Николаевне в утешение какие-то мимолетно найденные слова, которые, кстати говоря, совершенно не ответили на ее вопрос, и, торопливо попрощавшись, вышел гораздо более деловой походкой, чем следовало выходить из дома, где лежит покойник, а тем более старый друг и товарищ по совместной работе.
– В КГБ, – сказал он шоферу.
К тому времени я также был уже там, привезенный на армейском газике из городишка по другую сторону реки, куда, собственно, и была у меня командировка.
Но здесь следует вернуться назад от событий, с которыми я позднее ознакомился по рассказам и документам, к событиям, в которых я принимал участие непосредственно. Шофер грузовика, который взял нас с Машей в кабину (разумеется, из мужской симпатии к Маше), спросил нас, когда мы въехали в город:
– Вам куда?
– К вокзалу, – ответил я, рассчитывая оставить там временно Машу, ибо мне надо было явиться в райуправление, чего я в присутствии Маши, разумеется, сделать не мог.
Вообще вся эта поездка Маши со мной казалась мне и дикой, и нелепой, и опасной. Я простить себе не мог, что из-за мужского своего эгоизма (чтобы не сказать мужской похоти) я втравил Машу в это дело и она, наивная и женственная, оказалась здесь, среди дикого российского мятежа, с балетным чемоданчиком, набитым прокламациями, в которых взбунтовавшуюся, лихую, порабощенную долгие годы лесостепную страсть призывали, по сути, к самокастрации, к смирению, демократии и любви… Да плюс еще Маша явилась с желанием отыскать в этом опасном водовороте своего окончательно очумевшего в оппозиционных стремлениях брата Колю. Колю, плюнувшего мне в лицо как «сталинскому провокатору и предателю». Колю, встреча с которым в данной обстановке не сулит мне ничего хорошего. Правда, выезжая, я вряд ли догадывался, что все примет такой оборот. Об этом никто не догадывался, даже и власти с их могучим аппаратом правопорядка, и это единственное, что меня оправдывало.
Пустынная площадь перед вокзалом сама по себе уже производила опасное и напряженное впечатление.
– Попрятались, – сказал шофер. – Ничего, все правильно. Народ терпит, терпит, а потом раз – и в глаз. – Он засмеялся и уехал.
Мы прошли в провинциальный зал ожидания, уставленный жесткими железнодорожными скамьями. Здесь также было пусто, лишь уборщица подметала, макая веник в ведро. Это была не толстая, а как бы оплывшая женщина, почти уже старуха, по крайней мере за шестьдесят, но грубые крестьянские серьги из меди у нее в ушах говорили, что женское в ней еще не совсем погасло, то есть нечто подобное толстухе из вагона. (Кстати говоря, тип этот весьма распространен.) Но если в толстухе это женское жестко, жадно и зло проглядывало, то здесь оно было не требовательно, а тихо и покорно.
– Ой, деточки, откуда ж это вы, – сказала она, увидев нас, сказала дружелюбно и певуче.
Этот ее вопрос, заданный таким приятным тоном, подсказал мне решение, которое в нашей ситуации было попросту находкой.
– Тетенька, – сказал я (я хотел сказать «бабушка», но, сориентировавшись, сказал «тетенька»), – тетенька, нельзя ли, чтоб моя жена (при этом я глянул на Машу, давая ей понять, что так надо), – чтоб жена моя здесь пересидела. У меня в городе дела. Я через час возвращусь.
– Пусть, пусть сидит, – сказала уборщица. – А хочет, я ее к себе приведу. У нас сейчас бандитизм. Ой, откуда он взялся, этот бандитизм? Пойдемте, ребяточки, пойдемте.
Она оставила веник в ведре, вытерла руки о подол передника и вышла на улицу. Мы пошли за ней, чуть поотстав, ибо нам надо было поговорить.
– Ждите моего возвращения, – сказал я Маше. – Надо выяснить, что и как.
– Вот, возьмите, – сухо сказала Маша (она по-прежнему была не мягка со мной), – возьмите и лучше всего наклеивайте там, где увидите какую-нибудь антисемитскую мерзость… Знаете, пишут пакости на стенах и на заборах. – Маша раскрыла на ходу чемоданчик и протянула мне пачку прокламаций, которые я спрятал под пиджак. – А это тюбик с клеем, – сказала она, протягивая мне небольшой тюбик. – Но позвольте, – остановилась она вдруг, – а как же Коля?… Вас он ненавидит, и, наверное, не без оснований, хотя многого не знает. Правильно ли я делаю, что остаюсь здесь, ведь только я могу на него повлиять…
Нет, в Маше все-таки было что-то семейное, что-то нездоровое, что-то от журналиста. Навязчивые сомнения и контрастные желания.
– Вы ведь знаете, – еле сдерживая растущее где-то раздражение, сказал я, – что так, как я предлагаю, правильно…
– Вот в том-то и дело, что вы предлагаете, – перебила Маша, – вы ведь человек себе на уме.
Я понял, что веду себя неверно. Надо идти на попятную и действовать в кругу Машиных привязанностей, не думая о личном самолюбии.
– Вы ведь знаете, Маша, – сказал я, как бы продолжая предыдущую мысль, а в действительности полностью ее видоизменяя, – вы ведь знаете, что появление молоденькой девушки в чужом городе, особенно в такое время, как ныне, привлечет внимание. Это не конспиративно. А если я замечу Колю, то обязательно постараюсь вас известить.
Мое объяснение на сей раз удовлетворило Машу.
– Хорошо, – коротко сказала она, – я жду.
– Этой старухе надо бы заплатить, – сказал я. – Может, она вас покормит.
– Я расплачусь с ней, – ответила Маша поспешно, будто испугавшись, что заплачу я и она будет мне за то обязана.
Жилище старухи (жила она в зеленом дворике неподалеку от станции) вполне удовлетворило меня. Это была обычная обитель одинокой, бедной и постаревшей женщины, где все предметы не снимались и не сдвигались со своих мест уже долгие годы, на стенах висели стандартные и необходимые в таких случаях для полноты впечатления фотографии из незнакомой, прошедшей уже жизни и открытки – также из прошедших времен. Дух кладбища начинает сопровождать стареющую жизнь, особенно одинокую, достаточно рано, и домашние предметы вокруг нее, приобретая неподвижность, несменяемость и постоянство, гораздо раньше подсказывают постороннему свежему взгляду, чем самому человеку, что свою жизнь ныне он должен ощущать как прощание. По всей вероятности, на таком переломе находилась и старуха-уборщица, пригласившая нас к себе. Такие люди всегда живо и с интересом реагируют на страсть. (А между мной и Машей эта страсть была в самом расцвете, не в том смысле, что Маша меня любила, а в том, что между нами существовал напор и борьба.) В зависимости от обстоятельств угасающая женщина всегда может либо злобствовать, либо поступать по-доброму (как в данном случае), но никогда она равнодушно не минует такую предельно выраженную картину взаимоотношений и противоборства мужчины и женщины, какую представляли мы с Машей. Поэтому, как я понял, быстрое приглашение нас, людей незнакомых, к себе было со стороны старухи действием закономерным. Я хотел спросить у старухи, где находится райотдел милиции, но в последний момент опомнился, ибо старуха могла передать мой вопрос Маше, а та бы меня заподозрила. (Выкрикам Коли насчет моего доносительства и службы в КГБ она, пожалуй, не верила, считая, что Коля, честный, но с фантазией мальчик, ненавидит меня из каких-то чисто нравственных соображений, которым он хочет придать, по своему обыкновению, политический смысл.)
Незнакомый городок, куда я вышел, был пустынен, лишь кое-где торопливо мелькали прохожие. Все свидетельствовало о бурных уличных событиях, притихших, но далеко еще не окончившихся. На бульваре (кстати, город был весьма зелен и красив), на бульваре я увидел обрывки бумаги, приклеенные к дереву, – похоже, соскобленная прокламация. И действительно, несколько далее я увидел прикрепленную к другому дереву прокламацию, которую впопыхах, очевидно, пропустил милицейский патруль, либо наклеенную уже после того, как патруль миновал это место. На прокламации изображался, причем весьма похоже, Хрущев, изо рта которого торчал тоже неплохо нарисованный початок кукурузы. Увидав прокламацию, я вспомнил и о своих, общества имени Троицкого. Надо было избавиться от них, но на бульваре этого не сделаешь, и потому я свернул в промежуток между домами. (Все дома казались вымершими, лишь кое-где на мои шаги выглянули и сразу отпрянули от стекла люди.) По счастью, я быстро нашел дворовый туалет и, разорвав прокламации, бросил их туда. Туда бросил я также и тюбик с клеем. Пройдя двором, я наткнулся на разбитый и кое-как прибранный продовольственный магазин. У обочины лежали груды витринного стекла и смешанные с пылью горсти риса (ненавистного риса, которым хотели заменить русскому человеку хлеб и сало). Послышался треск мотоцикла, и показался милицейский патруль. Теперь, когда я избавился от прокламаций, это был лучший способ достигнуть искомой цели. И действительно, едва я шагнул им навстречу, как они схватили меня, крепко и больно держа за руки. Я даже ничего не успел сказать, и они мне ничего не сказали и не потребовали документов. Просто, увидав на пустынной улице молодого нездешнего парня, схватили и повезли. Видно, они здорово были напуганы уличными выступлениями и предупреждены о прибытии подстрекателей извне. Меня ввели в дежурную часть, полную мятым, битым, непротрезвевшим еще и озлобленным народом, главным образом мужчинами, хоть было и две-три женщины, еще более жуткого, чем мужчины, вида, с размытыми пьянством и злобой лицами и обвисшими грудями потомственных пролетарок, измученных нуждой и беспорядком собственной жизни.
– Вот держи еще одного, – сказал милиционер дежурному, из чего я понял, что, кроме меня, задержан еще кое-кто и меня принимают за члена той группы.
Мне стало тревожно, и я пожалел уже, что выбрал такой путь в милицию, особенно учитывая нынешнюю неразбериху.
– Мне надо к начальнику, – сказал я дежурному, но тут несколько прокламаций, каким-то образом завалявшихся в складках одежды и не уничтоженных, упало к моим ногам.
Дежурный цепко схватил прокламации, как охотник добычу, глянул и сказал сержанту:
– В особую… К тем…
Сержант схватил меня и повел вниз, в подвал, применяя насилие, ибо я пытался ему втолковать причину моего появления.
– Поймите, – говорил я, – я направлен, у меня командировка… Освободите руку, я покажу командировку… Мне к начальнику… Я из Москвы…
– Молчи, сволочь, – ответил сержант, – я тебе покажу командировку, – и, ведя меня одной рукой, второй ударил по шее.
– Вы понесете ответственность! – крикнул я, но дверь камеры уже заскрипела, меня втолкнули внутрь и заперли.
И вот тут-то я обмер и словно бы застыл в оцепенении. В противоположном конце камеры стояли и смотрели на меня Щусев, Сережа Чаколинский, Вова Шеховцев, связной Павел и еще какой-то болезненно изнеможенный человек, которого я не знал. Был среди них и Коля, но Коля не стоял в общей группе, а сидел в стороне, совершенно подавленный и в полной депрессии. Именно Коля, которого, собственно, мы с Машей (особенно Маша, а я, чтоб угодить ей) и разыскивали, Коля на мгновение отвлек мое внимание, и это мгновение могло стоить мне жизни, ибо Щусев, Павел и тот бледный явно в таких делах были люди опытные, действовали мгновенно и им не впервой была тюремная лагерная расправа над доносителем. Надо было броситься к дверям сразу же и крикнуть, – может, на того дубину-сержанта мой искренний крик и повлиял бы, но я отвлечен был Колей и упустил момент; когда же сообразил, то рот мой уже плотно зажат был чужой костлявой ладонью, я был поднят в воздух, кто-то цепко схватил мои ноги, умело завернуты были назад мои локти, и в горло мне вцепилась чужая безжалостная сила. Состояние это описать трудно. Помрачение сознания наступает не сразу, и боль чувствуешь почти до конца, причем первоначально она сосредоточена в местах соприкосновения твоего горла с чужими пальцами, и в пальцах этих, сжимающихся неуклонно, не то чтобы ненависть, а безразличие и глухота к тому, что в тебе и с тобой происходит. Потом больно становится главным образом ушам и глазам. Все это, разумеется, длится мгновения, но микроэтапы удушья в этих мгновениях четко разграничены и вполне уловимы. Схваченный ловко и умело, я совершенно не боролся за жизнь, находясь в оцепенении от внезапности, дикости и непредвиденности всего, что произошло. (Хотя предвидеть такой вариант нетрудно было, и я его даже предвидел, но чересчур общо и чересчур не веря в возможность такового, тем более что происходить это будет в милицейской камере, куда меня заперли из-за царящей неразберихи и своей собственной глупости с прокламациями.) Так вот, тот момент, когда я совершенно не боролся за жизнь, может, и спас меня, ибо сопротивление жертвы возбуждает чувства убийц, и я был бы задушен быстрей и энергичней. Мое же оцепенение и моя вялость невольно передались моим убийцам, и они действовали на последнем этапе, то есть непосредственного удушения, менее четко. К тому же все они были пьяны, откуда можно заключить, что схвачены недавно, за какие-нибудь полчаса до меня. Может, кто-то из них скрылся, и патруль не просто объезжал участок, а искал его, и потому, увидав меня, сразу же принял за того, скрывающегося. (Так оно и подтвердилось потом.) Ко всему еще Сережа Чаколинский и Вова Шеховцев пьяно путались вокруг меня и мешали опытным душителям-лагерникам… Вот это промедление дало возможность Коле, сидевшему в оцепенении и с диким видом, вскочить и, визгливо, по-больному закричав, броситься к двери камеры и заколотить в нее кулаками. Колю сразу же схватил сам Щусев, запрокинув ему голову назад, чтоб погасить крик и удары в дверь. Но, во-первых, тем самым он ослабил тех, кто меня душил (Щусев держал меня за ноги, а душил непосредственно Павел), а во-вторых, было уже поздно, и несколько милиционеров, сбежавшихся на крик, оторвали меня от душителей, выволокли нас с Колей в коридор, и единственно, что я заметил краем глаза и запомнил, – это то, как здоровяк-сержант сильно ударил Щусева сапогом в живот. Заметил и запомнил это, кажется, и Коля, хоть он и находился по-прежнему в диком, чуть ли не в бредовом состоянии, ибо после того вдруг вцепился себе в лицо ладонями. (Не закрыл лицо ладонями, а именно вцепился.) Ноги мои меня не слушали, и меня вели под руки. Правда, это быстро прошло: едва отсидевшись и отдышавшись на диване у начальника, я почувствовал себя лучше, хоть у меня сильно болели шея, глаза и уши.
– Что ж вы лезете под руки патрулю? – закричал на меня начальник, когда все обо мне выяснилось и он ознакомился с командировочным удостоверением. – Лезете, когда такое творится. Нянька вам нужна. По-человечески явиться не можете, отвечай потом за вас. Что ж вы дежурному не объяснили? И какие-то прокламации с вами…
– Дежурный не слушал меня, – сказал я, – а о прокламациях я сейчас объясню.
– Ладно, – прервал меня начальник, видно поняв, что и они нахомутали и напутали. – Как себя чувствуете? – спросил он уже мягче. – Может, вызвать дежурного врача?
– Шея немного болит, – сказал я, – а так нормально.
– Значит, Щусев со своей бандой? – спросил начальник. – Ах, сволочь!..
– Да, – ответил я, – это Щусев.
– Напишите поименно опознание… Каждого поименно и все возможные сведения… А это что за мальчишка? – спросил он, указав на скорчившегося в углу дивана бледного Колю.
Единственным осмысленным в его облике была ненависть ко мне. Я сказал, кто это и из какой семьи, причем, говоря, я старался не видеть полного ненависти взгляда Коли.
– Ах да, – сказал начальник, выдвинув ящик и заглядывая в какие-то бумаги, – меня о нем предупредили… Никитенко, – окликнул он сержанта, – мальчишку отведешь в детскую комнату, запри его там… А вы, – повернулся начальник ко мне, – зайдите к уполномоченному КГБ. Второй этаж, пятнадцатый кабинет.
Уполномоченный, молодой капитан, стриженный по моде и с перстнем на пальце, глянул мой паспорт, сверил со своими записями, которые он достал из сейфа, и сказал мне по-дружески, на «ты»:
– Поедешь сейчас в область на опознание. Там двух преступников схватили. Гаврюшин, директор химзавода, убит. Похоже, дело их рук. И толпу провокациями будоражили.
– Но ведь я могу их и не знать, – сказал я, думая о том, что Маша осталась одна с чужой старухой. И о Коле ей надо бы сообщить. – Мне здесь надо работать, по опознанию группы Щусева… Сведения писать…
– Это потерпит, – сказал капитан, – личность тех надо бы побыстрей установить, чтоб за ниточку ухватиться, понимаешь? Не узнаешь – что делать; а вдруг узнаешь? Здорово поможешь. Ну, будь здоров, – и он пожал мне руку. – Газик во дворе стоит, – крикнул он мне вслед.
Во дворе несколько милиционеров осматривали винтовки, видно недавно им выданные. Но газик был не милицейский, а военный, армейский… Солдат с летными голубыми погонами сидел за рулем. (Отсюда можно понять, что властями использовалось все, что было под рукой.) Когда я уселся, подошел второй солдат с автоматом и полез вслед за мной.
– В областное управление? – спросил шофер. (Видно, он делал туда уже не первый рейс.)
– Да, – ответил я, осторожно массируя с каждой минутой все сильнее болевшую шею. (Боль в ушах и глазах, наоборот, почти утихла.)
Мы поехали…
Глава двадцать первая
Если в провинциальном городке все выглядело как после пьяного хулиганского разгула, то есть лихо, расхлябанно и не совсем серьезно, то здесь, в индустриальном центре, все было суше, проще и опаснее. Мелькнуло несколько пожарищ, одно из которых еще дымилось, но, в отличие от веселых, многолюдных, мирных российских пожаров, вокруг была тишина и казенная четкость пожарных роб и военных мундиров. Что творилось в городе, понять было нетрудно даже и человеку свежему. (В крайних революционно-мятежных ситуациях первое впечатление свежего и наблюдательного человека бывает наиболее точно.) На одной из широких улиц с трамвайной колеей посредине (трамваи, конечно, не ходили) мы увидели передвигающуюся бегом большую группу людей, похоже рабочих. (Толпой назвать их было нельзя, ибо они по всем признакам были организованны.) Очевидно, от людей этих исходила серьезная опасность, ибо солдат-шофер, едва заметив их, сразу же вильнул в переулок и погнал в сторону на бешеной скорости. В другом месте мы заметили курсантов училища в касках и с автоматами, идущих вдоль стен домов цепочкой.
Областное управление КГБ было оцеплено патрулями, которые тщательно нас проверили. (При всей, казалось бы, тщательности власти допускали огромное число ошибок и путаницу, о чем уже говорилось и о чем будет сказано и далее. Впрочем, ошибки и путаница неизбежны в российском бунте, который всегда полон творческой импровизации, особенно при отсутствии общего организационного центра.) Меня повели коридором и ввели в небольшую комнату с зарешеченным окном и шторами, так что здесь и днем горел свет. В комнате за столом сидел молодой человек в штатском, видно следователь, а у окна стоял пожилой подполковник. (Он-то и докладывал секретарю обкома Мотылину о бунте и о смерти Гаврюшина.) Посреди комнаты на табуретах сидели двое в наручниках. Один из них был бледен, с горящими злобной страстью голубыми глазами и волосами, прилипшими к его влажному от лихорадочной испарины лбу. Второй, плотный, был угрюм и выглядел безразлично-застывшим. Поздоровавшись со мной и глянув на удостоверение, следователь сказал:
– Знаете ли вы этих людей?
– Да, – ответил я, указав на бледного: – Это Орлов.
Как я и предполагал, Орлов тут же попытался мне плюнуть в лицо. Этот прием темпераментных и откровенных борцов теперь мною был усвоен, поэтому, сказав, я сделал шаг назад и бросок Орлова не достиг цели, тем более что Орлова тут же схватил сзади охранник и усадил силой опять на табуретку, а поскольку Орлов в истерическом порыве ненависти ко мне напрягся, чтоб встать, охранник придавил его плечи ладонью. Должен сказать, что и Орлов сильно изменился с тех пор, как я его видел, причем не только с момента, когда я случайно, благодаря антисемиту-самоубийце Илиодору, попал с ним в одну компанию, но и с тех пор, как мы, то есть антисталинская организация Щусева, вели с ним борьбу вокруг цветов, которые люди Орлова клали к подножию памятника Сталину. Если ранее в нем было много несформировавшегося и было даже что-то от протестующего в духе времени студента-зубоскала, то ныне в нем проступило воспаление профессионала, готового на любые крайности, и в пафосе его явилась не студенческая ирония, а искренность убеждений.
– Так я и знал, – сказал с горечью Орлов, – что жидовская лавочка Щусева – это сборище доносителей. – И он в бессилии, что не может плюнуть в меня, плюнул себе под ноги на пол.
В это время в коридоре произошло движение, кто-то пробежал и ворвался, видимо, чтоб предупредить о начальстве, но предупредить не успел, ибо Мотылин энергично вошел сам ранее, чем о нем успели сообщить.
– Личность одного из задержанных установлена, товарищ Мотылин, – поспешно сказал подполковник, – это Орлов… А тот второй? – обернулся ко мне подполковник.
– Этого я не знаю, – сказал я. (Я его действительно не знал, – видно, из новых.)
– Орлов? – переспросил Мотылин. – Не сын ли это…
– Нет, не сын, не сын, – перебил нервно Орлов, – не сын я ему, ибо мы с ним люди разных национальностей.
– То есть? – удивленно переспросил Мотылин. – В каком смысле?
– А в том смысле, что я по национальности русский, – ответил Орлов, выпятив грудь и напрягшись, так что охраннику пришлось применить усилие, чтоб его удержать.
– Ну, поскольку мне известно: ваш отец из потомственных… из крестьян, – сказал Мотылин, – член партии с двадцатых годов… Я слышал, что у него нелады с сыном… Это, значит, вы?
– Не может быть русским человек, который предает Россию жидам, – сказал Орлов и снова попытался встать.
Охранник опять удержал его, а следователь в штатском заметил резко:
– Вы на допросе, Орлов, и отвечайте на то, что вас спрашивают. Ваша бандитская агитация здесь никого не интересует.
– А я и отвечаю, – умехнувшись, ответил Орлов, видно довольный, что уязвил следователя. (Орлов действительно хоть и по-своему, но ответил на конкретно поставленный вопрос.)
– Вот что, Орлов, – сказал подполковник, – подумайте о своей судьбе и ведите себя прилично.
– Как русского, – ответил Орлов, – меня прежде всего волнует судьба России. И мне безразлично, что обо мне думают здесь, в вашем жидовском КГБ. Переняли традиции от жидовского ЧК.
После этих слов следователь в штатском, перегнувшись через стол, ударил Орлова по лицу. Я видел, что Мотылин, который к подобному не привык, отвернулся и поморщился.
– Ну вот, – сказал Орлов, сплевывая кровью себе под ноги, – это другое дело. С этого и начинали бы.
– Орлов, – сказал подполковник, – вы будете отвечать на вопросы следствия? Учтите, что каждое ваше слово и действие протоколируется.
– Отвечать на вопросы более не буду, – сказал жестко и твердо Орлов, – а высказать кое-что могу, раз уж протоколируется. Только пусть он меня отпустит. У меня мысли путаются от физического насилия. Да и не могу я говорить сидя такие слова… Это слова от сердца… От русского сердца…
– Пустите его, – сказал подполковник охраннику.
Тот отошел, и Орлов встал, пошевелил схваченными наручниками кистями.
– Главная опасность еврейства для России, – убежденно сказал Орлов, – не в его ненависти к России, а, наоборот, в его к ней любви. Вот чего не понимает этот подлец Щусев… Да и другие всякого рода стоящие у власти партийные подлецы, такие как мой отец, коммунисты… Те евреи, которые ненавидят Россию, менее для нее опасны, чем те, которые ее любят. Ассимиляторские тенденции этой части еврейства, его умение проникнуть не только внутрь русского общества, но и подчас внутрь русского характера, покорить его и видоизменить его суть, как рак меняет суть живой клетки. Их способность любить наши поля, леса, березки, грибные места, бруснику… Наших женщин, наши, наконец, традиции… Отлучение этой части еврейства от русской национальной жизни – вот где наша главная национальная обязанность. Обязанность русского патриота. Это я понял не сразу и не очень давно, и только после подобного понимания я по-настоящему ощутил суть великого национального движения, начатого Сталиным в конце сороковых годов. Поэтому март пятьдесят третьего года всякий честный русский патриот должен считать трагической катастрофой для России. Такие же, как Щусев, замкнулись в эгоизме и слепоте собственных обид. И вся их борьба, их антисталинская ненависть фактически не противоречит желанию еврейства, а, наоборот, на руку ему, потому что евреи всегда ненавидели любую твердую русскую власть. Все, что хоть отдаленно несет в себе русскую идею твердой власти, русской власти, ненавидится еврейством… Оттого они и стараются пролезть в самую основу этой власти, точить ее изнутри… Еврейство в ЧК – это особая тема… Сколько они расстреляли русских людей, сколько русских аристократок изнасиловали в тюремных камерах…
– Я думаю, хватит нам выслушивать этот маниакальный бред, – сказал следователь в штатском, мельком глянув на подполковника и переведя взгляд на Орлова, – говорите по существу… Кем вы были посланы, какие ставили задачи, какие связи?..
– Мне кажется, – перебил подполковник, – что ничего путного сейчас мы от него не добьемся. Но мы умеем ждать, Орлов. Вы успокойтесь и трезво подумайте о своем положении. Идите…
Орлова и его неопознанного спутника увели.
– Пришлите потом ко мне, – сказал подполковник следователю в штатском и, обернувшись к Мотылину, добавил: – Дело идет на лад. Кое в каких районах, конечно, еще хаос, но в общем обошлись без вызова внутренних войск. К вечеру, думаю, все утихнет.
– Доложите мне вечером обстановку, – сказал Мотылин. – Я буду в горисполкоме на чрезвычайном заседании.
– Слушаюсь, – по-военному ответил подполковник.
Мотылин вышел. Подполковник, подождав минуту-другую, мне кажется, чтоб не выходить вместе с Мотылиным, тоже вышел. Я остался в комнате для допросов один со следователем в штатском. Тот сидел, устало закрыв лицо руками, и во всем его облике было нечто подавленное и печальное. Наконец он поднял голову и посмотрел на меня, словно отрешившись и стряхнув некие свои внутренние мысли.
– Вы, наверно, голодны, – сказал он мне. – Вас надо накормить и устроить.
– А когда назад? – спросил я.
– Назад? – удивился следователь. – Отдохните здесь. У нас лучшие условия, чем в районе.
Я не мог сказать ему, что там меня ждет оставленная с чужим человеком Маша, и потому я сказал:
– У меня командировка туда.
– Это мы уладим, – сказал следователь. – Кстати, мне сообщили, что вас там едва не задушили в камере… Вас что, подсаживали?
– Нет, случайно в неразберихе меня задержали и поместили туда, – ответил я, – в камеру к Щусеву.
– Ну и ну, – вздохнул следователь и глянул, словно ища во мне союзника, – полный беспорядок.
Следователь этот был человек молодой, примерно моих лет, но я не знал, то ли он личность внутренне оппозиционная, то ли испытывает меня. Поэтому, отведя глаза и глядя вниз, на пол, не отвечая, я взял записку коменданту общежития и вышел.
Общежитие помещалось тут же, во дворе управления, и было почти пустым. (Все сотрудники находились на осадном положении с тех пор, как вчера подняты были по боевой тревоге.) В столовой при общежитии тоже было пусто, и я почти в одиночестве съел хоть и непритязательный, но калорийный и добротно приготовленный обед. (Борщ с салом, две большие котлеты с кашей и деревянную кружку вкусного изюмного кваса.) Кроме меня, в столовой был один лишь какой-то майор, да и тот не обедал, а пил пиво. После обеда комендант направил меня в чистую двухкоечную комнату, недоступную мечту мою в бытность гонимым жильцом «Жилстроя». Ах, как это было давно и как будто не со мной, или со мной, но в иной, потусторонней жизни, за пределами яви, во сне… Сон навалился на меня и сейчас, едва я коснулся пахнущей свежей стиркой наволочки и утонул в мягкой подушке. Что-то мне снилось, но что, не могу вспомнить. Спал я долго и прочно, то есть сразу отрешившись от всего нынешнего, не просыпаясь и, пожалуй, не ворочаясь, ибо мне кажется, что проснулся в той же позе, что и лег. Проснулся я перед рассветом. (Значит, спал остаток дня и всю ночь). Первоначально мне показалось, что проснулся я от боли в шее. Действительно, там, где меня душили вчера за шею, болело – может, от неудачной позы во сне, затронувшей опять помятые чужими пальцами мышцы… Я сел на койке, массируя больные места, и едва окончательно избавился от сна, как понял, что разбудила меня не боль в шее, во всяком случае не только боль в шее… На улице стреляли…
Теперь вновь надо отвлечься от прямых моих впечатлений и коснуться того, что тогда мне было неизвестно. (Впоследствии я участвовал в составлении общего отчета о событиях, в котором, помимо меня, участвовало множество людей, и потому мне удалось кое-что разузнать об общей картине.)
Вечером состоялось чрезвычайное заседание исполкома, на котором обсуждался размер причиненного мятежом ущерба и меры по восстановлению в городе нормальной жизни, причем принятые главным образом самостоятельно и, что особенно важно, без вмешательства центра. Кстати, разговаривая по прямому проводу, по вертушке, Мотылин убедился, что в центре хоть и встревожены, но не представляют себе истинных масштабов происходящих событий, то есть истинные масштабы удалось утопить в общем потоке конкретных цифр и сообщений. Это был стиль Мотылина: никаких общих мест, и благодаря этому стилю ему весьма часто удавалось конкретными частными фактами затушевать общую картину. Кажется, это удалось и сейчас, отчего Мотылин даже взбодрился и подумал, что все может еще миновать и он усидит. К концу заседания в исполком, как и уславливались, явился подполковник. Нынешнее почтительное и исполнительное поведение подполковника (уж у этих-то нюх точный), отличающееся от внутреннего неодобрения и противоборства, которое прочитал в нем Мотылин во время утреннего доклада, также подсказывало, что его, Мотылина, положение упрочняется. Возможно даже, этот хитрец-подполковник знает о нем то, что сам Мотылин еще не знает. (Ведь у них своя прямая связь с Москвой.) Возможно, ему известно о мерах, принятых высокими друзьями-покровителями в Москве в пользу его, Мотылина, о мерах, которые даже самому Мотылину еще неизвестны, либо просто о каких-либо больших в масштабе страны изменениях в пользу Мотылина. (Были слухи, что один из покровителей Мотылина, с которым вместе работали в Молдавии, метит на самый верх. Работали недолго, во время очередной пертурбации, после которой вновь вернулся в свою область. Но связь есть связь.) Во всяком случае, впервые после пережитых волнений Мотылин почувствовал себя спокойней. Конечно, нельзя сказать, что совсем уж прочно, ибо все это были пока лишь предположения, но во всяком случае утренний душевный хаос и растерянность оставили его.
Мотылин с подполковником прошли в небольшую комнатку недалеко от зала заседаний, причем Мотылин уселся за стол (хоть и дрянной, дешевенький письменный стол какого-то мелкого исполкомовского чиновника). А подполковник остановился посреди комнаты в качестве докладывающего.
– Садитесь, – сказал ему Мотылин и указал на стул, – слушаю вас… (Прежний областной начальник КГБ, с которым Мотылин был на «ты» и давно сработался, недавно оказался переведен, несмотря на все протесты Мотылина. Замена его новым работником задерживалась, и подполковник с некоторых пор исполнял обязанности начальника управления.)
– Спокойствие повсеместно восстановлено, товарищ Мотылин, – начал подполковник, – принимаются меры к выявлению зачинщиков. Нами организована оперативная группа в помощь районному отделению, ибо… (он назвал город, куда у меня была командировка) также коснулась провокация… Кстати, помимо прошлых экземпляров прокламаций, мне доставлена уже совершенно иная разновидность, – подполковник достал из портфеля несколько прокламаций и подал их Мотылину.
Это были прокламации Русского национального общества имени Троицкого, от меня полученные. (Теперь считалось, не отнятые, а полученные.) Мотылин взял прокламацию и принялся читать. Ее поповский стиль особенно раздражал его, а слова «Русское милосердие несколько веков назад приняло под свою защиту гонимое и обездоленное еврейское племя…» он даже подчеркнул карандашом. В этой фразе было нечто неприятно ассоциирующееся с его взаимоотношениями, вернее, какие взаимоотношения – скорей, просто с его отношениями к покойному директору «Химмаша» Гаврюшину… Или Лейбовичу… Кто его знает… Жили мы в политически сложное время. Но раньше хоть не было этой путаницы. До марта 53-го. В одном тот мерзавец Орлов прав. Как же, Терентия Васильевича сын. Не раз встречались на партконференциях. Какое несчастье для отца. Неужели этот мерзавец не понимает, что портит личное дело отца? В наше коллегиальное время мы, старые работники, и так не в чести.
Мысли его вновь начали становиться все более угнетенными. Задумавшись, он оглядел кабинет, в котором находился: дешевый стол, перекидной календарь в пластмассовом оформлении, единственный телефон, громоздкий и старого типа, портрет Хрущева в тощей рамке, из тех правительственных портретов, которые вешают обычно в школьных коридорах… В таких кабинетах неплохо начинать молодежи, когда из первичной организации попадаешь по выдвижению в номенклатуру. Но попасть сюда в летах, да еще обратным ходом и единым махом… Нет, уж лучше на пенсию… И, несмотря на то что ныне Мотылин оказался в этом низовом кабинете по бытовой случайности и по своей же воле, просто потому, что он находился неподалеку от конференц-зала и этот ключ первым попался в руки служителю исполкома (впрочем, вокруг конференц-зала все кабинеты были низовые, а начальство располагалось этажом выше, в тиши и безлюдье), так вот, несмотря на все это, Мотылин ощутил некое предзнаменование в сидении за неудобным письменным столом низового ранга. Этот круговорот мыслей и ощущений странным образом соединился в нем с глупой прокламацией «о гонимом еврейском племени» и делом Гаврюшина-Лейбовича… И тут же, когда Мотылин, подогреваемый всеми этими внутренними мыслями, «созрел», подполковник, который, кажется, уловил его состояние, как опытный кулинар улавливает готовность пищи, подполковник сказал:
– Я лично допросил Орлова. Он утверждает, что в распоряжении их организации «Русская боль»… Помните, у Есенина, – усмехнулся подполковник, прерывая на полуслове начатую мысль, и неожиданно прочел:
- Черная, потом пропахшая выть!
- Как мне тебя не ласкать, не любить?
- Выйду на озеро в синюю гать,
- К сердцу вечерняя льнет благодать…
- Оловом светится лужная голь…
- Грустная песня, ты – русская боль…
Так вот, организация этих неорганизованных, расхлябанных, глупых идеалистов называется «Русская боль».
– Хорошие стихи, – сказал Мотылин и тут же с тревогой почувствовал, что говорит он уже не сам по себе, а подчиняясь ходу мыслей и мягкому, но настойчивому давлению подполковника.
– Вы откуда родом, Игнатий Андреевич? – совсем уж неожиданно спросил секретаря обкома подполковник.
Этот вопрос и это обращение по имени-отчеству носили, несмотря на задушевность и вежливость по форме, явно вызывающий и фамильярный характер. Мотылин понимал, что нужно немедленно одернуть подполковника и вернуть его к положению человека докладывающего и исполняющего обязанности, причем вернуть в резкой форме выговора. Но вместо этого по ему же самому непонятным причинам Мотылин ответил:
– Из Тамбовской области. Там у меня и мать жива.
– Да, – сказал подполковник, – почти есенинские места.
– Ну, не совсем, – ответил Мотылин, пытаясь хоть этим несогласием оказать сопротивление чему-то, совершающему насилие над ним и чему подполковник, несмотря на официальное свое более низкое положение, был ближе, – не совсем есенинские, – сказал Мотылин, – Рязань все-таки иное.
– И то, и то Россия, – ответил подполковник, – да, Игнатий Андреевич (вторично эту фамильярность Мотылин выслушал уже спокойней), – да, Игнатий Андреевич, как там ни крути ни верти, а мы с вами прежде всего русские люди.
В это время старый и громоздкий телефонный аппарат зазвонил, словно будильник, грубо и вульгарно.
– Алло, – невольно взял трубку Мотылин для того хотя бы, чтоб прекратить этот вульгарный звон, который человек пониженных должностей обязан будет слушать ежедневно, давая отчет подавляющему большинству звонящих. И действительно, в трубке сразу же закричали на Мотылина и чего-то требовали, чего – он не разобрал. – Нет здесь никого! – сердито крикнул в ответ Мотылин.
– А вы кто? – требовательно кричала трубка. – Ваша фамилия?
– Иди ты!.. – крикнул Мотылин и с силой бросил громоздкую тяжелую трубку «низового» телефона на рычажки.
– Мы несколько отвлеклись, – сказал подполковник, – так вот, Орлов утверждает, что в распоряжении их организации имеются списки около десяти тысяч лиц, которые сменили биографию… В масштабе страны, конечно… Вы меня понимаете? Мне удалось добиться, чтобы в этом вопросе Орлов согласился сотрудничать со следствием… Я принял меры, чтобы эти списки были изъяты. Кое-что нам уже и теперь известно… Например, о наших кадрах… – он вынул бумагу из кармана, – например, Голованов, секретарь парторганизации станции «Товарная-сортировочная»… И родился он не там, где указано в его личном деле, и год рождения у него иной, и фамилия у него не Голованов, а Натерзон.
– У вас есть доказательства? – спросил Мотылин, осторожно и незаметно прижимая ладонью сердце. Голованова он знал. Это был дельный и толковый работник.
– Есть, – сказал подполковник и, щелкнув замками своего портфеля, достал бумаги, – вот протокол допроса… Голованов, он же Натерзон, во всем сознался. Вот его подпись под протоколом, – и подполковник положил протокол перед Мотылиным.
– А насчет Гаврюшина? – тихо и тяжело спросил Мотылин, не читая протокол, лишь барабаня по нему пальцами. – Насчет Гаврюшина подтвердилось?
– Вы ведь не одобрили мою мысль послать запрос, – словно укоряя, ответил подполковник.
– Пошлите, – тихо сказал Мотылин и встал тяжело, – вообще работа с кадрами у нас запущена, – может, оттого все и произошло.
От сравнительно спокойного его состояния, наметившегося было на заседании исполкома, не осталось и следа. Домой он приехал в подавленном настроении, жену, которая приступила к нему с расспросами относительно Любови Николаевны – ее подруги, Мотылин оборвал чуть ли не грубо и, не ужиная, заперся в кабинете, переключив туда телефоны, и продремал, сидя в одежде, всю ночь, словно рядовой дежурный, ожидающий вызова. Телефоны за ночь ни разу не позвонили, но на рассвете Мотылин, так же как и многие, был поднят выстрелами, прозвучавшими сперва в отдалении, а потом все ближе и интенсивнее. Дело состояло в том, что ночью по инициативе подполковника были проведены массовые аресты. Причем проводились они в обстановке всеобщего беспокойства, по горячим следам, часто без разбору и с применением методов самого крайнего толка. Ко всему еще, поскольку аресты были массовые, помимо работников карательных органов в них участвовало большое число людей неопытных, солдат-новобранцев, курсантов пехотного училища и т. д. Были случаи избиения задержанных, были случаи применения оружия, был даже случай настоящего боя, когда два брата начали перестрелку и из охотничьих ружей убили лейтенанта, руководившего арестом. В общем, к утру весь город был на ногах и у здания обкома собралась огромная толпа, требовавшая освобождения арестованных. Мотылин, который в мятом пиджаке и галстуке, то есть так, как он просидел ночь, с трудом пробрался в обком с заднего подъезда, явился как раз тогда, когда перестрелка началась и перед зданием обкома.
– Что происходит? – крикнул он своему секретарю, бледному и с отвисшей от страха нижней челюстью. – Что за мерзость, как смеют стрелять в народ?.. Кто распорядился?..
– Первые выстрелы прозвучали из толпы, – ответил секретарь, стараясь справиться со своей отвисшей челюстью, – убили двух солдат… Тогда офицер, командовавший ротой, сам распорядился… Уголовный элемент действует, подстрекает…
– Немедленно прекратить! – чувствуя никогда еще не испытанные дрожание и слабость в ногах, крикнул Мотылин. – Я буду говорить с народом…
– Это опасно, – пытался вставить слово секретарь.
– Молчать! – крикнул Мотылин ни в чем не повинному, перепуганному насмерть секретарю. – Зажрались в распределителях, а народ голодает… И этого ко мне… Этого подполковника… Как его?.. И остальных… Где сотрудники, почему обком пустой?..
Мотылин рванул задернутые шторы, толкнул дверь и вышел на балкон. В утреннем осеннем воздухе по-фронтовому остро пахло жженым железом. Сизый дымок полз над площадью. Люди разбегались и вновь собирались кучами.
– Народ! – набрав побольше воздуха, крикнул Мотылин. – С вами говорит первый секретарь обкома… Мотылин я… Все арестованные будут освобождены… Все виновные в нарушении социалистической законности наказаны… Советская власть есть власть народа, и она не позволит… – На эту фразу, явившуюся вдруг с митингов революции и Гражданской войны, раздалось несколько выстрелов из охотничьих ружей…
Секретарь схватил Мотылина сзади за плечи и с силой втащил его с балкона в кабинет. Мотылин сел в тяжелое кожаное кресло и, чувствуя сильную боль в сердце, сидел так, пока не послышались по-военному четкие шаги. Подполковник явился чисто выбритый, хоть и с набрякшими от бессонной ночи глазами. Подворотничок его был белоснежен, и через плечо он был перетянут портупеей.
– Ах, явились, – сказал Мотылин, не отвечая на приветствие, заранее предвкушая, как он рассчитается за вчерашнюю свою слабость, за то, что вчера в комнатушке исполкома он, Мотылин, фактически предал себя, и близких ему людей, и всю страну (именно так гиперболически нервно он подумал), предал во власть этого душителя. – Что вы натворили? – сказал Мотылин. – Что вы натворили ночью?.. Кто вам позволил?..
– Я не понимаю вопроса, – остро ответил подполковник, – если речь идет о задержании преступников…
После этих слов Мотылин вскочил и дальнейшее уже помнит обрывками. Он помнит, как подбежал к двери и запер ее. После этого он стукнул кулаком по столу и крикнул совсем уж визгливым и чужим голосом. (По-моему, тем самым голосом, какой явился у меня в период реабилитации, каким кричит обычно не рабочий класс, а озлобленные, измученные интеллигенты.)
– Советская власть еще жива!.. Сволочь!.. Не надейся!..
– У вас припадок, – холодно ответил подполковник, – вам нужен врач.
– Пусть я полечу, – крикнул Мотылин, – и поделом!.. Но и ты… Ты… ты будешь работать завхозом… Или управдомом… Голованова вчера на допрос возил, а подлинные преступники где?.. Антисоветчики, подстрекатели где?..
– Не Голованова, а Натерзона, – усмехнувшись, ответил подполковник.
– Молчать! – крикнул Мотылин. – Это ты… вы… все вы натворили, все вы опоганили!.. Хрущев вам волю дал… При Сталине таких, как ты, к стенке. – Тут силы оставили его, и он медленно начал опускаться посреди кабинета на толстый и мягкий ковер.
– А насчет Гаврюшина подтвердилось, – спокойно и жестко сказал подполковник, сверху вниз глядя на лежащего секретаря обкома, как смотрел он неоднократно на лежавших у его ног при допросах, – подтвердилось, Лейбович он… – И лишь сообщив это, подполковник вышел и сказал секретарю: – Мотылину врача, у него обморок…
– Пошлите вызов, – прошептал Мотылин секретарю, который, подхватив об руки, силился поднять его, – вернее, сообщите… Толкунову передайте (Толкунов – второй секретарь обкома), то есть я о том, что необходим вызов внутренних войск.
– Они уже разгружаются на станции, – ответил секретарь.
И действительно, внутренние войска, вызванные по иным каналам, уже разгружались и приступили к действию. Четко и умело взаимодействуя, оцепляли они охваченные беспорядками кварталы. Оружие применяли в крайнем случае, но если уж применяли, то со знанием дела. Поджоги общественных зданий и грабежи винных лавок были пресечены, застреленные при оказании сопротивления увезены в морг. Арестованные, минуя городскую тюрьму, сразу же отправлялись на вокзал, где их ждали эшелоны. Таким образом, они единым махом отсечены были от мятежных мест и лишь через двое суток пути, по прибытии в совершенно незнакомую и спокойную область обширной России, в просторах которой затихает, задохнувшись, и кажется ничтожной любая местная смута, лишь по прибытии туда присмиревшие, усталые и голодные арестованные прошли допрос и пересортировку, в результате которой многие впоследствии были освобождены.
Но прибытие внутренних войск и восстановление порядка началось с десяти утра. Когда же я выбежал на улицу, разбуженный выстрелами, в городе царила атмосфера полнейшей анархии и безнадзорности, то есть атмосфера, приятная для буйного ребячества лесостепной, задавленной порядком натуры. «Маша, – тревожно подумал я, – к Маше надо… к Маше…»
В управлении все от меня отмахивались, никто и слушать меня не хотел. Наконец в коридоре я увидел знакомого следователя, ведшего при мне допрос Орлова.
– Послушайте, – крикнул я ему, хватая за локоть, чтоб удержать, ибо и он первоначально отмахнулся, – послушайте, мне надо назад… в район…
– Не сходите с ума, – ответил следователь, – там тоже бог знает что творится… Начальник милиции убит… Вот так…
– Послушайте, – не пуская руку, говорил я, – у меня там жена…
– Жена, – удивленно повернулся ко мне следователь, – каким образом, вы разве местный?
– Да, – ответил я, намереваясь соврать, но, тут же сообразив, что в командировке указано иное, поправился: – То есть нет… Но все равно… Жена…
– Ладно, – сказал следователь, который торопился, которому некогда было вникать в мои проблемы, – идите во двор, скоро оттуда отправится милицейская машина.
Я даже не поблагодарил, побежал во двор и успел в самый последний момент, ибо машина уже трогалась. Милицейская машина, в которой, помимо меня и шофера, сидело двое милиционеров, вооруженных винтовками, доехала до какого-то села и там остановилась, завернув во двор сельсовета. Почему и зачем это – я не знал. В висках у меня стучало, и было сухо во рту и больно, дурные предчувствия мучили меня.
– Тут до города километров шесть, – сказал мне вслед один милиционер. (Вслед, ибо едва мне показали дорогу, как я сразу же пошел.)
– Только поосторожней! – крикнул второй.
Городок встретил меня тишиной и пустотой, то есть из разговоров я ожидал худшего, особенно после индустриального центра, где гремели выстрелы и пахло газом. Здесь же воздух был вкусным и чистым, и, когда, ища дорогу к станции, я оказался в городском парке, птичий галдеж и беспечно и плавно облетающие листья меня и вовсе успокоили и родилась надежда, что моим дурным предчувствиям не суждено сбыться. Но едва я подошел к дверям старухи, приютившей Машу, как новый приступ страха овладел мною. Я постучал. Я стучал долго. Наконец я принялся колотить в дверь ногами. Минут через десять я догадался крикнуть:
– Послушайте, я за женой!..
Дверь тотчас же открылась. Оказывается, старуха все время стояла под дверьми и слушала, но не отпирала и не подавала голоса. Увидав меня, старуха запричитала.
– Что? – крикнул я. – Где моя Маша?..
И тотчас же увидел ее, лежащую на старушечьей койке и по-детски протягивающую ко мне руки. В этом ее порыве ко мне было так много от покинутого ребенка, от одинокой и слабой, нуждающейся во мне души, что, бросившись к ней, я забыл обо всем, я перестал различать обстоятельства и время и не сразу даже заметил, что Маша горяча и в лихорадке, а глаз у нее нездоровый и неосмысленный.
– Снасильничали нас, – плача, сказала у меня за спиной старуха, – видать, беглые арестанты… Попить попросились и снасильничали. Уж и меня, старую-то, помучили, а ей-то как, молодой?
Эта весть застала меня в Машиных объятиях, но первые мои объятия с любимой были судорожны и цепки, так не обнимаются в любви, а хватаются друг за друга в страхе. Я видел грубые царапины на ее, святом для меня, теле. Я видел синяки на ее по-больному безучастно и безразлично к женской тайне своей обнаженных грудях. И властная, жестокая ненависть вошла в меня и лишила меня человеческого покоя, может быть навсегда. Слезы брызнули у меня из глаз, и, раскованный слезами этими, я сказал убежденно и коротко:
– Ненавижу Россию.
И едва я сформулировал так, как мне стало легче и мысли мои приняли деловое направление.
– Одевайся, Маша, – сказал я. – Здесь оставаться опасно.
Маша послушно встала, и я слышал, как старуха, вздыхая и плача, помогает ей натянуть платье.
– Ой, бандитизм, бандитизм, – причитала старуха, – а кому пожалуешься, если вокруг бандитизм?
– Вам заплатили? – сухо перебил я старуху.
Не знаю почему, но мне было особенно неприятно, что Машу изнасиловали вместе с этой старухой, что-то в этом было особенно мерзкое и унизительное, так что даже и против этой старухи, которая сама пострадала, я настроился злобно.
– Заплатила она мне, заплатила, – торопливо сказала старуха, – и верно ты делаешь, что ее уводишь. Опасно здесь. Утром сегодня опять ломились.
Кажется, старуха рада была нас спровадить.
Я рассчитывал вместе с Машей добраться к райотделу милиции, где находился и Коля и где брат и сестра, во-первых, были бы защищены властями, а во-вторых, встретились бы и ободрили друг друга. Но в тот короткий срок, пока я был у старухи, что-то в городе изменилось. Вернее, первоначально мы шли тихими пустынными улицами, прошли спокойно полный птичьего галдежа и шелеста опадающей листвы парк. Улица, ведущая к центру, также была тиха, пустынна и освещена нежарким сентябрьским солнцем. Однако неподалеку от перекрестка, прямо посреди мостовой, лежал убитый милиционер. Кобура его была пуста, – видно, наган унесли убийцы, а форменная фуражка мокла в луже крови у головы. И вид убитого милиционера, открыто лежащего среди бела дня, как бы сообщал, что власти больше нет, что над властью совершается насилие. И действительно, мы с Машей едва укрылись за какой-то изгородью от толпы с камнями, прутьями, охотничьими ружьями. Как выяснилось впоследствии, они направлялись, чтоб принять участие в нападении на райотдел милиции. Изгородь защищала нас лишь с одной стороны, и в любой момент мы могли быть обнаружены. Я огляделся. За спиной у нас находились огороды и одноэтажные полусельские домики, которыми в основном и застроена большая часть городка. Я взял Машу за руку, как маленькую девочку, и мы побежали к одному из домиков, надеясь укрыться там, но в ответ на мой стук в калитку лишь залаяла собака. Ей ответила другая, и вскоре вокруг нас уже неистовствовал тревожный собачий лай. Таща за собой Машу, я побежал в сторону, понимая, что собачий лай может привлечь к нам внимание. Тем более что неподалеку послышались голоса, размашистые и пьяные. А находиться сейчас на улице, да еще в пьяном виде, да еще группой, громко и открыто себя ведущей, могли лишь личности ныне господствующие и для нас опасные. За огородами начинались опять деревья, и впопыхах я подумал, что мы, сделав круг, вновь вернулись к парку, который миновали, идя со станции, но, приглядевшись, я понял, что это совсем иной сад или парк, небольшой и крайне запущенный, грязный и с воздухом несвежим, ибо здесь попахивало чуть ли не от каждого куста.
Между тем вдали послышались выстрелы, от которых Маша задрожала и съежилась. (Это начиналось возле милиции.) С другой же стороны неуклонно приближались пьяные голоса, но укрыться решительно негде было. И тут внимание мое привлек дощатый туалет, полуразвалившийся, на краю парка. Кажется, это был недействующий туалет, ибо вход в него был забит накрест, но под досками можно было проникнуть внутрь. Я потянул Машу туда. Мы стояли там, прижавшись, среди жужжанья больших зеленых мух и слушали тяжелый погромный шаг и веселый свободный пьяный говор проходящей компании. Компания миновала, я подумал было уже двинуться далее, как вдруг заметил, что внизу, в дощатом проломе под ногами, прямо в яме с нечистотами кто-то стоит. Первоначально я испугался, но, поняв, что тот, кто там стоит, тоже прячется, да и к тому же старик, окликнул его:
– Ты кто?
– А вы кто? – ответил старик. – Прячетесь вы?..
– Да, – ответил я.
– Тогда залазьте сюда, – сказал старик, – вы явреи?
– Нет, – ответил я.
– Я к тому, – сказал старик, – что тут один яврей уже прячется в моем убежище… Все равно залазьте… В России и русскому поберечься не грех…