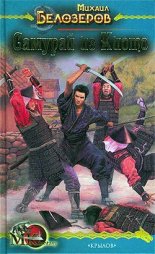Место Горенштейн Фридрих

Рядом со стариком я заметил другого человека, пожилого и носатого.
– Найдут здесь, – перебил я юродивое бормотание старика, с тревогой прислушиваясь к вновь возникшим неподалеку голосам.
– Не найдут, – ответил старик, – а найдут, так пусть уж лучше здесь найдут, чем в другом месте, – сказал он убежденно. – Я Россию знаю… Вот ежели б тебя с перины стащили, тут не жди пощады, а здесь, может, и помилуют… Если в дерьме найдут, может, и помилуют… Ну-ка лезьте…
Мы с Машей и обоими стариками – юродивым и носатым – простояли в «Ноевом ковчеге» довольно долго, а сколько, точно не знаю. Несколько раз наверху слышался топот, голоса, однажды кто-то даже заглядывал, но нас не заметил. Стояли мы молча, затаив дыхание, даже юродивый старик притих. Лишь когда очередная опасность обходила нас, он мелко крестился. Наконец нас все-таки нашли и, хохоча, заставили выбраться.
– Вылазьте, – говорят, – дерьмоеды, или стрельнем из ружья, в дерьме потонете.
Наверху над нами вдоволь похохотали. Вид у нас действительно был веселый. С нас текло, нас била дрожь, да ко всему еще мы были в полной их власти. Старик-юродивый хохотал вместе с толпой. (Вокруг нас образовалась уже толпа, хоть первоначально было человек десять.) Мы с Машей молчали, а носатый старик чересчур сильно дрожал. Наверное, это и видоизменило кое у кого в толпе отношение к нам, ибо толпа любит, чтоб те, над кем она потешается и кто доставляет ей удовольствие, не проявляли строптивости и, находясь в ее власти, были ей благодарны за то, что, повеселившись, она по-славянски «отходит сердцем» и милует. Но мы, в отличие от юродивого, дурно знали славянскую душу и, вместо того чтоб смеяться над собой, молчали… Надо также добавить, что первоначально обнаружившая нас кучка пьяниц и в мятеже-то по-настоящему не участвовала, а занималась грабежом винных отделов продмагазинов и потому была не очень озлоблена. Но постепенно к ней примкнули и иные группы, в частности отступившие от райотдела милиции и даже ведущие с собой наспех перевязанных рваными лоскутами рубах раненых.
– А ведь они евреи! – злобно крикнул, глядя на меня с Машей, кто-то из толпы. – А этот носатый и вовсе типичный жид!..
– Мозги им на травку выпустить!.. – крикнул другой.
– Что вы, братцы, – заспешил старик-юродивый, – молодежь русская, а тот, с носом, – грек… У греков тоже носы будь-будь… Какие они явреи?.. Яврей разве в дерьмо полезет?.. Ему что бы послаще. – И старик начал ловко, по-скоморошьи скакать и ловко также коверкать язык на еврейский манер. – Это грек, братцы… А еврей – это другой макар… Ему бы с Сарочкой, ах ты боже мой, под перину залезть… Ему б там еще одного абрамчика со страху вылепить… Ему бы курочку пожевать. А если испугается, так спешит желтые штаны надеть…
– А это зачем же? – зная заранее ответ, но вступив в игру, спросил из толпы чей-то веселый голос.
– Чтоб, если желудок не выдержал, – скривился старик-юродивый, – на штанах не заметно было.
Толпа захохотала. Вообще, несмотря на то что старик-юродивый говорил вещи неновые и из устаревшего репертуара насмешек над евреями, говорил он так ловко и артистично, что даже самые угрюмые пьяные лица по-ребячьи расплылись от удовольствия, даже и раненые улыбались. (Впрочем, и раненые были пьяны.) Настроение толпы начало меняться, злоба исчезла, явилась детская дурашливость, поплыли по рукам изъятые в продмагазинах бутылки.
– Эй, ты, грек носатый, – крикнул кто-то, – попей русской слезы христовой.
Но носатого так сковал страх, что он не нашел в себе силы ответить.
– А давай лучше я, – снова по-козлиному, по-скоморошьи прыгнул юродивый, вызвав опять волну смеха, и, перехватив бутылку, запрокинул ее, прижал к губам.
В это время послышался начальствующий окрик, и явился какой-то высокий человек с русой бородой и интеллигентным лицом, похожий по облику на художника. Это был тот самый неразысканный член группы Щусева (мне, к счастью, как и я ему, неизвестный), член группы Щусева, который вместе с иными функционерами пытался придать осмысленный организованный антисоветский характер экономическому бунту.
– Пьянствуете здесь, – крикнул он, – а другие за вас гибнут!.. Ждете, чтоб чекисты вас по одному скрутили?..
– Не мешай, – отвечали ему, пьяно хохоча над козлиными прыжками юродивого.
Функционер этот опытным глазом оценил ситуацию и понял, что криком не возьмешь, а надо действовать сообразно с народным настроением.
– Братцы, – весело крикнул он, – что-то я не пойму… Носатый жид у вас до сих пор живой, девка не использована… Непорядок у вас, не по-русски это…
– Да это не жид, это грек, – благодушно и пьяно ответил кто-то, – а девка, она в дерьме, к ней не подступишься…
– Эх, – весело и в тон сказал русобородый, – где ж ваша русская смекалка, которая блоху подковать может?.. Девку пусть ее хахаль для вас вымоет, – и он остро и цепко блеснул в мою сторону осмысленным интеллигентным глазом, – а насчет жида давайте-ка сами у него спросим… Эй, ты, пархатый, жид ты или грек?
– Грек он, ваше благородие гражданин начальник, – сказал юродивый, – жид, он курочку любит, жид, он с Сарочкой гуляет…
– Заткнись, – прервал русобородый лепет старика, который был для него, антисемита-профессионала, бездарной графоманией и подделкой, – какое я тебе благородие?.. Мои предки были крестьяне, их на конюшне пороли. – И, обернувшись ко мне, крикнул: – Кому сказано, веди свою девку к колонке, отмывай ее… Видишь, сколько мужиков тебя одного ждут, – говорил он в распространившейся среди славянофилов-интеллигентов манере.
Я бросился на него молча, но он успел сильно ударить меня болотным охотничьим сапогом в живот… Говорят, матросы в старое время, чтоб не чувствовать порки, брали в рот куски свинца и сильно, до крови, закусывали их… Одна боль перекрывала другую… Ненависть так жгла, пекла и сверлила мой мозг и мое сердце, что она превысила боль от удара охотничьим сапогом в живот и не дала мне потерять сознание до того, как я вцепился русобородому в глаза. Я хотел схватить его за горло, но он умело и тренированно, по-бойцовски, опустил голову, однако я все-таки вцепился ему пусть не в горло, но в глаза. Мы оба повалились, и последнее, что я помню, – это наслаждение, с которым рвал русобородому глаза и лицо… Потом меня ударили сзади по затылку, и на этом окончился целый этап моей жизни… В сознание я пришел не скоро и не здесь, потому дальнейшее знаю приблизительно и с чужих слов…
Машу в той свалке не тронули. Сама же толпа ее и защитила, ибо что-то в ней явилось вдруг такое громкое, непохожее ни на крик, ни на плач, ни на смех, что тронуть ее не решались, а самым агрессивным и пьяным даже и не позволили. Юродивого старичка убили, чем-то он толпе в конце концов не потрафил, несмотря на то что долгое время удачно ее веселил. Впрочем, убили его, может быть, и впопыхах. Впопыхах же и по ошибке носатого старика-еврея не убили, а лишь побили крепко и бросили. Мне же повезло в том смысле, что пролежал я, истекая кровью, по-видимому, не более получаса. Вскоре прибывшие из областного центра соединения внутренних войск приступили и здесь к наведению порядка, к облавам и пресечениям зверств. В числе других жертв мятежа я был подобран и помещен в одну из местных больниц. Маша также помещена была в местную больницу, однако приехавшие за ней по телеграмме журналист и Рита Михайловна забрали ее и Колю и увезли их в Москву.
Конец третьей части
4.VIII.1971
Часть четвертая
МЕСТО СРЕДИ СЛУЖАЩИХ
Вкусная пища, поставленная перед человеком с завязанным ртом, все равно что пища, поставленная на могиле.
Книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова, 30: 18
Глава первая
Время до и после тяжелой операции помню дурно и лишь позднее понял, что я мог бы и не выжить, шансы у меня в ту и иную сторону были довольно равны. Начал я себя вновь ощущать лишь к зиме. На то, что за окном зима, я сразу же обратил внимание, едва способен стал отрешиться от простейших ощущений своего тела. Тело я свое ощущал всегда и в самый разгар беспамятства, как мне кажется, – и этим, пожалуй, беспамятство все-таки отличается от смерти, но ощущал так, что, придя в сознание, ни понять, ни вспомнить о своих чувствах в беспамятстве не мог. Итак, едва став способным глянуть «из себя» вовне, я сразу же глянул в окно. (Это был мой первый осмысленный взгляд.) Первой же здоровой мыслью, восстановившей распавшуюся «связь времен», было сопоставление того, что ныне происходило в природе, с тем, что было перед моим уходом из осмысленной жизни. Окно было замерзшим, но с проталинами, в которые проглядывали ветви голых зимних деревьев, припорошенных снегом. Последний же пейзаж, который я помнил, был осенний, причем с не опавшей даже еще полностью листвой. Следовательно, размышлял я, осень была не поздняя, не ноябрь, а сентябрь или начало октября. Сейчас же, судя по всему, как минимум декабрь. (Была середина января.) Именно это размышление и пустило вновь в ход мой возвращавшийся к жизни мозг. И едва он принялся набирать обороты, как скрипнула дверь и ко мне вошла женщина в белом халате. Белый цвет вообще придает женщине девственную привлекательность, это я понял потом, тогда же все-таки я действовал под влиянием ряда импульсов, тут была и радость пробуждения, страсть же почти что детская, не идущая далее ласки. Едва эта женщина протянула руку к моему телу, как я схватил эту руку обеими ладонями, предварительно сообразив, что еще слаб и если схвачу одной, то она легко выдернет у меня эту свою, страстно желаемую мной, женскую руку. Схватив, я начал осыпать эту руку поцелуями. Женщина явно растерялась и выронила градусник, который, оказывается, был у нее в руке и который я не заметил первоначально. Руку свою она выдернула после короткой борьбы, отнявшей у меня все силы, так что, когда она ушла, я упал на подушку с каким-то радостным ощущением своего чисто детского бессилия, детской легкости и безнаказанности. И в таком состоянии я впервые вспомнил о Маше, о том, что она существует на том свете, в который я вернулся. Позднее, когда ко мне в изолятор (оказывается, я лежал в изоляторе) вместе с той женщиной вошла целая группа людей, я уже в значительной степени восстановил связи со своей прежней жизнью и состояние мое начало несколько меняться. Я ощутил себя тяжелей и впервые вновь начал чувствовать опасность, исходившую от внешнего мира, которую олицетворял главным образом человек с седым солдатским ежиком и в очках с позолоченной оправой, стоявший впереди группы. (Оказывается, под ежик часто любят стричься не только отставные военные, но и профессора медицины.)
В акте психиатрической экспертизы, которой я был вскоре подвергнут (как правило, подобной экспертизе подвергаются после тяжелой травмы черепа), в акте этом, с которым некоторое время спустя мне случайно удалось ознакомиться, было указано обо мне: «мышление разорвано». Признаюсь, я согласен с этим диагнозом, который соответствовал еще недели три, а может и несколько более, моему состоянию после того, как я пришел в сознание и был переведен из изолятора в общую палату. Однако это случилось позднее. Тогда же профессор с седым солдатским ежиком меня осмотрел, уверенно, но мягко применяя надо мной насилие, ибо меня вдруг охватил страх перед этими мужскими прикосновениями ко мне извне и я пытался, забравшись под одеяло, огородить себя от всего происходящего. Однако осмотр все-таки состоялся вопреки моей воле, после чего мне переменили белье и дали чашку крепкого куриного бульона, который я выпил с наслаждением. Белье мне меняла все та же женщина в белом халате. Я теперь лучше разглядел ее и обнаружил, что она значительно старше Маши и, конечно же, менее привлекательна. Но в ней имеется свое женское и неповторимое. Руки ей я более не целовал, но прикосновения пальцев ее к моему телу были мне крайне приятны, детская же слабость моя, по-прежнему существовавшая, отняла у меня мужской стыд, и я спокойно воспринимал ее движения, когда она забиралась руками под одеяло, чтоб натянуть на мои ноги больничные кальсоны.
Первый день моей новой жизни (я считал тогда, что начал жить заново, хоть это и не так, и я понял, что это не так, едва окреп), итак, первый день я провел в спокойных позах, оглядываясь и думая изредка, главным образом о приятном. Лишь к ночи я начал вспоминать подробности, предшествующие моему исчезновению на несколько месяцев из осмысленной жизни, вспомнил русобородого художника – вожака, издевательства пьяной толпы, и особенно остро проснулась мысль о том, что Маша подверглась групповому изнасилованию вместе со старухой и это уже не повернуть вспять, и это было так невыносимо, что я крикнул и позвал на помощь. Явился дежурный врач, начались хлопоты вокруг меня, был сделан успокаивающий укол и на голову положен компресс. И когда я затих, весь в горячей сухости (три дня у меня держалась высокая температура, и вообще наступило внезапное обострение), когда я затих, вновь явилась мысль о ненависти к России и одновременно о желании оседлать ее, подмять под себя и мстить ей жестоко, властвовать над ней, как мужчина властвует над покорившейся ему женщиной в момент насилия… Это была бредовая ночная интимная мысль, и ее единственную я вынес целиком из бреда, все же остальное позабыл. Позднее, когда кризис миновал, я с пытливым испугом всматривался в лица медицинского персонала, опасаясь, не высказал ли я эту мысль вслух в бреду. Однако постепенно я начал поправляться, сон мой стал спокойнее, и я начал даже ощущать здоровую тяжесть своих плеч и рук, что говорило о восстановлении сил. Постепенно я начал садиться на постели, сначала с помощью сестры, а затем и сам, опираясь спиной о стену и держась руками за никелированные холодные прутья кровати. После этого я и был переведен в общую палату.
Обстановка в общей палате мне первоначально показалась опасной. Мне казалось, что и больные, и медицинский персонал по-особому смотрят на меня, смеются надо мной и пытаются оскорбить. Но так продолжалось недолго, дня четыре, не более. Постепенно я понял, что общество здесь складывается стихийно и демократично и связи между людьми чем-то напоминают психологические построения, в которых я уже участвовал в период моей жизни в общежитии «Жилстроя» и борьбы за койко-место. Я, идя по элементарно проверенному пути, нащупал нерв палаты, сошелся с двумя ее обитателями, которые, пожалуй, верховодили. Один был рабочий парень лет двадцати шести, с больным позвоночником, совершенно прикованный к постели и тем не менее в палате распоряжавшийся. Причем первенство он взял также элементарным способом, а именно третируя и обижая своего соседа, плаксивого религиозного старичка. Третируя старичка и насмехаясь над ним, он тем самым взял власть и над остальными, давая им послабление, что выражалось в том, что он обращался с ними все-таки лучше, чем со старичком. Вторым верховодом в палате был мужчина довольно интеллигентного вида, но мускулистый, похоже – бывший спортсмен. Впрочем, верховодство его состояло в том, что он не обращал внимания на парня с больным позвоночником и тот его, кажется, опасался. Но все это дипломатично, и ни разу меж ними не было столкновения. Я уже упоминал значительно ранее и в нарушение хронологии в моем изложении о религиозном старичке. Старичок этот, едва я явился, сразу же потянулся ко мне. Первоначально я его тоже третировал ради самоутверждения в палате, но позднее я от скуки принялся рассказывать ему кое-какие второстепенные эпизоды из моей жизни и борьбы последнего времени, причем он, как я уже упоминал, сильно плакал, пытался ласково прикоснуться к моему лицу и называл меня «горечь Божья». Я настолько почему-то расположил его к себе, что он поделился даже своими религиозными виршами. Приведу два отрывка, которые ночью, когда все заснули, не то чтобы подействовали на меня, а застряли в мозгу, как застревает иногда назойливая модная песенка, мешая спать. Мне кажется, после этой ночи начался мой окончательный поворот к старому, я начал крепнуть и ожесточаться.
- Вам, племена, языки и народы,
- Ход всех событий Господь предсказал,
- Время назначив и точные годы
- И чрез пророков своих написав…
И второй отрывок:
- Дверь Благовестья повсюду открыта,
- Запечатление спешно идет,
- Род не пройдет сей,
- Как все совершится,
- И наш Спаситель во славе придет.
Напоминаю, в Бога я не верил, и если эти вирши и возымели на меня воздействие, то именно своей нелепостью. «Что такое „запечатление“, – думал я, лежа без сна в больничной духоте, – „ход всех событий Господь предсказал“… Тоска-то какая, одиночество… С кем поделишься своей ненавистью к России… Прежней Маши уже не вернуть, святыня загажена, и теперь только мстить за все, покорить для мести». Напоминаю, это случалось и позднее, но в период «разорванности мышления» я часто путал или соединял в единый женский образ Машу и Россию…
Рассвет я встретил угрюмо, с опухшими веками, нагрубил медсестре и отказался принять лекарство. Но днем меня ждал сюрприз, а именно: меня посетил Бруно Теодорович Фильмус. К тому времени я уже вставал и гулял по палате, и поэтому меня вызвали в небольшую комнатку, где происходили свидания. Я обратил, кстати, внимание, что, кроме меня и Фильмуса, в этой комнатке присутствует еще какой-то молодой человек, явно не из медицинского персонала. Но встреча с Фильмусом первоначально так меня обрадовала и потрясла, что я о постороннем человеке этом как бы забыл в первые минуты. Не могу сказать, что мы с Фильмусом знали друг друга близко, отношения наши лишь начинали завязываться и тут же оборвались. Тем не менее мы обнялись как близкие друг другу люди и даже оба по-мужски всплакнули. Интересно, что сразу же я решил поделиться с Бруно Теодоровичем своей ненавистью к России. Однако поскольку помимо нас присутствовал еще и третий, то я сообразил не произнести это вслух, а написать на бумажке. К счастью, этого не случилось. И бумажки не оказалось под рукой, и отношения наши вскоре резко испортились. То есть мы с Фильмусом, даже и не расспросив толком друг о друге, тут же нудно и ожесточенно заспорили. Спор наш временами, правда, становился интересен, но большей частью скучен, тем более что постепенно в разговоре я начал Фильмуса опасаться и становился скрытен. Для меня подобный растрепанный спор в то время неудивителен, Фильмус же из всех реабилитированных, с которыми мне довелось сталкиваться, производил наиболее здоровое впечатление, вот что странно. Ныне думаю, что прибыл он и вел со мной разговор не совсем по своей инициативе и это его угнетало. Не думаю также, что КГБ хотело меня столь грубо прощупать. Скорей всего, сотрудники Госбезопасности хотели помимо медицинских заключений убедиться в моей возможности установить эмоциональный контакт с окружающими. Как выяснилось, я был важный и необходимый свидетель в ряде предстоящих дознаний. И действительно, недели через две после свидания с Фильмусом меня вновь вызвали, но на этот раз уже в кабинет главного врача, где меня встретил все тот же молодой человек, назвавшийся Олегом. Тут же в кабинете лежал на диване совершенно новый темно-коричневый костюм, рубашка и галстук, запонки, а у стола стояли крепкие чешские полуботинки. Мне предложили переодеться, что я проделал с удовольствием. Предоставили в мое распоряжение, правда, недорогое, но добротное зимнее пальто с каракулевым серым воротником и шапку-ушанку, которая единственная не соответствовала несколько моему размеру. Вышли мы из больницы через заднюю калитку, миновав больничный сад, и у калитки нас ждала черная «Волга».
– Куда сейчас? – спросил я Олега.
– На аэродром, – ответил он, – через два часа в Москве. Кстати, привет вам от Романа Ивановича. (Напоминаю, Роман Иванович – это друг журналиста, бывший партизан, а ныне работник КГБ.)
«Что ж, – подумал я, – в конце концов, все хорошо. Я, кажется, выздоровел и возвращаюсь к жизни. А там – как судьба повернет».
Был конец февраля, капало с крыш, и в воздухе уже чувствовался запах весны. Это было время, которое ранее я всегда встречал с тревогой, ожидая повестки о выселении с койко-места. Нынешняя весна была первой, которую я встречал более прочно и материально устойчиво. В кармане моего пальто лежал бумажник с хоть и небольшой, но все-таки денежной суммой, свежими поступлениями, полученными мной по ведомости от Олега. Мы уселись в «Волгу» со штатским шофером и поехали на аэродром. В Москву мы прилетели ночью, на аэродром Внуково, и там нас ждала точно такая же, как и у больницы, черная «Волга». (В то время это был, пожалуй, любимый цвет и любимая марка учреждения, с которым ныне мне предстояло взаимодействовать.) Ехали мы долго, около трех часов, пересекли Москву, которую я, кстати, успел полюбить, несмотря на краткость моего с ней общения, и потому вглядывался с жадностью и надеждой в несущиеся мимо улицы и думал о том, что сулят они мне в будущем. Итак, мы пересекли Москву и поехали ночным шоссе. Я не задавал никаких вопросов, да и Олег, который в городе, откуда он меня взял, был приветлив, тут замкнулся и выглядел официально. Наконец мы остановились у какого-то глухого каменного забора, и шофер посигналил. Из проходной явился офицер в плащ-палатке. (Шел мокрый весенний снег.) Офицер осветил нас карманным фонарем, и Олег протянул ему бумаги, которые тот, прикрыв от снега полой плащ-палатки, унес с собой в проходную. Вскоре железные ворота сдвинулись и поползли, освобождая нам дорогу. Мы въехали на территорию чего-то вроде загородной дачи. Выйдя из «Волги», я успел заметить несколько разноэтажных особняков. Мы с Олегом пошли по небольшой аллее среди заснеженных сосен к трехэтажному дому в центре. Далее все уже было менее военизировано и более уютно. В приемной нас встретила приветливая женщина, регистрирующая прибывающих. Обстановка здесь была как в приемной тихой, не загруженной наплывом постояльцев гостиницы. Стояли даже необходимые в таких случаях пальмы в кадках. Единственной меткой учреждения, которому эта гостиница принадлежала, был портрет Дзержинского над столом, где происходила регистрация жильцов. Зарегистрировав меня согласно моему паспорту и предъявленной Олегом бумаге, которую она положила в заведенный на меня картонный переплет, эта женщина вынула обычный ключ с гостиничным пластмассовым номерком и сказала:
– Пойдемте.
Мы прошли коридором, с обеих сторон которого были пронумерованные двери, затем поднялись по деревянной лестнице на второй этаж и остановились у сорок седьмого номера. Женщина открыла номер, мы вошли, и она зажгла свет. Номер был уютный, хорошо оборудованный, правда несколько скромно, на уровне конца сороковых годов. Панцирная никелированная кровать, диван, стол с яркой штепсельной лампой, портьеры. Над столом в стену был почему-то вмонтирован обычный дверной кнопочный электрозвонок.
– Располагайтесь, – сказала женщина и вручила мне ключ. – Завтрак у нас с шести утра до десяти утра, столовая на первом этаже. – И она ушла.
– Ну что ж, – сказал Олег, глянув на меня, – отдыхайте… Вот вам талоны, – он вынул из кармана и положил на стол проштампованные разовые талоны, – завтрак, обед и ужин. Впрочем, обедать вам вряд ли здесь придется. Обедать будете в управлении… Хотя, сказать откровенно, кормят здесь лучше, чем в центральном отделении, – и он улыбнулся совсем уж неофициально.
Высказал он мысль бытовую, но я почему-то вообразил, что от нее попахивает вольнодумством и почти что крамолой. Какое-то ощущение у меня осталось от этой мысли, где он высказал критическое замечание в адрес столовой управления КГБ. Какое-то ощущение крамолы. Разумеется, в этом была сильная натяжка с моей стороны, но я тем не менее почувствовал, что с этим парнем можно сблизиться. И действительно, после этой критической мысли своей он обратился ко мне на «ты».
– А какой же у тебя телефон, дай-ка я запишу. – И, вынув записную книжку, он наклонился к стоящему на тумбочке громоздкому черному телефонному аппарату, тоже образца сороковых годов. Видимо, с тех пор, как номера эти были оборудованы, обстановка тут не менялась. – Ну, отдыхай, – сказал Олег и, глянув на часы, добавил по-военному уже: – Личное время у тебя до одиннадцати часов дня, сейчас два ночи, выспись, – и он снова улыбнулся.
Обстоятельства были самые благоприятные, чтоб привести в действие свой изначальный план-минимум, а именно сблизиться лично с этим парнем. Но для этого надо было построить фразу и придумать вопрос, в котором я бы называл его на «ты», причем как можно быстрее, ибо Олег собирался уходить.
– Послушай, – сказал я, – а ты не знаешь, далеко ли отсюда управление и что мне там предстоит делать?
– На месте скажут, – ответил Олег, но не резко одергивая, а дружелюбно и явно приняв это мое «ты» в свой адрес.
Таким образом, первый мой шаг увенчался успехом. Когда Олег ушел, я быстро разделся, погасил свет и лег на мягкое, пружинное койко-место. Белье было свежестираным, добротным, и я с удовольствием отдался радости засыпания в отдельной комнате этого трехэтажного государственного особняка особого назначения. Несмотря на то что заснул я в начале третьего ночи, проснулся я рано, еще и восьми не было, но выспался неплохо, ибо сон мой на удобном койко-месте был глубок и спокоен. Утром я обнаружил, что номер мой снабжен всяческими удобствами, оборудован душем и ванной и обложенным кафелем туалетом. К удобствам имелся вход из небольшого тамбура перед комнатой, отделенного от комнаты не дверью, а портьерами, смыкающимися, как театральный занавес. Никогда еще до того я не жил самостоятельно в подобной бытовой роскоши, и это, разумеется, не могло не поднять еще больше настроение. Я вкусно позавтракал по разовому талону в небольшой уютной столовой на первом этаже. Питание было первосортным, официантка миловидна и предупредительна, а на столе, несмотря на раннюю снежную весну, стояли свежие цветы. Позавтракав, я вышел прогуляться, ибо до одиннадцати времени у меня было вдоволь. Я пошел по аллее, красиво обрамленной с обеих сторон заснеженными соснами. Дышалось глубоко и чисто, сладковато пахло мокрой сосной, и вообще было хорошо на душе, но с легкой грустиночкой, которая всегда присутствует, кстати, у меня при приятном расположении духа. Грустиночка эта и родила мысль о том, что запах мокрой сосны напоминает нечто кладбищенское, ну конечно же, запах соснового гроба. И вот, находясь в таком приятно грустном, размягшем состоянии, я неожиданно был резко остановлен криком, сильно меня испугавшим.
– Стой! – кричал кто-то. – Куда идешь?
Я остановился с колотящимся сердцем. Расслабленный мыслями, я набрел на аллейку, ведущую к проходной, и очутился перед зеленой сторожевой будкой. Солдат в плащ-палатке и с автоматом стоял от меня шагах в десяти.
– Я гуляю… – сказал я наконец, уняв несколько дрожь. (Окрик был так неожидан и в разгар моих мыслей, что я невольно задрожал.)
– Сюда запрещено, – механически сказал мне часовой. Я повернулся и пошел назад к своему особняку. «Значит, я под арестом», – подумалось мне с тревогой. Гулять более не хотелось, я вернулся к себе в номер, лег на койко-место и, кажется, задремал, ибо, очнувшись от телефонного звонка, некоторое время не мог понять, что происходит и где я. Наконец, сообразив, я вскочил и схватил трубку.
– Цвибышев? – спросил меня женский голос.
– Да, – ответил я.
– Спускайтесь, за вами пришла машина.
Внизу у особняка стояла все та же черная «Волга», я узнал ее по номеру, но рядом с шофером сидел не Олег, а какой-то другой молодой парень, не представившийся, а лишь кивнувший мне. Это мне не понравилось. Не понравилось мне также и то, что он перешел от шофера и молча сел на заднее сиденье рядом со мной. Впрочем, надо заметить, что я по-прежнему находился под эмоциональным воздействием окрика часового и потому каждую деталь воспринимал под ракурсом тревоги и опасности, мне грозящей. Мы миновали проходную, при этом сидящий со мной рядом парень передал какой-то жетон офицеру, начальнику караула. Тогда все это было для меня внове и вызывало тревогу, однако уже дня через два я к этому абсолютно привык и воспринимал естественно. Всю дорогу мы молчали, и, пока тянулись загородные пейзажи, я сидел напряженно, но едва мы въехали в город, столь полюбившийся мне в короткий срок, едва замелькали вывески магазинов, троллейбусы, множество людей в пелене мокрого снега, мелькнуло и несколько красивых девушек, едва явилось все это, как я рассеялся и внутренне освободился. И возникло предчувствие, что впереди меня ждут годы удачи, а может быть, даже и счастья.
«Волга» остановилась в узком переулке у глухого забора, чем-то напоминающего забор загородной дачи. (Я бы назвал этот забор внутриведомственного образца.) Здесь также была проходная и стоял часовой, но без автомата, а с пистолетом у пояса поверх шинели. Сопровождавший меня молодой человек показал ему пропуск, и мы въехали внутрь. Внутри был старинный особняк типа ампир или рококо (я дурно разбираюсь в архитектуре), с завитушками, какие бывают на кремовых тортах, и с летящими на фронтоне ангелочками, протягивающими руки к сочным женским грудям каких-то тяжеловесных русалок. Мы вошли внутрь и по широкой мраморной лестнице поднялись на второй этаж. По дороге молодой человек (ему было лет двадцать пять) взял у сержанта, сидевшего сразу перед входом, ключ с пластмассовым номерком, подобно гостиничному, и, открыв этим ключом одну из дверей, он пропустил меня вперед. Не предлагая мне сесть и ничего не говоря (в комнате было несколько мягких кресел и два письменных стола), итак, ничего не говоря, он взял телефонную трубку и набрал номер.
– Докладывает лейтенант Пестриков, – сказал он. – Так…
Положив трубку, он по-прежнему не сказал мне ни слова и не предложил сесть. (Мне почему-то очень захотелось сесть, особенно при виде этих мягких кресел.) Впрочем, он и сам не садился, и так мы стояли молча посреди комнаты минут десять, пока дверь не распахнулась (не входная, через которую прошли мы, а боковая, которую я первоначально не заметил) и в комнату не вошел подполковник с седеющей головой, но с молодыми черными бровями и в очках с толстыми стеклами, которыми пользуются очень близорукие люди. Он поздоровался за руку со мной и с лейтенантом. (Первоначально со мной, а потом уже с лейтенантом, я это отметил.) Правда, я попросту стоял ближе к подполковнику, но то, что он меня не миновал, говорило о том, что положение мое прочней, чем мне казалось после окрика часового на даче и замкнуто-враждебного поведения лейтенанта Пестрикова. Причем, здороваясь за руку, подполковник улыбнулся и мне, и лейтенанту, а, здороваясь со мной, в дополнение ко всему назвал себя по имени-отчеству – Степан Степановичем. В дальнейшем первое мое впечатление подтвердилось. Степан Степанович сам по себе оказался человеком добрым, и улыбка его не была приемом и маскировкой.
– Вы, лейтенант, можете идти, – сказал он Пестрикову, а мне сразу же предложил сесть.
Я с наслаждением опустился в мягкое кожаное кресло. Последовали обычные в таких случаях расспросы о том, как доехал, каково состояние здоровья и т. д. На это ушло полчаса, после чего подполковник предложил мне пройти через боковую дверь в комнатушку, похожую на что-то вроде маленького чертежного зала. Столы здесь были широкие, и на столах этих разложено было несколько папок, а также чистая бумага.
– Прошу вас, Гоша, ознакомиться. (Он назвал меня не по паспортному имени «Гриша», а по тому, как звали меня в обиходе.)
Открыв одну из папок, я понял, что передо мной протоколы заседаний подпольной организации Щусева, в которых я принимал участие. Для начала мне следовало внимательно прочесть их и по возможности дать развернутые характеристики встречающимся в протоколах фамилиям, а также тем или иным обстоятельствам, которые были особо оговорены в прилагаемых к протоколам списках.
Так началась моя работа, и постепенно я привык к ней и втянулся в нее. К двум часам я шел обедать на первый этаж в длинный и светлый зал местной столовой. Вопреки вольнодумному высказыванию Олега, кормили здесь весьма хорошо, не хуже, чем на даче. Правда, здесь приходилось расплачиваться не талонами, а деньгами, но некоторая сумма у меня еще имелась, а вскоре я должен был получить зарплату. (День выплаты здесь был 17-е число, о чем мне сообщил Степан Степанович.) Работы было много. Особенно подробно приходилось останавливаться на операциях, в которых я принимал участие, в избиениях, как говорилось в протоколах щусевской организации, «сталинских бандитов». От меня требовалось сообщить по памяти, кого именно планировал Щусев включить в списки «сталинских бандитов». По-моему, не все из списков находились в руках КГБ, и вообще, судя по неполноте протоколов, часть архива Щусеву удалось уничтожить или утаить. Отсутствовал, например, протокол заседания, посвященный подготовке покушения на В. М. Молотова. Кстати, это покушение Степан Степанович попросил меня описать без анализа, но лишь документально и протокольно. Также и схватку с группой Орлова у памятника Сталину. Степан Степанович попросил меня поначалу сосредоточиться только на внешней канве событий, лишь назвав Орлова и принимавшего участие с нашей стороны троцкиста Горюна, ибо на этих личностях позднее придется остановиться особо и весьма подробно, и вот здесь уж личный анализ с моей стороны будет весьма желателен.
В общем, занят я был чрезвычайно и приходилось засиживаться часов до восьми-девяти вечера. Отвозил меня на дачу все тот же лейтенант Пестриков в штатском пальто с серым каракулем. (Первоначально я не сообразил, но, приглядевшись после двух совместных рейсов, понял, что у Пестрикова пальто было такое же, какое выдано и мне, точно с одного склада.) Пестриков по отношению ко мне держался по-старому, замкнуто-враждебно, но я перестал об этом беспокоиться, ибо ныне имел опору в лице подполковника Степана Степановича. Ужинал я по разовому талону в дачной столовой, затем прогулка по сосновой аллее, душ и сон на пружинистом, мягком койко-месте. После недели такой жизни я пополнел и окреп. Но тут случилось событие, сломавшее столь вкусно наладившееся бытие мое и послужившее началом будущих моих эмоциональных срывов, вернее, помешавшее налаживанию монотонного, устойчивого ритуала, коим всегда является для меня быт, если он приличен и устойчив. Быт, которым я пытаюсь оградить себя от окружающих меня внешних опасностей и прошлых воспоминаний.
Глава вторая
Как-то утром, когда я, по обыкновению, занимался разбором щусевских протоколов и описанием всего, что не вошло в протоколы, но что запомнилось мне, неожиданно вошел Степан Степанович, крайне озабоченный, и сказал:
– Собирайся, Гоша, сейчас поедем по важному делу.
Уж сам вид Степана Степановича внушил мне тревогу, слова же его еще более эту тревогу усилили. Я снял канцелярские нарукавники, которые выдавались мне, дабы предохранить от потертости рукава при постоянной канцелярской работе (моя работа носила именно канцелярский характер), итак, я снял нарукавники и вышел вслед за Степаном Степановичем. Мы оделись внизу, рядом с помещением, где сержант выдавал ключи от комнат. (Я свое пальто с серым каракулем, Степан Степанович – форменную шинель.) Во дворе сели все в ту же черную «Волгу», но на этот раз и шофер, и мой недруг Пестриков были не в штатском, а в форме, причем на шофере была форма войск ГБ с синими сержантскими погонами. Мы выехали из нашего тихого переулка и сразу же очутились на шумных московских улицах, потом снова поехали улицами потише, и тут вдруг мелькнул знакомый переулок с двумя рядами запорошенных снегом деревьев и с зажиточными, старого образца домами. Это был переулок, где жил журналист и где в каких-нибудь двухстах метрах от меня, возможно, сейчас находится Маша. Однако общее волнение от этой внезапной и неизвестно куда направленной поездки было таково, что воспоминание о Маше мелькнуло тоже как явление чисто враждебное мне, даже без намека на любовь и мужскую страсть к ней. Более того, не находись я в столь подавленном состоянии, у меня наверняка явилась бы даже активная враждебность к ней и к ее семье, особенно к честно живущему на отцовские средства Коле, юноше, который вначале полностью оказался под моей властью, однако позднее плюнул мне в лицо. (Я этот плевок проглотил, но не забыл.) Но в тот момент все это хоть и мелькнуло во мне, но не активно, с негодованием, а пассивно, с горечью, ибо волнение за собственную судьбу не оставляло сил для активных действий по отношению к другим.
Между тем «Волга» снова вынырнула из сравнительной тишины буквально в водоворот людей и транспорта. Это было одно из самых шумных и нервных мест Москвы, ко всему еще крайне загруженное растерянными, мечущимися провинциалами, а именно район площади Дзержинского, или, по-старому, Лубянки, поездка куда на внутреннем шутливом жаргоне совпартактива именовалась «поездка под шинель». Посреди площади располагался памятник первому председателю ЧК Дзержинскому в длинной кавалерийской шинели. В смысле исполнения памятник средней руки, в котором тем не менее проступали воспаленные черты грозного инквизитора революции. С одной стороны площади располагался центральный детский магазин страны, который, собственно, и создавал толчею провинциалов, с другой же стороны застыло огромное, на квартал, какой-то чугунной архитектуры здание Госбезопасности. Впрочем, кажется, здание это перешло по наследству от самодержавия и весьма умело приспособлено для борьбы с политическими противниками существующей власти, в чем даже я, человек в таких вопросах неопытный, убедился, едва наша «Волга», преодолев систему проверок и сигнализаций, въехала в античные и мощные ворота и они захлопнулись за нами, оставив нас во внутреннем дворе. Легкомысленный шум торговой Москвы здесь совершенно почти гасился, то же, что долетало, лишь служило дополнением к весьма неприятному ощущению, которое, очевидно, переживает человек, внезапно упавший в глубокий колодец, и солнечные далекие отблески, и легкомысленный шум жизни служат для него, слишком буквально погружающегося в пучину смерти, дополнительным источником безысходности и страданий. Слишком уж резок переход из одного мира в другой, и мне кажется, что при оборудовании этого здания архитектор учел и этот психологический фактор, дабы угодить заказчику.
Позднее мне рассказывал журналист, отец Коли, о том, как был арестован в свое время его знакомый, человек, занимавший в те времена значительное положение и даже журналисту покровительствовавший. Рассказ этот журналист получил из первых уст, от самого пострадавшего, после его реабилитации, хоть, как выразился журналист, страдалец поподличал и потрудился против других немало. Но таковы, мол, уж были те времена, и людей, мол, брали «с двух концов – самого порядочного и самого подлого». Впрочем, на этих рассуждениях, возможно, сказались последующие разногласия между журналистом и страдальцем, которые не могли не наступить между этими двумя личностями в период хрущевской хляби, ибо в полемические времена таких людей столкнуть между собой, как говорится, и бог велел… Тем более что страдалец пострадал и был в героях времени, журналист же каялся и хоть любим был первоначально за свои высказывания незрелыми и соскучившимися по общественному цинизму молодыми людьми, но у людей с опытом он с самого начала вызывал неприязнь, а у пострадавших еще и зависть за не вычеркнутые из жизни годы…
Но вернемся к рассказанному мне журналистом событию. Страдалец этот, тогда, повторяю, человек известный и даже узнаваемый на улице прохожими, как раз направлялся на очередное заседание в некоем авторитетном учреждении, где ему предстояло председательствовать… Была теплая ранняя весна 1947 года, и будущий страдалец этот, тогда же – знаменитость, решил пройтись пешком, не пользуясь персональной машиной, тем более учреждение располагалось неподалеку от его дома. Он вышел в легком весеннем пальто и в мягком французском кепи и неторопливо пошел, щурясь от солнца и ощущая вкус и прочность своей жизни и этого утра где-то пониже ребер, что всегда случается с каждым после нежирного и нетяжелого завтрака, не сопровождающегося ни изжогой, ни отрыжкой и ласкающего желудок. На будущего страдальца оглядывались. Первоначально на его французское кепи, ибо в основном тогда носили в столице твердые фетровые шляпы, а в провинции картузы из грубого сукна, итак, оглядывались на кепи, но многие вслед за кепи узнавали и самую знаменитость, и он часто слышал свою фамилию, произносимую с радостным испугом, как бывает, когда видишь наяву и в живом образе недоступное. Несмотря на то что происходило это с ним уже давно, он никак не мог обрести безразличие к подобному, какое замечал у некоторых других знаменитостей и чему завидовал. И от этого он на себя досадовал, и внимание это было для него одновременно желанно и неприятно. Вернее, неприятно оттого, что желанно. Поэтому, когда его окликнули по фамилии, он остановился, готовясь «отбрить», ибо это уж было сверх предела. Однако мужчина, вышедший из черной «Победы» (тогда на вооружении автопарка органов безопасности были другие марки автомобилей), итак, мужчина этот, весьма солидного и интеллигентного вида, в очках, вежливо и даже почтительно обращаясь к знаменитости, сообщил ему, что они, к сожалению, не застали его дома и поехали за ним вслед в учреждение, но, к счастью, встретили здесь, ибо его срочно вызывают в ЦК к товарищу… И был назван один очень высокопоставленный товарищ с правительственного портрета. Польщенная знаменитость уселась в «Победу», где помимо очкастого интеллигента сидел еще какой-то молодой человек, уже менее интеллигентного вида и встретивший знаменитость более холодно, чуть ли не безразлично, и, будем прямо говорить, даже не поздоровавшийся. Это неприятно укололо знаменитость. При всей неприязни к назойливости окружающих, знаменитость тем не менее страдала даже от пустякового невнимания к себе со стороны пустяковых же, неавторитетных личностей, коим, очевидно, и был этот молодой человек, «какой-нибудь делопроизводитель или вахтер». (Здесь сарказм знаменитости был недалек от истины.) Рассеявшись несколько и глядя в окно на освещенные солнцем весенние улицы, знаменитость опомнилась, лишь когда увидела местность, совершенно непохожую на ту, что окружала ЦК. Вместо сравнительно тихой, крутой улицы с бульваром, ведущим вниз по направлению к площади Ногина, он увидел перед собой шумную улицу, идущую вверх к площади Дзержинского, а именно Охотный Ряд, или по-нынешнему проспект Карла Маркса. Традиционные толпы провинциалов перебегали перед самыми колесами в направлении универмага «Детский мир», какофония автомобильных гудков, еще не отмененная тогда, терзала слух. Знаменитость никогда не любила этот район Москвы, ибо здесь его разглядывали особенно назойливо и по-провинциальному беззастенчиво, если ему случалось сюда попасть. Поэтому, морщась от подобных воспоминаний, он перегнулся к интеллигенту в очках, сидевшему возле шофера (к молодому, скромно одетому человеку, сидевшему рядом, знаменитость посчитала обратиться ниже своего достоинства), итак, перегнувшись, он сказал:
– Что-то мы не туда заехали, товарищ. – В голосе его прозвучал не только и не столько вопрос, сколько указание.
– Ничего, ничего, – сказал интеллигент в очках, – там перекрыто, мы в объезд.
Между тем «Победа» уже пересекла площадь и, обогнув здание ГБ, подъезжала к античным воротам. И знаменитость впервые за все это солнечное весеннее утро испытала беспокойство, причем (странно же устроен человек) не от явного вида уже маячивших перед глазами ворот Госбезопасности, а от какого-то едва уловимого поворота молодого человека, во время которого тот остро нажал коленкой ногу знаменитости. Это острое нажатие так выбило из колеи знаменитость, что он опомнился, лишь когда автомобиль въехал внутрь двора и задвинувшиеся ворота приглушили все живые звуки.
– Выходите, – сказал ему интеллигент в очках.
– В чем дело? – еще в капризном тоне баловня властей начала знаменитость, не позволяя себе поверить в то, что уже поняла, и стараясь не допустить дальнейшего и конечного понимания того, что с ней и ее жизнью происходило.
– Выходите, – снова повторил очкастый.
Мелькнула детская нелепая мысль не выходить из машины любым способом и укрыться в ней от глухого двора, выяснить отношения и недоразумения (он еще надеялся) именно в машине, а не во дворе, где он почувствует себя не в своей тарелке, потеряет уверенность и вызовет подозрения. (Он еще верил в некие подозрения.)
– Что, наконец, происходит? – не выходя из машины, сказала знаменитость. – Я спешу, у меня ответственное заседание…
– Выходите, – в третий раз повторил очкастый.
Неизвестно, почему его не вытащили из машины сразу. Возможно, инструкции на его счет были получены этими конкретными работниками неопределенные: просто доставить. Поэтому пожилой человек интеллигентного вида обошел машину и открыл дверцу, а молодой, сидевший рядом со знаменитостью, подвинулся вплотную, еще сильнее прижав коленкой ногу. «Придется выйти, – подумала знаменитость, дав ход своему несколько подзаплывшему жиром, но некогда изощренному мозгу, вынесшему его, провинциального рабкора, на поверхность жизни, – не хватает еще, чтобы они прикасались ко мне… Главное – понять ситуацию…» Он вышел. Пройдя несколько шагов, он вдруг понял, что идет как бы под конвоем, ибо очкастый шел впереди, а молодой следовал знаменитости в затылок. И знаменитость поняла, что надо немедленно ликвидировать подобное положение, она ускорила шаг и пошла рядом с интеллигентом. Тот покосился, но ничего не сказал.
– В чем дело? – идя рядом, говорила знаменитость. – Если произошло недоразумение, то прошу связаться в ЦК с товарищем… – и он назвал фамилию, стоящую при перечислении всего на четвертом месте от Сталина.
– Сейчас, сейчас, – поспешно сказал интеллигент, направляясь к одному из подъездов, куда, невольно беседуя на ходу, направлялась и знаменитость.
У подъезда на пороге стоял грузный человек. Несмотря на прохладу ранней весны, причем в замкнутом дворе, куда не заглядывало солнце, он был в легком пиджаке, одетом на вышитую рубаху, и под рубахой этой ощущалась широкая матросская грудь, тем более стоял он косолапо, и на правой руке его была видна старая, выцветшая татуировка якорька. Чутьем опытного функционера знаменитость ощутила ответственного за данную, сложившуюся вокруг себя ситуацию, разумеется оперативно ответственного, лишь за конкретный сегодняшний момент, но не более того. Поэтому знаменитость обратилась к нему с вопросом, в котором одновременно ощущался и напор, и жалоба на действия подчиненных.
– В чем дело? Всякое недоразумение возможно, но, в конце-то концов, у меня мало времени… Либо позвоните в ЦК по телефону (и он по памяти назвал телефон), либо я прошу доложить (и он назвал по имени-отчеству министра государственной безопасности).
Но тут случилось неожиданное. (Разумеется, для знаменитости, но не для лиц, его сопровождавших.) Стоящий на пороге человек в вышитой рубахе умело и по-уличному ударил знаменитость по лицу. (Очевидно, в отличие от людей, доставивших его, этот работник имел более определенные инструкции.)
– Что такое?! – опомнившись от звона в ушах, по инерции крикнула знаменитость. – Вы ответите…
Человек в вышитой рубахе ударил второй раз, на этот раз слева, тем не менее сильней. (Возможно, он был левша.) Брызнула кровь из губ и носа. И тут же человек в вышитой рубахе ударил в третий раз, опять справа, хоть этого и не требовалось, ибо знаменитости более не существовало. Совершенно другой человек стоял во дворе, окруженный конвоем, человек, сразу же научившийся повиноваться и не задавать вопросов. Третьим ударом с головы бывшей знаменитости было сбито французское кепи, и, не поднимая его, она вошла в подъезд вслед за избившим ее человеком и в сопровождении двух доставивших ее, вошла, чтоб исчезнуть с общественного горизонта на семь лет, из коих лишь два первых были особенно трудными: с распухшими ногами и приступами не привыкшего к грубой пище желудка. К тому ж в лагере с ней произошла трагичная, хоть и нередкая для звериного быта режимных лагерей, история, а именно: будучи интересным внешне мужчиной с мягкими чертами лица, она пала жертвой группы насильников, ущемленных в своих мужских желаниях. Но самое трагичное в этой истории все-таки то, что она испытала первый шок лишь после первого раза, когда была схвачена грубо в пустом бараке. Не сообщив, разумеется, о случившемся начальству из страха за свою жизнь, она последующие разы воспринимала уже терпимо и чуть ли не приспособившись к своему положению…
Впрочем, повторяю, журналист слишком уж в дурных был с ней отношениях в последнее время, а люди этой среды в общественной борьбе часто прибегают друг против друга к средствам, острота которых покажется невозможной для тех, кто не знает их поближе. Но если вернуться к лагерной жизни знаменитости, то длилась она не более двух лет, это уже не домысел, а факт. В дальнейшем произошло вмешательство некой личности, весьма высокой, судя по результату, и пребывающей инкогнито, поскольку бывшая знаменитость, а позднее страдалец был выпущен из концлагеря, но направлен на вольное поселение, где работал пять лет фотографом в тепле и сравнительной сытости. Такова одна из многочисленных историй, разыгравшихся в этом дворе и о которой я узнал позднее.
Тем не менее когда я сам, в полном неведении о творившихся здесь ужасах, очутился за внутренней стороной античных ворот, то невольная дрожь пробежала по моему телу и я постарался держаться подальше от моего недруга, лейтенанта Пестрикова, и поближе к подполковнику Степану Степановичу, который, кстати, мне ободряюще улыбнулся. Мы вошли в один из подъездов, где у нас вторично проверили документы. (У меня уже была временная книжечка из картона голубого цвета.)
– Нам сюда, – сказал Степан Степанович, слегка придержав меня за руку и указав в конец коридора.
Подойдя к одной из дверей, он постучал и, услышав голос, приглашавший войти, открыл дверь, пропуская меня вперед. В комнате за письменным столом сидел длинноносый полковник-блондин. В длинноносых блондинах вообще есть нечто опасное, я таких людей встречал в жизни раза два, и всегда это были люди, мне не желавшие добра. Помню, в школе, в пятом классе, был мальчик по фамилии Петрук. Петрук Федя. Так, едва увидев меня (он был из новеньких, из военных детей, кочевавших вслед за отцами из гарнизона в гарнизон), едва увидев, он начал сколачивать против меня в классе партию, и ему удалось восстановить против меня даже прежних моих друзей. Этот Петрук был именно блондин с длинным носом… Отвлекшись невольно в мыслях, я не расслышал того, что сказал полковник, и поэтому ему пришлось повторить громче (только поэтому), но окрик его тем не менее меня напугал. Он предложил мне сесть, я уселся и тут же заметил, что подполковник Степан Степанович вышел из кабинета. Вышел осторожно и незаметно, очевидно в тот момент, когда я отвлекся в мыслях относительно внешности допрашивавшего меня полковника. А в том, что будет не беседа, а допрос, я убедился весьма скоро. В углу кабинета сидел человек в штатском, которого я не заметил первоначально, и вел протокол. Впрочем, вопросы были менее трудными, чем я предполагал, судя по обстановке и внешности допрашивающего, да и задавал он их скорей строго, чем зло. Дело касалось опять Щусева, моего с ним знакомства, моего участия в подпольной антисоветской организации. (Так было сформулировано.) Я отвечал в подробностях, так что протоколирующий в штатском даже несколько раз останавливал меня, ибо не успевал записывать. И вдруг, неожиданно, полковник задал мне вопрос: был ли меж нами разговор о желании сформировать правительство и возглавить Россию после свержения советской власти? Я растерялся. Мне бы ответить, что это ребячество и глупость. (Так ныне я и в действительности воспринимал мою идею.) Но от растерянности я сказал, что подобного разговора не было. Не стану вдаваться в детали, скажу лишь, что пережил несколько тяжелых минут, совершенно запутался и замолк безнадежно, глядя на одну из ножек письменного стола. Но тут полковник вновь изменил стиль допроса и, как бы задавая наводящие вопросы проваливающемуся студенту, начал меня расспрашивать о взаимоотношениях Щусева с журналистом. Тем самым он как бы опускал опасную проблему. Я воспрянул духом и опять начал излагать в подробностях. Полковник слушал меня внимательно, не перебивая, а когда я кончил, спросил:
– Что вам известно о заграничных связях Щусева?
Я ответил, что ничего не известно.
– Ну хорошо, – сказал полковник, – пойдемте.
Он встал, и мы вместе вышли в коридор, где на диванчике неподалеку нас ждал Степан Степанович. Они обменялись друг с другом негромкими фразами, смысл которых я так и не понял. После чего они оба улыбнулись. Мне улыбка их внушила надежду, и я окончательно успокоился. Очевидно, диалог между ними на профессиональном языке носил не деловой, а шутливый характер. К тому же, когда длинноносый блондин вернулся, в лице его обнаружился ряд моментов, ставящих под сомнение окончательность и точность данной ему мной эмоциональной характеристики.
Мы сели в лифт и, несмотря на то что находились на первом этаже, поехали вниз, проехав достаточно далеко (вернее, глубоко) и выйдя под каменистые, гулкие своды подвала. Состояние мое опять стало напряженное и тревожное, и я подумал, что окончательно изнемог бы, если бы несколько минут эмоционально не передохнул, пока в коридоре полковник и Степан Степанович шутили и улыбались. Подвал этот был расположенной в самом центре Москвы тюрьмой, это я понял после того, как, миновав часовых, мы вошли в небольшую камеру, в которой почему-то остро пахло больницей и лекарствами. Это было нечто вроде тюремного больничного изолятора, и на койке кто-то лежал, укрытый до подбородка одеялом. При виде незнакомого тяжелобольного у меня невольно возникает чувство отвращения прежде, чем жалости. Существо, лежавшее на койке, было полумертво, это стало мне ясно сразу и без всяких медицинских знаний. Я даже сперва подумал, что это вообще труп, но оно пошевелило восковой высохшей рукой, и я понял, что в нем еще теплится жизнь, но жизнь уже нечистая, разлагающаяся, с дурным запахом. Каково же было мне, когда это существо вдруг подняло голову и улыбнулось. Улыбка прекрасна только на живом лице. Лицу же трупа она придает некий циничный характер.
– Гоша, – сказал труп (а иначе и не назовешь, он был брит, и кожа его была какого-то голубоватого оттенка), – Гоша, я рад тебе…
Это был Щусев, я узнал его, лишь только он заговорил, причем добро и искренне, точно никогда не пытался задушить меня в тюремной камере как доносителя.
– Гоша, – говорил Щусев, опираясь на локоть и, видно, затрачивая серьезные усилия при этом, – Гоша, завидую я тебе… Иногда мне тоже хочется петь, танцевать, жизнь кажется прекрасной… Каждому человеку хочется сделать что-нибудь хорошее (он явно был не в себе, хоть и узнал меня), временами же все в мрачном свете, – продолжал он, – нет сил двигаться и думать… Гоша, коммунисты и евреи насилуют нашу мать-Россию, – здесь он закашлялся, локоть его подвернулся, и он упал на серую тюремную подушку.
Человек в медицинском халате быстро подошел к Щусеву и, вытащив его руку (обтянутую кожей кость), сделал укол. Степан Степанович и полковник все это время стояли молча и лишь цепко наблюдали. Потом полковник кивнул сержанту, и в камеру ввели нового арестанта в наручниках. Этого я узнал сразу, несмотря на сильно изменившиеся черты лица и тюремную худобу. Это был Орлов. Он огляделся, скользнул по мне взглядом, но главное внимание свое сосредоточил на Щусеве, уже пришедшем в себя.
– Что, – сказал Орлов насмешливо, – что, стукач, не помогла тебе твоя жидовская лавочка?.. Она же тебя и гробит…
– Сталинский холуй! – крикнул ему Щусев.
– Русский народ с нами! – крикнул Орлов. – А ты, сволочь, подохнешь сегодня или завтра!.. Вместе с твоим жидовским КГБ…
И тут добрейший Степан Степанович размахнулся и сильно ударил Орлова в нос. (Между прочим, при мне Орлова били уже второй раз.) Когда удар приходится не в челюсть или висок, а в нос, то человек сознания не теряет, но испытывает сильную боль. Вот почему удар в нос весьма часто применялся при недозволенных приемах следствия, и, очевидно, выведенный из равновесия словами и наглостями Орлова, Степан Степанович не стерпел и этот прием применил. Орлов застонал от боли и пошатнулся, а затем вновь выкрикнул, плюясь кровью (зубы у него выбиты не были, но кровь потоком хлынула из ноздрей и залила губы, попадая в рот, вот почему создалось впечатление, что зубы выбиты), итак, плюясь кровью, он крикнул:
– Чекист Дзержинский – польский жид, это нами установлено!.. Вот оно, ваше семя!.. Ох и будем мы вас жечь и вешать, хоть и через сто лет!..
– Уведите его, – сказал полковник.
Сержант дернул Орлова за наручники и выволок его из камеры. Щусев же лежал, запрокинув голову, и трупный облик окончательно проступил на нем, заслонив те крупицы живого, что еще теплились минуту-другую назад. Тем не менее он был жив, ибо дышал, правда порывисто и с присвистом.
Я так и не понял, зачем меня сюда приводили и зачем сюда привели Орлова. Очевидно, что-то было задумано, но не исполнилось. Более того, судя по угрюмому виду Степана Степановича, задум этот был как раз его и, возможно, полковник с самого начала ставил этот задум под сомнение, а Степан Степанович настаивал. Во всяком случае я так предполагаю, ибо полковник после случившегося выглядел намного спокойнее Степана Степановича. Степан Степанович же имел вид до того раздосадованный, что самообладание на мгновение вторично покинуло его (первый раз, когда он ударил Орлова), самообладание покинуло его, и он пробормотал, когда мы вошли в лифт:
– Иголки бы им под ногти…
Я был до того подавлен случившимся и до того не в состоянии его осмыслить, что чувствовал себя не то что спокойно, но как-то застыло. (Трясти меня начало к вечеру, когда я вернулся к себе на дачу и остался наедине в своем номере.) Тогда же меня занимали чисто физические действия. Поднявшись из подземелья и выйдя в коридор, я задышал часто и торопливо, как человек после удушья, и в таком состоянии пребывал и этому уделял главным образом внимание до того момента, пока в черной «Волге» мы не выехали за античные ворота и не оказались на московских, ярких от солнца улицах. Лишь там дыхание мое успокоилось, приобрело нормальный ритм, я стал вдруг многоречив и разговорился со Степаном Степановичем о пустяках, о сортах пива, что ли. (Я пива не пью, но заметил, что его любит Степан Степанович.) Степан Степанович отвечал неохотно, и вообще, как человек опытный и твердого характера, он уже преодолел минутный срыв и был спокоен. Мы так проговорили с ним всю дорогу, и лишь раз, когда я заметил на себе насмешливый взгляд моего недруга лейтенанта Пестрикова, смешался, но затем тут же продолжил разговор, стараясь сидеть к Пестрикову чуть ли не спиной. Так прошел этот роковой день, на первый взгляд спокойней, чем могло бы соответствовать страшным и совершенно мне непонятным событиям и столь сложной, неудавшейся очной ставке. К вечеру, как я говорил уже, меня затрясло и трясло всю ночь.
Глава третья
После этого в бытовом смысле жизнь опять пошла прежняя, в эмоциональном же я не мог опомниться и изменился даже физически, то есть у меня явились навязчивые подергивания, мигания и так далее. Сон мой опять стал плох, и возникло то, что называется «умственная жвачка». Все это было мучительно, и все это не оставляло меня в покое и мешало мне сосредоточиться даже во время работы. А работа, как я уже говорил, шла своим чередом. Каждое утро за мной являлась «Волга» и в сопровождении лейтенанта Пестрикова я ехал изучать протоколы и давать по их поводу письменные показания. Но теперь это я уж делал не так искренне, опуская ряд деталей и стараясь выделить другие детали, выгодные мне. В частности, в протоколах был смертный приговор, вынесенный организацией Щусева «сталинскому бандиту Орлову», и при этом в качестве вещественного доказательства фигурировал рассказ «Русские слезы горьки для врага» за подписью Иван Хлеб. Тут я главным образом сосредоточился на своей роли в разоблачении псевдонима и уделил этому столько внимания, что Степан Степанович (он обычно к концу рабочего дня знакомился с работой) сделал мне замечание, ибо его интересовали главным образом детали взаимоотношений Щусева с Орловым, псевдоним же Орлова давно известен был следствию. Помимо протоколов Щусева, пришлось мне заниматься и другой работой. Так, например, мне пришлось заниматься прокламациями Русского национального общества имени Троицкого, а также стенограммой выступления председателя этого общества Иванова под названием «Мифологические основы антисемитизма» и стенограммой выступления на том же студенческом диспуте журналиста. (После которого, как известно, он получил очередную пощечину.)
Вкусный обед в столовой при нашем отделе, а также завтрак и ужин, которые я получал на даче по разовым талончикам, ныне съедались мной без аппетита. Я постоянно ощущал пониженное, тоскливое настроение. Особенно запомнилась мне в этом смысле одна ночь, вернее, ранние утренние часы.
Я сидел у окна, пододвинув к нему кресло, и смотрел в сад, окружавший дачи Госбезопасности. Солнца еще и в намеке не было, но воздух уже не был ночным, в нем ясно проглядывались предметы: штабеля кирпича (на территории что-то строили), а далее деревья ровными рядами. Снег уже сошел повсеместно, но земля еще была мокрой и блестела. И так мне скучно стало глядеть на все это, что захотелось умереть. Напоминаю, что мысли о самоубийстве являлись и ранее, но так приятны они мне никогда не были и никогда так не облегчали мне душу. И причем явились они сейчас не от каких-либо глубоких роковых выводов или тоски, наоборот, мне показалось, что за ночь мне и тосковать-то надоело и стало скучно от своих назойливых самообвинений. Явилась мысль о смерти от мелкого и нелепого чувства, просто подумалось, что ничего интересного в разглядывании окружающих предметов нет. Это был единственный момент в моей жизни, когда я не боялся и желал смерти. (Вообще-то я ее боюсь и даже в прошлые разы, желая, боялся.) Правда, в таком состоянии, когда не боишься смерти, трудно убить самого себя, а желательно, чтоб кто-то сделал это со стороны, ибо едва начнешь что-то предпринимать, как состояние легкости улетучится и явится исступленное, истерическое чувство самоубийцы. Поэтому я сидел тихо, стараясь не двигаться, даже и позы не менять, несмотря на то что левая нога моя затекла и было также весьма большое желание подпереть руками, лежавшими на подлокотниках кресла, уставшую от долгого вертикального положения голову. И постепенно вид за окном начал меняться, зарозовели верхушки деревьев. (К счастью для меня, утро хоть и было облачным, но солнце всходило в чистой от облаков части неба.) И первым голосом, который я услышал в то утро, был звонкий, молодой, девичий. (Наверно, кто-то из обслуживающего персонала.) И вдруг при звуках этого голоса у меня возникло жгучее желание близости с женщиной. Напоминаю, я в этом смысле долгое время был ущемлен, и, за исключением первого момента моего пробуждения в больничном изоляторе, когда я целовал в исступлении руки медсестры, пришедшей ко мне ставить градусник, за исключением этого момента, желания меня не посещали. Теперь же они словно ожгли меня, тело мое ныло, и, когда я торопливо одевался, руки мои дрожали от нетерпения. Выйдя в сад, я глубоко вдохнул утренний воздух и пошел наугад к тому месту, где, по моему предположению, я слышал девушку… Я долго бродил среди деревьев, меся ногами грязную, липкую землю и изредка отдыхая, прислонившись к мокрым стволам деревьев. Утро уже полно было звуков, за забором, где проходило шоссе, слышен был шум автомобилей. Было уже время завтрака. Я вернулся к себе в номер, затем опять спустился вниз и использовал на завтрак сразу два разовых талона. (Напоминаю, я обедал в управлении, и потому лишние талончики у меня были.) Это было возрождение. (Как мне казалось.) В действительности же мой организм чрезвычайно изнемог и искал передышки. Но, во всяком случае, никогда за последнее время я не смотрел с такой жадностью сквозь стекла «Волги» на девушек, когда мы проезжали улицами Москвы, и давно я уж так не хотел счастья. (Это было чисто физиологическое весеннее желание.)
Работа в тот день предстояла долгая и серьезная – так предупредил меня Степан Степанович. (Он явно был мной недоволен последнее время.) Мне предстояло работать над папкой с делом Рамиро Маркадера, убийцы Троцкого, которое вел Олесь Горюн и с которым мне в свое время пришлось ознакомиться. Опять же от меня требовалось описать подробности этого ознакомления и вспомнить мои разговоры с Горюном. Работа была важной, и, как предупредил меня Степан Степанович, заказчиком был иностранный отдел Госбезопасности. Тем более что, по моим пусть не прямым, но косвенным данным, Горюна в живых не было. (Иначе, без сомнения, нам бы устроили очную ставку.)
Утомленный, я вернулся к себе в номер во втором часу ночи, и вместе с ключом от номера дежурная передала мне конверт.
Это меня крайне удивило. Писем я не получал давно. Родственники мои меня из виду потеряли, и тем более как могли они определить мое местонахождение? У меня не хватило терпения подняться к себе в номер, и, остановившись на лестничной площадке перед этажами, я прислонился к подоконнику и надорвал конверт. Небольшое письмецо, скорее записка, выпало оттуда. И запах дорогих женских духов подействовал на меня как залпом выпитый натощак стакан водки. На четвертинке писчей бумаги было всего несколько строчек, и я сразу определил Машин почерк, но смысл от волнения долго не понимал, словно они были написаны на иностранном языке. Так, не понимая смысла написанного, поднялся я к себе и, лишь открыв дверь номера и усевшись в мое любимое кожаное кресло (я быстро обживаюсь на новом месте, и у меня сразу же при этом появляется привязанность к предметам), так вот, лишь усевшись в это любимое мое кресло, я сумел разобрать за разлапистыми, по-женски округлыми Машиными строками их смысл: «Приходите, пожалуйста, в воскресенье часам к двенадцати утра» – и под этим стояла ее такая же разлапистая подпись. Разумеется, о сне в ту ночь не могло быть и речи. Часов до четырех я просидел в кресле, анализируя записку, а затем забылся от усталости на койко-месте, полураздевшись, но и тогда часто просыпаясь и продолжая анализ. Единственным простым пунктом здесь был вопрос: откуда она узнала мое местопребывание? Разумеется, через Романа Ивановича, друга семьи, бывшего партизана и работника Госбезопасности. Но далее возникал целый ряд неясностей. Чья это была инициатива – ее собственная или Риты Михайловны? Рита Михайловна, безусловно, держала в руках эту записку, ибо Маша никогда бы ее не надушила, считая это мещанством и глупостью. С другой стороны, тон записки был сух и даже без обращения ко мне по имени. Значит, Маша писала ее нехотя и под давлением некоторых обстоятельств. (Ибо она давно уж была независима от родителей и обычные уговоры, не подкрепленные какими-то обстоятельствами, на нее не действовали.) Так что же родителям Маши (вернее, Рите Михайловне, ибо журналист в такие дела не вмешивался), так что же Рите Михайловне надо и почему Маша уступила? И еще один важный пункт – Коля… Встреча в камере заключения при местной милиции, когда Колин крик спас меня от удушения бандой Щусева… И то, что случилось с Машей, – я задыхался, сидя на койке. Я был к утру окончательно обессилен и лежал на койке совсем слабый, как после тяжелой болезни. Таким образом, только-только начавшийся счастливый этап возрождения после того, как на рассвете я был возбужден женским звонким голосом, звучавшим в саду, таким образом, этап этот был смят сразу же в зародыше полученным мною от Маши письмом.
Весь остаток недели работал я дурно, и Степан Степанович даже вызвал меня к себе для разговора. Но поскольку был он человек по натуре не злой, то вскоре понял мое состояние. Я поделился с ним весьма осторожно, но он, пожалуй, знал обо мне больше, чем я ему сообщал, и, пожалуй, многое о связях моих с семьей журналиста. Тем более что темп работ над протоколами Щусева изменился и они чуть ли не были заморожены. Как стало мне также известно, процесс, который предполагалось провести и на котором я должен был выступить свидетелем, был отменен вмешательством некой важной инстанции, и предложено было все сделать без излишнего шума. К тому времени Щусев умер. По делу же Орлова встал вопрос о передаче его в прокуратуру, из нашего ведомства оно было изъято. Вот почему Степан Степанович, обратив внимание на мой болезненный вид, предложил мне двухдневный отпуск, что с воскресеньем составляло целых три дня. Таким образом, я мог отдышаться, опомниться и подготовить себя физически и душевно к встрече с Машей.
Отлично помню тот воскресный полдень. Я решил несколько запоздать, дабы не выказать свое лакейство. Первоначально я планировал опоздать на час, но ошибочно избрал место, где должен был переждать этот «час престижа», неподалеку от Машиного дома, в старом зажиточном московском переулке. Поэтому с самого начала, едва расположившись в скверике неподалеку от Машиного подъезда, я сбавил «время престижа» до получаса. В действительности же переждал я десять минут. Тем не менее в полдень, на который указывала Маша в записке, я еще не был в доме журналиста, а находился на улице.
Бывает такой весенний период даже и в большом городе, когда все молодо и налито истомой, особенно под полуденным солнцем, все как бы очистилось, обнажилось и жаждет оплодотворения. Даже и городская земля, городской кустарник и городские деревья, то есть нечто давно подчиненное прихотям человека и носящее как бы декоративный характер (даже и городская земля, подчеркиваю), так вот, в весенние моменты в них пробуждается нечто древнее, независимое от человека. Но период этот крайне невелик: с момента, когда после таяния снега все подсыхает, и до того, как начинается цветение. Ибо городское цветение носит уже декоративный характер. Лишь тот короткий промежуток, когда все еще голо, но уже пригрето солнцем, полон живого томления, откровенного, а не скрытого моралью (человек протащил мораль всюду, даже в природу), и откровенного, не скрытого греха. Каково же было мне, натуре возбудимой и лишенной ласки, находиться в весеннем, пробуждающемся скверике среди птичьего крика, еще более усиливающего жажду весеннего греха, и причем в каких-нибудь десяти шагах от Маши. Есть в Третьяковской галерее небольшая картина художника Саврасова «Грачи прилетели», которая считается, во всяком случае бытует такое мнение, чуть ли не родоначальницей российских передвижников. Так мне кажется, что главная ее сила в том, что за голыми ветвями деревьев, на ней изображенных, ощущается аморальная молодая сладость весеннего греха. То есть на ней отлично пойман тот самый обнаженный период весны, весьма короткий и теряющийся с началом цветения. Разумеется, мысли мои в тот роковой весенний полдень не были столь конкретны, но тем более ощущал я жажду и силу нахлынувших на меня чувств. Я даже вздумал отменить визит, ибо вдруг вообразил, что могу не удержаться и начать публично целовать Машу, едва войду и увижу ее.
– Ах ты боже мой, – сказал я сам себе вслух (к счастью, скверик был пуст), – ах ты боже мой, надо торопиться, дабы развеять мечты.
Реальность и анализ всегда спасали меня, воображение же губило и часто носило элементы почти что преступные. И, призвав этот спасительный анализ на помощь, я понял, что если не пойду немедленно к журналисту, а буду накапливать чувства перед предстоящим визитом, особенно сейчас, в весеннем сквере, то действительно наделаю непоправимых глупостей. Надо было решиться: либо в подъезд, либо – прочь отсюда… Я пересек скверик и вошел в подъезд…
Лишь десять минут перевалило за полдень. Богатый лифт с зеркалом внутри кабины мягко поплыл и остановился перед лестничной площадкой журналиста. Я вспомнил, как впервые явился сюда с ныне мертвым Щусевым, но тут же торопливо отбросил эту мысль, к счастью быстро и легко от нее отделавшись. При моей нервной организации такая мысль могла быть весьма прилипчива, но ныне, очевидно, я был всецело поглощен встречей с Машей, и если возникало нечто побочное, то тут же гасло. Остановившись перед обитыми дверьми, я несколько раз глубоко вдохнул, прочищая легкие и горло, чтоб на вопрос «Кто там?» ответить без дрожи в голосе. Но отворили мне, после того как я позвонил, без вопроса. Во-первых, ждали меня, а во-вторых, рассмотрели меня в дверной глазок. Причем открыла мне не Клава-домработница, а сама Рита Михайловна. Первые минуты взаимоотношений с Ритой Михайловной провел я неожиданно хорошо и ясно, совершенно без суеты. Наоборот, она суетилась, я же отвечал даже излишне сухо. Явилась и Клава-домработница, помогая стаскивать мне синий прорезиненный, китайского типа плащ. Таким образом, эти две женщины учинили вокруг меня в передней такую суету, что я даже испугался, не явится ли сюда также и Маша и застанет меня в таком нелепом положении. Но Маша не явилась. Не явился также и Коля, второй человек, которого я ныне опасался в этом доме, может, даже еще более, чем Машу. (Самого журналиста я в расчет не брал, даже если бы он и явился.) Однако более никто не явился, и у меня возникла тревожная мысль, что вообще, кроме этих двух женщин, в квартире никого. Мы прошли в столовую по сверкающему шоколадному паркету. (За паркетом здесь по-прежнему следили.) И я сразу же увидел Машу. Маша сидела у стола сильно подурневшая, в широком, еще более портящем ее халате. Перед Машей стояла хрустальная дорогая вазочка с вишневым вареньем (она любила вишневое варенье, я узнал это ее пристрастие позднее), итак, стояла вазочка с вареньем и блюдечко с остатками варенья. (Видно, она накладывала из вазочки в блюдечко, а затем уже ела.)
– Вот, Гоша пришел, – сказала Рита Михайловна Маше как-то заискивающе, как говорят с дорогим для тебя, но больным человеком, от которого находишься в зависимости вследствие его болезни, во всем стараешься ему угодить, – я ж тебе говорила, что Гоша свой человек и обид не помнит.
Это уже была глупость, очевидно вызванная чрезмерным волнением Риты Михайловны. Я сразу же заметил, что она волнуется о том, как пройдет моя встреча с Машей, а значит, придает этой встрече серьезное значение. У меня же было состояние двойственное. Едва я заметил, что Маша сильно подурнела, как волнение мое исчезло. (Напоминаю, влюбляюсь я только в очень красивых женщин, что также является следствием моей ущемленности и чрезмерных мечтаний.) Но с другой стороны, я заметил по выражению Машиных глаз, что я ей тоже неинтересен (вернее, по-прежнему неинтересен), и это распаляло мое самолюбие.
– Садитесь, – сказала мне Маша. (Даже и голос ее изменился, стал более мужским, что ли, и не волновал меня, и это-то после полного истомы ожидания у Машиного подъезда.)
Я сел с противоположного конца, так что нас разделяла длина стола. Рита Михайловна уселась посредине между нами и, бросив взгляд на Машу (крайне тревожный), сказала:
– Терпеть не могу Москву ранней весной. Обычно мы всей семьей выезжаем на юг или на дачу, но вот Машина болезнь…
– Оставь, мама, – грубо перебила ее Маша. – Во-первых, я не больна, а беременна, и всякий элементарно грамотный в этом смысле мужчина легко подобное может понять.
Я не понял и осознал, что Маша беременна, лишь когда она это сказала. Впрочем, Маша, очевидно, сообразила, что я не понял, и в ее высказывании об элементарно грамотном мужчине была не только грубость по отношению к матери, но и язвительный укол в мой адрес. Вообще в Маше совершенно уже оформилась циничная озлобленность на жизнь, личность ее в короткий срок перестроилась окончательно. Очень может быть, что отныне она весьма цинично и просто смотрит на половые отношения с мужчиной и насмехается над святостью любви.
Нечто похожее на ревность шевельнулось во мне, тем более что от слов своих, произнесенных с нездоровым волнением, Маша раскраснелась и разом похорошела, да и увядание ее, пожалуй, весьма относительно, временно и было преувеличено мной в первое мгновение.
– Затягивать наше деловое свидание не будем, – между тем продолжала Маша, – вам делается деловое предложение жениться на мне… Чтоб замять грех…
– Маша! – вскрикнула Рита Михайловна.
– Замолчи, – негромко произнесла, но остро глянула на мать Маша, так что та сразу осеклась. – Итак, – продолжала Маша, повернувшись ко мне, – я согласилась не сразу, но, поразмыслив, все-таки согласилась… Отец ребенка неизвестен даже и мне… Изнасиловали меня трое… Но среди них был голубоглазый и самый пожилой… Мужичок… Может, это и от него…
– Маша, – чуть ли не прошептала Рита Михайловна, – за что ты издеваешься надо мной?..
Явилась Клава. (Она все время заглядывала в дверной проем.) Клава подняла Риту Михайловну, и та, опираясь на ее плечо, пошла, волоча ноги, из комнаты.
– Я б таких детей на улицу повыгоняла, – сказала Клава, не глядя на Машу, но громко.
– Ах, оставь, – прошептала Рита Михайловна.
Они скрылись, и слышно было, как в соседней комнате Клава помогает хозяйке лечь на тахту. Мы с Машей остались вдвоем сидеть за столом.
– Подумайте, – сказала Маша, переждав минуту-другую, – я вас не люблю, но буду к вам относиться плохо только в том случае, если вы захотите сблизиться со мной. Если же вы поймете свое положение, я буду по отношению к вам нейтральна, а временами даже и приветлива. Квартира у нас большая, имеется дача, да и отец мой по-прежнему человек весьма состоятельный, так что все условия у нас есть для того, чтоб друг другу не мешать… Вы же юноша бездомный и, насколько я понимаю, сирота. Так что, если наплевать на эмоции и призвать на помощь разум, вам стоит рискнуть. (Здесь меня, тридцатилетнего, особенно царапнуло слово «юноша».) Ваши черносотенные антисемитские взгляды, – продолжала Маша, – вы почти что опровергли своим разрывом со Щусевым, чего нельзя сказать о моем несчастном брате… Кстати, о Коле… Вас он ненавидит, и, не скрою, очень сильно, но он теперь с нами не живет… Он отрекся от родителей и живет в рабочем общежитии… Так что и здесь вы можете быть спокойны… Что же касается моего отца, то вы с ним сговоритесь и, возможно, даже полюбите друг друга… Напрасно мама отправила его сегодня на дачу, он бы вам не помешал… Ну вот и все… А теперь уходите и подумайте над сделанным вам предложением.
Я встал и вышел. Меня никто не провожал. Я слышал, как в соседней комнате плакала и стонала Рита Михайловна и как домработница Клава звенела какими-то склянками. Некоторое время я провозился с многочисленными запорами, но в конце концов отпер их и захлопнул дверь с твердым намерением никогда более не переступать этого порога. Однако, когда к вечеру позвонила Рита Михайловна и говорила со мной так, словно ничего не произошло, я отвечал ей спокойно. (Разговор вращался вокруг каких-то бытовых пустяков.)
А через неделю мой брак с Машей уже был оформлен по всем правилам. Вскоре я жил уже в одной из комнат большой столичной квартиры журналиста, спал на широкой, обтянутой китайским шелком тахте и ел на обед маринованную телятину или сазана, фаршированного орехами. По крайней мере месяца полтора после нашего с Машей брака я жену свою так и не видел. (Она уехала в какой-то подмосковный санаторий закрытого типа.) Честно говоря, меня это даже радовало. Журналист тоже не показывался. Коля же, согласно Машиному заявлению, вообще порвал с родителями. Жили мы втроем с Ритой Михайловной и Клавой, и я постепенно вошел во вкус такой жизни. Работа моя также видоизменилась: более протоколами подпольных организаций мне заниматься не требовалось и меня устроили работать в одну из крупных библиотек. Причем, помимо моих основных обязанностей, дополнительная нагрузка была крайне невелика: я должен был еженедельно составлять списки лиц, пользующихся книгами по специальным допускам, то есть книгами, находящимися под запретом. Списки эти я, к сожалению, должен был передавать в иной отдел. Я говорю «к сожалению» потому, что ныне не имел уже связи со Степаном Степановичем. Человек же, в чьем подчинении я находился сейчас, то ли меня невзлюбил, то ли просто отличался дурным характером. Он был, кажется, болен язвой желудка, судя по внешнему виду. (Вообще среди работников аппарата Госбезопасности было множество людей нездоровых, с ранениями или болезнями.) Встречался я с новым моим начальником не более раза в неделю, чаще всего в пятницу, и это меня несколько успокаивало. Впрочем, особых неприятностей я пока не испытывал от него, просто он встречал меня всякий раз сухо и неприветливо, но, в конце концов, с этим уж приходилось мириться. А в целом вторую половину весны провел я спокойно и, можно даже сказать, налаженно.
Глава четвертая
Рита Михайловна крайне дорожила мной по вполне понятным причинам, у меня складывалось впечатление, что даже подчиняла мне ритм и распорядок в семье. Завтракали теперь в семье ранее прежнего, и Клава, которая во всем подчинялась с охотой Рите Михайловне и была ее надежным другом и правой рукой, вставала на рассвете, чтоб приготовить что-либо вкусное и горячее. Обедали после моего приезда со службы. Кроме того, Рита Михайловна передала мне ключ от кабинета журналиста, так что я теперь составлял недельные отчеты в управление Госбезопасности, сидя за широким старинным рабочим столом журналиста. О Коле при мне ни разу не упоминалось, но однажды совершенно случайно я заметил, как Рита Михайловна и Клава на кухне собирали в плетеную корзину передачу. Здесь были разные дорогие и вкусные вещи: балык, копченые колбасы, баночки с красной и черной икрой, коробки дорогого печенья и конфет. Заметив меня, они всполошились, растерялись, и потом Рита Михайловна крайне ненатурально сообщила мне о некой подруге детства, находящейся в бедственном положении, «ибо двое детей, муж алкоголик…». Ситуация получалась глупая и нелепая. Рита Михайловна знала, что Коля ненавидит меня, и потому она боялась, что я буду возражать против помощи ему, которую он, кстати, как выяснилось, всячески отвергал, и потому приходилось подсовывать передачу через подставных лиц. Я же сам еще не мог разобраться и привыкнуть к моему положению в этом доме, хоть практически оно меня устраивало вполне и нравилось. Рита Михайловна оказалась меж двух огней: меж своими детьми и мной. Коля меня ненавидел. Маша меня третировала. Но я был нужен Рите Михайловне, чтоб покрыть грех дочери, которая, несмотря на требование Риты Михайловны, отказалась избавиться от ребенка, ибо «когда же еще представится возможность родить от разбойника, а не от литератора или главбуха».
В общем, как известно, противоборство в этом доме существовало давно, еще с того момента, как несколько лет назад журналист вовлек своих детей в активную политическую жизнь, в результате чего они первоначально увлеклись его оппозиционными идеями, а затем, что характерно для молодости, переросли их. Но ныне это противоборство видоизменилось в смысле расстановки борющихся сил вследствие, во-первых, новых обстоятельств, а во-вторых, полного выхода журналиста «в тираж». То есть человек этот окончательно был подавлен развитием событий, и у меня складывалось впечатление, что Рита Михайловна его иногда била. Во всяком случае, раз я, тоже, конечно, случайно, наблюдал, как даже и не Рита Михайловна, а ее тень, домработница Клава, взяла хозяина дома довольно крепко за руку, увела его из кухни, где он зачем-то (не знаю зачем) вертелся и мешал, и, усадив его за стол, как ребенка, поставила перед ним стакан простокваши, которую он тут же начал есть. Тем не менее в кругах официальных и вообще в массе, знакомой с ним лишь по книгам, он по-прежнему «звучал», и я помню, как несколько раз Рита Михайловна и Клава наряжали его, подобно манекену, цепляли к его пиджаку орденские планки и медали госпремий, после чего Рита Михайловна везла его в то или иное серьезное учреждение, где он сидел во время заседаний в президиуме. Я не хочу сказать, что журналист отныне был полностью пассивен, как раз наоборот: подобное свое положение в семье и вообще подобное отношение к жизни он сам же и вывел в результате раздумий и анализа. На лице его подолгу оставалась та циничная, но добрая и задумчивая, хоть моментами и не без сатиры, улыбка, которую я впервые увидел у него после пощечины в студенческом клубе. (По-моему, это была одна из последних, если не последняя, пощечина политического характера, которая ему досталась, ибо то выступление на студенческом диспуте было, пожалуй, последним общественным актом журналиста.) Первая наша встреча в этих, новых для меня, условиях и в новом моем положении произошла следующим образом.
Я сидел и составлял очередной недельный отчет в свой отдел, причем отчет двигался на сей раз туго, и предстояли неприятности, ибо где-то я ошибся, отметил неточно либо, скорей всего, схитрил читатель (и не без умысла, очевидно), так что я не мог определить, на какой из абонементов выдавался антисоветский материал. Конечно, можно было бы его в этот раз опустить, список и так был длинен, но я не был уверен в том, что не состоится контрольная проверка абонемента и там это может всплыть. И, учитывая характер материала, отношение ко мне нового моего начальника, больного язвой желудка, а также и тот факт, что читатель умышленно путал, учитывая все это, вряд ли представлялась возможность вообще этого не касаться, и поэтому я в течение длительного времени в раздраженном состоянии рылся в своих бумагах. И в это-то время и раздался осторожный стук в дверь. Я поднял голову, но ничего не ответил, продолжая перебирать бумаги. Когда же стук повторился, я крикнул, признаюсь, резковато под влиянием служебных неурядиц:
– Кто там еще, что вам угодно?..
Я совершенно уж как-то потерял ситуацию и не понимал, что сижу в чужом кабинете и распоряжаюсь чужой собственностью, в то время как хозяин робко просится войти. Но журналист, по-моему, ситуацию понимал, и она его веселила. Именно, как позднее я понял, ему нравилось, что он стучится в свой собственный кабинет, где восседает ныне какой-то приблудный, фактически на улице подобранный бродяга. На мой окрик он осторожно приоткрыл дверь, и я увидел ту самую, ныне традиционную улыбку.
– Извините, я книжечку хочу взять, – сказал журналист, – вы позволите?
– Возьмите, – буркнул я.
Журналист на цыпочках прошел к одной из полок, взял книгу, приложил палец к губам, но, идя назад, на полдороге расхохотался, что привело меня в растерянность. На смех его тут же явилась Рита Михайловна, которая резко взяла его об руку и сказала ему:
– Я ведь просила тебя не мешать, – и при этом глянула на меня, ища во мне союзника, вздохнула: мол, вот, приходится и с этим мучиться – и увела его.
Позднее, за обедом, она, улучив момент, сказала мне:
– Вы извините, – и назвала мужа по имени-отчеству, – он ведь нездоров, уже давно нездоров… Ох ты боже мой…
Журналист, правда, при этом не присутствовал, он обедал отдельно, и ему готовили какие-то особые витаминные каши. (В этом смысле Рита Михайловна продолжала за мужем следить и была внимательна.) Не знаю, что разумела Рита Михайловна под словом «нездоров», но известные отклонения у журналиста действительно наблюдались. Бывали случаи, когда он засыпал с непрожеванной пищей во рту. Жизнь свою называл «существованием». После того случая с книгой он почему-то более всего в этом доме любил встречаться со мной, и у нас действительно с ним состоялся целый ряд бесед самого разного толка. В частности, он мне доверительно сообщил, что «пища для меня без вкуса, ем не знаю для чего, улыбаюсь не знаю почему». О детях своих говорил, что очень их любит, особенно Колю, но боится, что Коля на него поднимет руку и обругает «сталинским холуем», а он этого не перенесет, причем, как он выразился, «не физически, а вот это не выдержит от тоски», и указал пальцем на левую часть груди. О Маше говорил, что она красавица и идеал женщины вообще, но ей не повезло оттого, что она в критический момент своего цветенья (он так выразился и вообще иногда выражался надуманно), в критический момент не встретила мужчину, который бы ей соответствовал и естественно погасил бы ее женский порыв. Вот откуда ее внезапные глупости и это общество имени Троицкого, объявившее своей программой борьбу с антисемитизмом в России. Причем о «мужчине» он говорил при мне совершенно спокойно, а между тем он знал, что я давно был влюблен в его дочь, и, следовательно, он намекал, что я тем мужчиной, который мог бы направить Машину энергию с политического поприща в женское русло, я тем мужчиной не был. И особенно больно мне это было оттого, что соответствовало действительности. Да и кроме того, я ведь был сейчас женат на Маше, но тем не менее разлучен с ней. Когда журналист сказал о «мужчине», кровь бросилась мне в голову и я хотел обругать старика. (За несколько месяцев он совершенно постарел, стал как бы ниже и ближе к земле.) Но, к счастью, сдержался. Были у нас также и беседы политического характера, и воспоминания журналиста по поводу тех или иных эпизодов его жизни. Были и случайные высказывания. Беседы наши стали особенно часты после того, как Рита Михайловна в середине мая уехала к Маше, ибо вскоре ей предстояло рожать и Рита Михайловна хотела, чтобы это по известным причинам произошло вдали от, как она выразилась, «московских сплетен». Телеграмма о том, что «все хорошо, родился мальчик», пришла ночью. Я помню эту ночь.
Лил шумный майский дождь, и от порывов теплого ветра хлопали форточки. Мы все – я, журналист и Клава – ходили полуодетые по квартире и весьма бестолково выражали свою радость, то есть повторяли все время одни и те же слова, пожимали друг другу руки, поздравляли друг друга и т. д. Журналист в порыве предложил тут же сообщить обо всем Коле, и я не успел вмешаться, как Клава натянула на домашний халат плащ, влезла в ботики и убежала, хоть до Колиного общежития строительных рабочих было порядком и сейчас, в сильный дождь, вряд ли можно было поймать такси. Но дело даже и не в этом. Что, если Коля явится сюда и застанет меня? (Я не был уверен, знает ли он обо мне, ибо из дома он ушел еще до меня, порвав с родителями, как со «сталинскими холуями».) К счастью, благодаря стараниям Клавы, которая, несмотря на радостную весть, не потеряла благоразумия, Коля не явился. Как выяснилось позднее, Клава сообщила ему, что отец и мать поехали к Маше в Подмосковье и дома никого. Но Коля обещал обязательно прийти повидать Машу и племянника, как только они вернутся, и, несмотря на протесты Клавы, передал из своей недавно полученной зарплаты деньги на покупку подарков.
Рита Михайловна с Машей и Иваном (несмотря на протесты Риты Михайловны, Маша назвала своего сына Иван), итак, бабушка, мать и сын вернулись домой недели через три, уже в начале лета. Придя со службы, я застал в передней Риту Михайловну и понял, что здесь и Маша. С колотящимся сердцем я бросился к ней, но Рита Михайловна догнала меня и преградила дорогу.
– Туда нельзя, – сказала она извиняющимся тоном, – ребенок, сами понимаете…
Машу я увидел лишь издали. Она была прекрасна, несмотря на не сошедшие еще с лица родовые пятна. Округлость и мягкость наконец явились в ней – и в облике, и в движениях. Она улыбнулась мне издали, и от этой ее улыбки мне захотелось радостно зарыдать. А на диване в богатом и нарядном шелковом конверте лежало дитя насилия Иван Цвибышев. Но идиллия эта длилась недолго. К вечеру Машу и Ивана Рита Михайловна увезла на дачу. Я тоже хотел поехать или хотя бы приехать в воскресенье, но Рита Михайловна заявила мне, что ребенок должен окрепнуть и ему нужна стерильная обстановка. Она была так возбуждена и настолько посвятила себя Маше и ребенку, что даже забыла и пренебрегла тем обстоятельством, что я фактически был нанят, чтоб прикрыть грех и дать ребенку фамилию. И поскольку я являюсь человеком ущемленным, то пренебрегать мной так уж в открытую не стоит. Ночь я, разумеется, провел без сна и в озлоблении. Состояние это было привычно мне, но тем не менее в такой степени давно мной не испытывалось. Наоборот, от сытой жизни я все более последнее время отдавал дань благоразумию, как уже ранее сообщал. Но подобный факт все разом перечеркнул. Я пробовал через Клаву передать Маше письмо, где писал хоть и стандартные для таких случаев, но искренние слова, а именно: о глубокой к Маше любви и желании заменить ребенку отца. Однако в ответ получил короткую записку без подписи: «Не забывайте, что наш брак фиктивен и построен на взаимовыгодной деловой основе». И все. Таким образом, стало ясно, что ласковая Машина улыбка относилась скорей не ко мне, а к ситуации. После этого решение было принято мною окончательно. Я не только завел себе любовницу, но и постарался сделать этот факт как можно более заметным. Впрочем, быстрота, с какой явилась у меня любовница, скорее объясняется совпадением, чем моей мужской оборотистостью. И совпадение это пришло с неожиданной стороны.
Познакомился я с этой молодой женщиной в кабинете у капитана Козыренкова. Это был совсем уж новый отдел. Правда, располагался он в том же особняке, но этажом выше. Мой «язвенник» в тот день был особенно не в духе и одет как-то неряшливо, так что из-под рукавов майорского кителя у него виднелась теплая, не по сезону, синяя фуфайка. Антисоветский материал из библиотечного фонда я все-таки в список включил, но не был уверен, правильно ли проставил абонемент читателя, пользовавшегося этим материалом в порядке допуска. Учитывая эту неточность и особенно дурное расположение духа «язвенника», очевидно вызванное недомоганием (лицо у него было нездоровое, а губы вовсе какого-то пепельного цвета), учитывая это, я весьма волновался, однако на этот раз он отчет просмотрел быстрее обычного и, подписав его, сказал мне:
– Пойдете в кабинет пятьдесят два к капитану Козыренкову.
Это меня настолько озадачило и встревожило, что я едва сам себя не выдал.
– А что? – спросил я. – Какие-то неполадки в отчете?
– Там увидите, – сказал мне «язвенник» и, потеряв ко мне интерес, раскрыл какую-то папку со своими текущими делами.
Неведение хуже опасности для людей с богатым воображением, и я всегда стараюсь быстрей достичь ясности, даже для меня неприятной. Торопливо, чуть ли не бегом, миновал я коридор второго этажа, одним махом взлетел по лестничным маршам и с колотящимся от резкой перегрузки и волнения сердцем постучал в кабинет пятьдесят два. Но едва я увидел капитана Козыренкова, как мои тревоги рассеялись, даже еще до того, как он успел мне что-либо сообщить. Это была полная противоположность «язвеннику» – совсем еще молодой крепыш, может, даже и моложе меня, то есть и тридцати ему не было. Рукопожатие у него было спортивное, и весь он источал силу и, я бы сказал, некоторую беспечность.
– Слушай, Цвибышев, – сказал он мне, – почему ты до сих пор не отчитался по командировке?
– Мне никто не сообщал, – сказал я.
– Ну, ясное дело, – сказал Козыренков, – это у нас случается, напутают. На тебе и деньги висят, и отчет. А ты ведь, по сведениям местного отдела, вел себя молодцом. Участвовал в задержании опасного преступника, был ранен… Лебедь ведь вышку получил, расстрел… Судили уже бандита…
Я с трудом сообразил, что речь идет о русобородом, руководившем толпой громил, том самом русобородом антисемите-профессионале, которому я, защищая Машу, вцепился в глаза. Козыренков вышел из-за стола и, подойдя, дружески хлопнул меня по плечу.
– Да ты прирожденный оперативник, а тебя на геморройную работу посадили, в архив. Вот что, друг, поработаешь у нас по совместительству, покажешь себя хорошо – совсем тебя заберем. Пусть Сидорчук (это майор-«язвенник») себе на ту должность бабу подбирает или такого же, как он, инвалида. Ты сколько у него получаешь?
Я назвал оклад.
– Ах, это тебя, значит, по библиотеке проводят, – сказал Козыренков, – у нас ты только надбавку получаешь. Ясно. Что ж, я тебе обещаю, что на первых порах, помимо той надбавки, и по нашему отделу доплату получишь. Много не обещаю, но получишь. Кроме того, тебе по характеру работы карманные деньги полагаются. Ну, между нами говоря, деньги эти неподотчетны, то есть проверить, куда ты их истратил, нельзя. Сумеешь обойтись без них, используешь для своих нужд. Это уже от способностей зависит. Все-таки компании, молодежь, пыль в глаза, – он засмеялся, – да это уж тебе Даша объяснит. – Он снял трубку внутреннего телефона и сказал: – Козыренков говорит. Пусть зайдет Даша.
Нельзя сказать, что Даша сразу же меня обворожила, наоборот, вначале она мне активно не понравилась как женщина. Лицо у нее было продолговатое. Его даже можно было бы назвать иконописным, если б не широкий, несколько приплюснутый, почти негроидный нос. Волосы у нее были длинные, ниже плеч, но не густые и висели не общей массой, а отдельными как бы прядками. Руки тонкие, со столичным маникюром, не очень ярким по тогдашней моде. На руках браслеты средней стоимости – не дорогие и не дешевые – из серебра и янтаря. Если помните, в первый период моего пробуждения, и общественного, и мужского, я уже имел дело с уличными женщинами, но там, в провинции, все это было весьма топорно и глупо, с пьянкой и песней. Здесь же эта явно развратная женщина понимала толк во всех тонкостях своей профессии, и в действиях ее и в ее жизненных проявлениях не было ни лихого надрыва потерянной души, ни виноватости души кающейся. Эта женщина знала, что делать, и не боялась ни своей судьбы, ни своей жизни. Ей было поручено ввести меня в одну из молодежных компаний, куда она была вхожа. Что же касается ее личных взаимоотношений со мной, то тут, думаю, никаких официальных распоряжений она не получила и действовала по своей инициативе. Во всяком случае, я впервые ощутил на себе силу воздействия не женской красоты и обаяния, а женского кокетства и женских хитростей. И не в том дело, что это случается редко, а в том, что ни обстоятельства моей жизни, ни сам я лично до сих пор не представляли интереса для женщин такого рода.
Едва мы вышли из кабинета, как она вынула из сумочки завернутый в фольгу кусочек шоколада, разломила его пополам и одну половинку протянула мне. Поблагодарив, я хотел было положить свой шоколад в рот, но она улыбнулась, показав, кстати, довольно некрасивые, росшие неровно зубы, и, не скрывая свой дефект (подлинная женщина, как я понял, никогда не скрывает своих дефектов), зубами своими схватила шоколад из моих пальцев и осталась очень довольна, когда я догадался, взял своим ртом шоколад из ее рук, причем коснулся губами кончиков ее холодных пальцев. (Ее пальцы, несмотря на теплую погоду, были холодны.) Она засмеялась и потрепала меня по щеке, совершенно не осознавая того, что это уж слишком похоже на дрессировку, а может быть, она дурно была информирована о том, какой я мнительный. Во всяком случае, ее прикосновение к моей щеке мне не понравилось, и я начал было настраивать себя против моих собственных глупостей с этой шоколадкой, но тут она, несколько поотстав (мы спускались по лестнице), вдруг как бы бросилась вниз, будучи уверена, что я ее подхвачу, и мне ничего не оставалось, как, подхватив ее, ощутить в своих руках ее тело. Впрочем, в этом ее кокетстве было что-то детское, что-то наивное, если признаться. Вышли мы с ней не через главный вход, а через боковую дверцу-калиточку, причем она пропуск не предъявила, а лишь улыбнулась дежурному офицеру, который, очевидно, ее знал в лицо. Здесь мы до вечера расстались, назначив свидание на Тверском бульваре, ибо компания, куда Даша должна была меня ввести, собиралась в квартире, расположенной неподалеку от бульвара.
Компания эта, скажу прямо, была мелкого пошиба, пожалуй – даже провинциальная. (И в столице случаются провинциальные компании.) За столом царила совершенно студенческая бедность, которую тем не менее не старались, как у Ятлина например, выставить в знак протеста «против ожиревших мещан», а, наоборот, старались прикрыть. Жареная дешевая колбаса украшена была веточками из зелени и красиво уложена на блюдце. К чаю подали желейный мармелад. Из напитков была лишь одна бутылка вина, да и та принесенная мной. Вернее, куплена она была Дашей, но передана мне, поскольку мужчине это более соответствует. (Так вот на что выдавались неподотчетные карманные деньги.) Собралось нас семь человек (значит, кроме меня и Даши, еще пятеро), распоряжалась хозяйка, девушка лет двадцати пяти, очевидно тревожащаяся уже за свою женскую судьбу и мучающаяся своим девичеством. (Я определил это по блеску ее глаз и нервным движениям, в которых чувствовался нетронутый и нерастраченный женский элемент.) Должен заметить, что в наше время женщина вообще весьма часто становилась центром компании, если не духовным, то по крайней мере организационным. (Хоть были случаи – и духовным.) Едва мы уселись за стол, как я приступил к делу, то есть начал осматриваться и анализировать. Напомню, что я и ранее выработал неплохие приемы и навыки в анализе компаний, и это мне ныне весьма пригодилось. Сели мы с Дашей рядом, представляя из себя пару, сформировавшуюся уже до компании. Но остальные пары только еще формировались, причем один парень был лишний. (Лучше бы лишней была девушка, тогда события могли развернуться острей.) Тем не менее это была ниточка. Я знал уже по некоторому своему опыту, что любую компанию можно расшевелить, даже самого мелкого пошиба, как эту. Собралась компания явно при попустительстве родителей хозяйки, людей, судя по всему, бедных и тратящих деньги на содержание дочери. Родители эти, старые уже люди, когда компания собралась, пожелали нам доброго вечера и ушли, должно быть в гости или к родственникам, чтобы не мешать молодежи. Дочь их, то есть хозяйку, звали Люсей, и не то чтобы красивой, но даже миленькой ее можно было назвать с большой натяжкой. Личико ее было бы еще сносным, но ноги бесформенны и тяжелы. (Наследство от матери. У матери ее все это достигло конца в своем развитии и напоминало некие оплывшие больным жиром столбы.) Тем не менее Люся, вполне естественно, тоже хотела женского счастья, и ей явно нравился молодой, бедно одетый провинциал. Причем провинциал не в смысле нарицательном, а в прямом, возможно даже прибывший в столицу буквально на днях. У меня на этот счет глаз наметанный. Я был уверен также, что провинциал этот постарается себя в компании утвердить, если ему в этом помочь, но он, наверное, встретит противоборство со стороны того столичного блондинчика, который сел, кстати, по другую сторону от Даши. Помимо этой троицы была еще пара, правда несформировавшаяся, но уже потянувшаяся друг к другу, и я их из активных действий заранее исключил. Это были студент и студентка средних курсов, ничем не примечательные по-моему, во всяком случае на первый взгляд недалекие и робкие. Пока усаживались, знакомились, приступили к ужину, прошло не менее получаса, и все это время разговор шел копеечный, урывками, причем весьма скованный моралью. Было, правда, несколько случаев, когда касались скользких тем, но при этом отделывались весьма отдаленными стыдливыми намеками и даже краснели. Скользких тем касались, разумеется, лишь морального плана, но ни в коем случае не политического. Я отлично понимал, что в компаниях подобного рода, в основе которых лежат мужские и женские желания, политическая смелость невозможна без смелости сексуальной. Впрочем, возможен был и ход от противного, но тут можно было и очень напутать. Не знаю, откуда Даша догадалась об этих моих размышлениях, во всяком случае, можно сделать вывод, что работник она опытный.
– Гоша, – сказала она, поглядев на меня в упор, – будь рыцарем, принеси, милый, платочек из моей сумочки в передней.
Я не успел среагировать, как вскочил блондинчик и сказал:
– Если угодно, я принесу, я ближе к двери.
Это было уж попросту глупое хамство и элементарная наглость. Впрочем, подумал я, поведение его неудивительно. Эта проститутка успела и с ним уже пококетничать.
– Нет, Витя, ты посиди, – сказала Даша (она и имя его знает. Впрочем, ведь знакомились). – Гоше весьма полезно поучиться мужскому рыцарству даже и в мелочах. – И Даша засмеялась так, что ненатуральность ее смеха могло отличить только опытное ухо.
Раздраженный, я вышел в переднюю и принялся рыться в ее сумочке такой взъерепененный, что даже не услышал, как Даша вышла за мной. Она коснулась моего плеча и, когда я обернулся, шепнула мне без кокетства, а скорее делово:
– Не вздумайте первым рассказывать политические анекдоты, – причем шепнула на «вы» и достаточно остро, словно скомандовала.
– Да с чего это вы взяли? – отпарировал я.
– И держите себя поаккуратнее, – не среагировав на мою отповедь, а ведя свою линию, продолжала Даша.
Самое интересное, что, проведя рекогносцировку и решив, что расстановка сил определена, я решил действовать методом от противного, то есть от сальностей в политике к сальности в морали. Мне казалось, что узел – хозяйка дома – провинциал – блондинчик, – растревоженный подобным моим ходом, оживет и возбудится. Более того, анекдотик был мною приготовлен, и для начала я отобрал именно его, потому что слышал этот анекдотик еще в первые годы политического послабления, чуть ли не в 54-м году, а может, и ранее, сразу же после смерти Сталина. То есть, если по прежним суровым временам он был уголовно наказуем, то ныне в компаниях подлинного политического протеста его сочли бы ничтожным и беззубым. Но здесь он, по-моему, был бы кстати. Речь шла о секретаре райкома партии, которому после операции хирург забыл вложить в череп извлеченные мозги. «Подумаешь, – ответил секретарь, когда ему о том с тревогой позвонили, – но партийный билет ведь со мной». Таким образом, с помощью этого анекдота я намерен был возбудить компанию, и чутьем опытного работника Даша засекла это мое намерение. Дальнейшему разговору нашему помешал наглец-блондинчик, который вырос в дверях передней и убого пошутил:
– Уже выясняете отношения?
Я едва сдержался, чтоб не толкнуть его, а Даша засмеялась снова весьма натурально, точно он сказал нечто остроумное, и даже взвизгнула по-женски. (Она, кстати, умела очень профессионально взвизгивать, так что мужчин охватывало яростное желание.) Несмотря на то что анекдот пришлось отменить, личный элемент и личное пристрастие мое не утихло, и я решил поддержать провинциала против столичного блондинчика, тем более что хозяйка дома Люся благоволила к провинциалу, может быть решительней на него рассчитывая. После распития принесенной нами бутылки вина компания, естественно, ожила, но выражалось это главным образом в песнях, причем комсомольско-молодежных, и смехе. Провинциал вел себя крайне робко и на подковырки блондинчика не отвечал. Все это меня злило, но тем не менее пренебречь заявлением Даши я не мог и в открытую выступить против блондинчика оснований не имел. Поэтому, когда в разноголосице я уловил заявление в приличной компании протеста мелкое, но здесь весьма солидное, обнадеживающее и исходящее с той стороны, которой я решительно пренебрег, а именно от студенческой пары, сердце мое радостно застучало, ибо всякий человек рано или поздно входит во вкус своей работы.
Не знаю, по какому поводу я упустил начало, но студент (его тоже звали, как и блондинчика, Витя), но Витя этот заявил:
– Стоит выйти на улицу, как поражает отсутствие чувства долга у большинства. Это одно из главных растущих пороков современного общества.
Вот тебе и молчальник: заявил, как сформулировал.
– Это о каком же обществе идет речь, – сразу же взбеленился блондинчик, – послесталинском, что ли?
– Я имел в виду более длительный период, – ответил Витя-брюнет. (Он был брюнет.)
Спор этот был глуп для меня и скучен, учитывая те бесконечные идейные перепалки, в которых мне приходилось участвовать. Но Даша крайне ожила и написала мне на салфетке губной помадой: «Теперь можно». Меня покоробило, что она так грубо мной распоряжается, тем не менее я скомкал торопливо салфетку (ошибка – надо было сперва вытереть губы, а потом уж скомкать; к счастью, никто не заметил), итак, я скомкал салфетку и рассказал заготовленный заранее анекдот о секретаре райкома партии. Анекдот особого смеха не вызвал, скорее, вежливые улыбки, но тем не менее блондинчик выложил свой, конечно же еврейский, очень злой и смешной. Особенно смеялась хозяйка дома Люся, по-моему еврейка, по крайней мере частично. Смех ее носил, помимо всего прочего, интернациональный характер и давал понять, что она этим анекдотом ни в коей мере не оскорблена. Не знаю, какое движение после этого произошло в душе провинциала, но, во всяком случае, он полез в боковой карман и извлек оттуда несколько листков, напечатанных на папиросной бумаге.