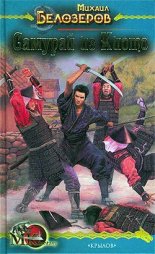Место Горенштейн Фридрих

– Вот, – сказал он сухо и остро, глядя на блондина (пожалуй, провинциал тоже был еврей), – вот чем люди занимаются… Есть наряду с анекдотиками и живая кровь еще на свете…
Выразился он топорно и туманно, но искренне. Я чувствовал, что в провинциале этом что-то сидит, но не мог к нему подступиться, и вдруг такая удача. Молчал, робел и вдруг на порыве сам протянул, причем публично, семидесятую статью Уголовного кодекса, а именно: «антисоветскую агитацию». А если учесть, что папиросные листки были в нескольких экземплярах, то налицо была и семьдесят первая статья, а именно: «антисоветская организационная деятельность». На папиросной бумаге был напечатан некролог на смерть Андрея Лебедя, скульптора и собирателя русской старины, умершего, как указывалось, «в застенках КГБ». И надо же быть такому сверхсовпадению! Только сегодня капитан Козыренков благодарил меня за содействие в поимке этого Андрея Лебедя. Речь шла о русобородом, которому я вцепился в глаза, защищая Машу во время экономического бунта.
Остаток вечера помню плохо. Меня почему-то охватил озноб, и я старался не смотреть на провинциала, неожиданно раскрывшегося в такой степени. Вскоре мы с Дашей ушли. За нами увязался блондинчик. Остальные нас не удерживали, ибо в компании как раз осталось две пары, которые явно тянулись друг к другу, разгоряченные вином и духотой. Несмотря на раннее лето, вечер был действительно душный. Парило, и собирался дождь.
– Ну, молодцом, – сказала мне Даша, когда под каким-то предлогом ей удалось отделаться от блондинчика, – вот видишь… Откровенно говоря, на такой улов я не рассчитывала. Я тебя в мелкую компанию сегодня повела. С учебной целью, – она улыбнулась и достала из сумочки экземпляр некролога, – свеженький экземпляр… Семидесятая статья, антиагитация… Будет чем на летучке блеснуть, из провинции иногда этакое вынырнет… Да что с тобой?
– Голова трещит, – с напускным равнодушием ответил я и подумал: «Не очень-то я с тобой пооткровенничаю, стерва».
– Ну пойдем ко мне, отдохнешь, – сказала Даша и добавила: – Или ты жене своей верен?
И тут меня осенило: издевается… Эта уличная девка знает обо мне многое, если не все. Возможно, она знает и Машу, мою безнадежную любовь к ней и ту позорную роль, которую мне в Машиной семье предназначили. На душе стало особенно подло, я махнул рукой и сказал:
– Пойдем…
Глава пятая
Заснуть я, разумеется, не мог, лежа рядом с Дашей на очень широкой постели. Даша жила в отдельной однокомнатной квартире. Было у нее не очень богато, но «с шиком»: какие-то особые обои с золотистыми разводами, фарфоровые заграничные статуэтки, обтянутые шелком пуфики и дорогая, из мебели единственно по-настоящему дорогая, кровать. Кровать, повторяю, была настолько огромна и чуть ли не квадратна, что на ней можно было спать не только вдоль, но и поперек. После этой ночи, когда мне временами становилось попросту физически больно, как во время пыток, после всего, что на меня обрушилось, я лежал совершенно разбитый и опустошенный. В нескольких местах на теле моем сладко зудели глубокие царапины, болела поясница и ныл позвоночник. Даша же лежала в спокойной и привычно расслабленной позе, совершенно обнаженная, поверх одеяла и, кажется, довольно быстро начинала погружаться в сон, дыша ровно и глубоко. В комнате царил острый запах чего-то глубинно-телесного, в смеси с знакомым, опьяняющим запахом ландыша. Чувствуя, что заснуть я не могу, и желая отвлечься и прийти в себя, я зажег ночник, протянул руку, достал лежащую неподалеку Дашину сумочку и извлек оттуда добытый в компании материал. Некролог назывался: «Он умер за Россию». Но начинался он не так, как обычно в некрологах, с имени и заслуг покойного, а с фразы совершенно политического характера и с элементами славянофильства: «Русский мужик не раб и рабом не был, чего никогда не понимали его угнетатели». Далее значилось: «Горячая симпатия к русскому мужику всегда характеризовала такие русские характеры, каким был умерший мученической смертью Андрей Лебедь. Конечно, русский мужик любит и верит всякой власти, такова уж его природа, и недовольство свое он направляет первоначально не против власти, а против чиновников, якобы власть эту извращающих. Но недовольство есть недовольство, и оно расшатывает установленный коммунистами в России порядок, взятый ими напрокат из иностранных, чуждых нашей природе космополитических источников. Но для того, чтоб недовольство это стало организованным и осмысленным, нужны такие люди, как Андрей Лебедь, горячо любящие не только Россию в целом, но и каждую мелочь, с ней связанную. И как важно, чтоб люди эти не гибли преждевременно в руках своих кровавых палачей, как важно беречь их, ибо сами себя они беречь не умеют».
Чтение этой бумаги не только не успокоило меня, но каким-то образом причудливо слилось воедино с тем, что недавно происходило между мной и Дашей. Живое лицо русобородого встало передо мной у противоположной стены среди слабо мерцающих при свете ночника золотых обоев. Даша между тем уже спала, лежа все так же обнаженной, с прекрасно развитым, спортивным телом. Мне стало вдруг страшно, однако пришлось несколько раз толкнуть Дашу, прежде чем она проснулась. Она посмотрела на меня удивленно.
– Ты чего? – спросила она.
– Так, – ответил я, не найдя, что б такое соврать по поводу моих действий.
– Чудак ты, – сказала Даша, прикрывая одеялом свою обнаженную грудь, – ты почему не спишь?
– Я его помню, – сказал я, – скульптора этого…
– Андрея Лебедя? – спросила Даша, зевнув, – Шестьдесят четвертую «а» имел, измена родине.
– Даша, – сказал вдруг я, – Даша, знаешь, я ведь ненавижу Россию…
Сам не знаю, как это из меня вырвалось и как я раскрылся перед этой случайной девкой. Скорей всего, мной вдруг овладела ужасная тоска и безразличие к себе. Но, к величайшему моему удивлению, Даша на это мое признание среагировала вяло.
– Да, ну и что? – сказала она. – Что ты переживаешь, миленький? Любишь ты Россию или не любишь, какая разница, если ты русский. Русским родился, русским и помрешь, из своей шкуры тебе не выскочить. В чужую шкуру одни только евреи и умеют влезать, – сказала она с неожиданной злобой, и женская ее вялость разом пропала. – Россию ненавидеть еврею страшно, это согласна… Поэтому он ей все время в любви и клянется… А вот Маша твоя, эта со своим Русским обществом имени Троицкого, вот бы кого по шестьдесят четвертой «а» привлечь…
Должен сказать, что тут Дашу, безусловно, занесло, такое бывает с девкой путаной и циничной, если коснуться чего-то искренне наболевшего. Как я и предполагал, меж ней и Машей что-то было ранее, – возможно, обе совсем молоденькими девушками, может быть еще школьницами, участвовали в оппозиционных послесталинских веяниях. И вот теперь Дашу прорвало. Впрочем, Даша тут же опомнилась, но было уже поздно. Вскочив, я лихорадочно одевался. К счастью, Даша была достаточно опытна, чтоб, осознав свою ошибку, не усугублять ее и не удерживать меня. Мне кажется, стоило ей произнести хотя бы одно еще слово, как я бы ее растоптал. (Конечно, и тогда не растоптал бы, но так подумалось.) Одевшись в полной тишине, я выбежал на улицу. (Даша жила на первом этаже.) Но разумеется, домой, то есть в квартиру журналиста, не пошел, а весь остаток ночи гулял по набережной Москвы-реки. (Даша жила неподалеку от набережной.) Мыслей особых у меня не было, и я не могу сказать, что это была ночь каких-либо важных раздумий. Просто гулял да слушал плеск речных волн. Может, потому я и явился на службу хоть и с горячими от бессонницы глазами, но зато с посвежевшей головой. Да и вообще, тогда, выбежав от Даши, я думал, что произошло нечто чрезвычайное, в действительности же все быстро улеглось и вошло в русло. С Дашей я встретился в тот же день на работе в управлении во время сдачи отчета. Вместе сидели на летучке. Затем вечером мы вместе «работали» в некой компании, весьма, кстати, шумной, с пьянкой и массой антисоветских политических анекдотов. Остаток ночи (был именно остаток ночи, ибо разошлись далеко за полночь), остаток ночи я провел у Даши. В разговорах со мной Даша вела себя теперь осторожней и жены моей не касалась вовсе. О делах она также почти не говорила, за исключением замечания о том, что «компания дрянь» и весь ее шум и антисоветчина не более чем «плотва», так что «и в докладе почти не о чем сообщать, и вообще вечер потерян».
Должен отметить, что удача, подобная подпольному некрологу на смерть Андрея Лебедя, извлеченная из серенького провинциала, вообще была чуть ли не единичной и последующие компании в целом походили на компанию второго дня, с шумной, но весьма глупой и пустой антисоветчиной, которая в серьезный расчет не принималась. (Кстати, тут градация тонкая, и антисоветский анекдот часто ценится гораздо ниже какого-либо совершенно аполитичного вирша, в чем я убедился позднее и, к сожалению, на случае, весьма для меня неприятном.)
Вскоре эти компании мне крайне наскучили, ибо посещать их я был обязан четыре раза в неделю. Что же касается Даши, то связь с ней вошла в спокойное бытовое русло (в значительной степени благодаря Дашиному женскому опыту), и благодаря этой связи во мне, пожалуй, произошли определенные физиологические изменения, то есть я стал менее обнажен в чувствах, стал мягче, и вновь явились даже элементы скептицизма и созерцательности. Пишу «вновь», ибо это со мной случалось и ранее, но теперь я более ценил подобное и старался извлечь из своего состояния максимум возможностей, зная по опыту, что такое спокойствие ненадолго. И вот в этом-то состоянии у меня произошел разговор с журналистом, моим фиктивным тестем. Собственно, общения с ним было достаточно, но если я называю то конкретное общение-разговор и выделяю, значит, в нем имелось нечто от других случаев отличное. Правда, начался он стандартно.
Я сидел в роскошном кабинете журналиста, за его широким дорогим столом, закончив очередной отчет по библиотеке. (Отчет по отделу капитана Козыренкова как таковой не составлялся, по крайней мере от меня это не требовалось, и все ограничивалось устными сообщениями, которые стенографировались и которые, прочитав, я подписывал.) Итак, закончив отчет, я сидел погруженный в размышления неопределенные, что со мной часто случалось в последнее время, и я бы даже сказал, что это были не размышления, а дремота, о чем даже свидетельствовала поза – поставив локти на бумаги и подперев руками голову. Стук журналиста я к тому времени уже изучил: стучал он, как бы скребясь в дверь, а может, и впрямь скребся. В этом, конечно же, была поза и игра. Как выяснилось в разговоре, тут был «король Лир», но в современном варианте, то есть который относится к своему падению не трагически, а скептически и насмешливо. Привыкнув к подобному, я и в этот раз на стук внимания не обратил, лишь поморщился досадливо, как на нечто неприятное, но неизбежное. Не обратил я внимания и на то, что, войдя на сей раз, журналист не попросил с ироничной усмешкой у меня разрешения войти и взять «книжечку». Кстати, в его кабинете сидел я не так уж часто, лишь во время составления отчета, и причем работал я там по предложению Риты Михайловны. Но тем не менее журналисту требовалась «книжечка» именно в тот момент, когда я занимал его кабинет. Но я к этому привык и не придавал подобным фактам значения. Учитывая все это, а также мое собственное состояние, можно понять, почему я не сразу разглядел, что глаза журналиста на сей раз не полны веселого скепсиса, а, наоборот, набрякли и, войдя, он ничего не сказал и не спросил, а бочком как-то двинулся к одному из книжных шкафов. (В мое отсутствие приходил Коля, разумеется со скандалом и обличением, но об этом я узнал позднее, причем значительно позднее, ибо приход Коли от меня тщательно скрывался.)
Некоторое время мы провели в кабинете молча, я – в созерцательной дремоте за столом, журналист же – в неудобной позе на подлокотнике кресла, подвинутого к книжному шкафу. Когда человек пребывает в приятной созерцательной дремоте, посторонний острый звук (а всякий звук воспринимается тогда как острый) напоминает грубый толчок. Поэтому на первые громкие слова журналиста я среагировал раздражительно. Слова же эти были:
– Беспокойное любопытство более, нежели жажда познаний, была отличительная черта ума его…
Я думал, что журналист обращается ко мне, но затем понял, что он просто прочел вслух, возможно даже невольно, фразу из книги, которую держал в руках.
– Вы о чем? – спросил я, как бы стряхивая остатки дремоты и пробуждаясь, ибо фраза эта и для меня прозвучала как неприятный первоначально, но зато приводящий в бодрствование звонкий и заманчивый звук.
– Удивительное сходство, – сказал журналист и поднял на меня новые свои (по крайней мере, для меня новые), набрякшие, уставшие от слез, стариковские глаза. – Ах Пушкин, Пушкин Александр Сергеевич… Царское правительство, заковавшее великого русского мученика Радищева в кандалы, не могло подвергнуть его большим издевательствам, чем великий поэт России Пушкин…
Вот в каком странном направлении повернулись мысли журналиста, причем совершенно для меня нелогичном. Но в действительности, если знать толчок, причину (посещение горячо любимого сына, обличавшего и, по-видимому, оскорбившего отца), а также если знать направление раздумий журналиста в последнее время (я вслед за Ритой Михайловной и домработницей Клавой начал относиться к журналисту как-то несерьезно, как к личности больной и вчерашнего дня, то есть ныне представляющей лишь предмет семейной заботы и позора), если знать причину, то можно понять, что у журналиста были раздумья, и раздумья серьезные, я бы даже сказал – подытоживающие жизнь раздумья. (Хоть было ему чуть более шестидесяти и при его материальном благосостоянии итоги эти можно было бы подводить лет на десять-пятнадцать позже.) Так вот, если знать все это, в словах журналиста можно было обнаружить не только логику, но и закономерность. Более того, даже и честолюбие еще не совсем покинуло журналиста и еще не совсем вытеснено было скепсисом, особенно в горькие для сердца минуты. И действительно, встав с подлокотника кресла и приблизившись ко мне, журналист прямо и без аллегорий заявил, что «когда осядет пыль века и потребуется мученик, который в прошлом был не только уничтожен тираном, но и позорно высечен современниками, то лучшей кандидатуры, чем он, не найти». И далее, уж без обиняков, назвал себя советским Радищевым. Впрочем, без аллегорий вообще и даже элементарных фактологических неточностей все-таки не обошлось. Начнем с того общеизвестного положения, что журналист от тирана не претерпел, а, наоборот, пострадал впоследствии, после смерти тирана. Во-вторых, Пушкин современником Радищева не был, что журналист, кстати, тут же сам понял, ибо добавил:
– Хотя я еще мечтать должен, чтоб будущий гений, возможно еще не родившийся, обратил бы на меня внимание и высек публично, вопреки установившемуся обо мне мнению…
Это и был наиболее честолюбивый момент в речи журналиста. (Вообще то, что я назвал разговором, было скорее речью моего собеседника. Я же слушал хоть и с вниманием, но безучастно.) Итак, наиболее честолюбивый момент отличался тем, что журналист выпрямился с надменным, холодным выражением и оглядел меня так, что во мне нечто екнуло и я даже забеспокоился, не выгонит ли он меня вон, не только из-за своего широкого стола, но и вовсе из кабинета, а может, и из квартиры. Однако вслед за взлетом последовал спад, и мысль о Радищеве, очевидно любимом писателе журналиста, жертва которого осмеяна была Пушкиным (так журналист выразился), на каком-то этапе неизбежно должна была привести к чувству горечи и смять журналиста сперва душевно, а затем и физически. Так и случилось. Журналист отступил, отошел от широкого своего стола, оставив меня сидящим в мягком его кресле, сам же вновь уселся в неудобной позе на подлокотник другого кресла, подвинутого к книжному шкафу.
– Ах ты боже мой, – сказал он, опустив набрякшие красные веки свои, – как меня ненавидят собственные дети!
Я тогда подумал, что это пафос и общие рассуждения, а не результат конкретных действий, случившихся в мое отсутствие.
– Ах ты боже мой, – продолжал журналист, – как не умеем мы пользоваться уроками друзей! Даже великие люди делают это с большим опозданием… У Радищева был прекрасный друг, – продолжал он совершенно без объяснений, даже не задумываясь, что я, человек случайных знаний, могу чего-то не понимать. – Как сказано у Пушкина: «Ушаков был от природы остроумен, красноречив и имел дар привлекать к себе сердца. Он умер на двадцать первом году своего возраста от следствий невоздержанной жизни; но на смертном одре он еще успел преподать Радищеву ужасный урок. Осужденный врачами на смерть, он равнодушно услышал свой приговор; вскоре муки его сделались нестерпимы и он потребовал яду от одного из своих товарищей. Радищев тому воспротивился, но с тех пор самоубийство сделалось одним из любимых предметов его размышлений».
Единым духом прочтя этот отрывок, журналист поднял голову и поглядел на меня словно бы с вопросом, словно бы ожидая совета по некоему важному для него решению – может быть, решению роковому. Но я, разумеется, молчал.
– Ах ты боже мой, – снова вздохнул он тогда по-старушечьи (эти вздохи начали меня раздражать), – не воспринят ли урок Саши Фадеева так же бесплодно его друзьями? И с таким же запозданием… Вы ведь знаете историю Христофора Висовина, мы ведь с вами неоднократно касались… Да и вы с ним дружны были, впрочем, как и дочь моя.
Хочу напомнить, что журналист давно уже не говорил толково, – пожалуй, при мне последний раз он говорил толково и логично на студенческом диспуте, а после пережитых крайностей в мышлении его то и дело зияли провалы. Однако упоминание Висовина, человека, который давно был заслонен нынешними проблемами и личностями и вместе с десятками иных личностей и проблем, как мне казалось, давно ушел в небытие из моей жизни, подобно, например, личностям и проблемам, кружившим вокруг меня в период борьбы за койко-место, итак, упоминание Висовина меня насторожило. Что-то в этом упоминании показалось мне свежим, то есть по горячим следам идущим, какая-то непосредственная живая опасность, а не мучения совести грешного старика, которыми, в конце концов, я мог бы и пренебречь.
– А что с Висовиным? – нарушил я молчание, причем торопливо, отвергая тем самым попытку журналиста углубиться вновь в сравнение своей судьбы с судьбой Александра Радищева.
– Он опять на свободе, – сказал журналист скорей рассеянно, чем растерянно, хоть первоначально я думал, что он именно растерян от моего вопроса.
В журналисте явно произошел новый поворот, – возможно, он даже о чем-то вспомнил благодаря моему вопросу и, кажется, хотел уйти, встав с подлокотника кресла.
– Подождите, – сказал я, ощущая тревогу и торопливо выходя из-за стола, чтоб в случае надобности удержать старика, ибо, даже не понимая почему, решил, что выяснение о Висовине важно для меня. – Он разве был арестован? – спросил я, подходя вплотную.
– Нет, – сказал журналист, от меня отодвигаясь и, мне показалось, с испугом, мелькнувшим в глазах, – просто он был нездоров и находился на излечении в психиатрической больнице… Да и кто ныне здоров из тех, кого жизнь мяла?.. Меня самого бы сдали, – сказал он, потянувшись вдруг ко мне и шепотом.
Теперь настала очередь мне от него отстраниться, но по иной, конечно, причине. Если он в первый момент от меня отступил, то, безусловно, в страхе, что я его заподозрю в предательстве и в хлопотах по помещению Висовина в психиатрическую больницу. Я же отстранился исключительно из невольной брезгливости, ибо Рита Михайловна, замученная трудными взаимоотношениями с детьми (особенно с Колей), явно запустила мужа, а он по натуре своей, очевидно, был неопрятен.
– Если б не семейный позор, – продолжал журналист, – меня б давно сдали. Я ведь и сам понимаю… Иногда, случается, я дурашлив, но чаще эмоционально снижен… Да, есть такой термин в медицине… Я ведь медицинские книги почитываю, а это первый признак.
– Оставьте свою болтовню, – невольно воскликнул я, забывшись. – Вы мне надоели! – воскликнул я, совсем уж забывшись и не отдавая себе отчет, что гоню хозяина из собственного его кабинета.
Журналист спокойно и даже насмешливо на меня глянул и направился к двери. Лишь когда он ушел, я понял, что он, возможно, вел себя не без хитрости, чтоб сбить меня и не дать приступить к расспросам относительно Висовина, что для журналиста было нежелательно. Я остался в состоянии тревожном, а мною уже замечено, что застрявшая в душе тревога редко рассасывается сама собой. Чаще всего она служит как бы зародышем еще более серьезных испытаний.
Глава шестая
Начну с того, что в одной из компаний вскоре я встретил Пальчинского. Напомню, это тот самый тридцатилетний юноша с румянцем на лице, отвергнутый обществом имени Троицкого и в полемике перед уходом совершивший непристойность в присутствии женщин. Меня он видел мельком, как, впрочем, и я его, но благодаря этой из ряда вон выходящей детали я его запомнил. Однако я рассчитывал, что на меня он внимания не обратил, будучи отвлечен тогда полемикой со своими бывшими товарищами, а ныне противниками из общества имени Троицкого. Однако он меня запомнил, не знаю уж почему. Вел он себя в этой компании, разумеется, развязно, публично хватал женщин за недозволенные места и если и рассказывал антисоветские анекдоты, то исключительно с сексуальным уклоном. Впрочем, компания эта и в целом была несерьезной, вольного поведения и самого низкого пошиба, о чем я заранее был предупрежден Дашей, так что даже и она, женщина развратная, посчитала для себя невозможным присутствовать там, дабы не быть скомпрометированной. Тем не менее мне она явиться туда рекомендовала, поскольку в таких клоаках иногда кое-что и «заваляется», выразилась она туманно, но явно на что-то намекая и порекомендовав быть внимательнее.
В компании той было много водки при полном почти отсутствии закуски (лук, хлеб). Вообще должен заметить, что домашняя компания как общественная организация, возникшая в первые послесталинские годы и носившая первоначально черты гражданской демократической вольности, в нынешнее время деградировала крайне и стремительно, чему способствовали определенные общественные разочарования. Так что люди порядочные предпочитали узкий круг, если не вовсе одиночество, то есть замкнулись. Широко же зажило все незрелое либо попросту непорядочное. Я не хочу сказать, что все компании были столь уж низкого пошиба, как данная, но в целом их характер упростился и принял уличный вид случайных сборищ, так что антисоветчина таких сборищ носила скорей несерьезный и случайный характер. Но иногда в подобном хаосе могли мелькнуть какие-то ниточки, за которые можно было бы ухватиться, как мне объяснил капитан Козыренков при нашей последней встрече. Однако о какой организованной антисоветчине могла идти речь, если вскоре почти все уже были обнажены, причем высовываясь в открытые окна, и кто-то (не пойму, то ли мужчина, то ли женщина – я не оглянулся) укусил меня сзади в шею, так что я вскрикнул от боли и, оттолкнув чье-то навалившееся мне на спину тело, бежал. Бежал, кстати, своевременно и благополучно, миновав на лестнице возмущенных соседей. (Явно назревал милицейский протокол.) Отбежав довольно далеко (улицы две-три), я успокоился и уселся на скамейку, чтоб отдышаться.
Был прекрасный московский вечер, почти ночь. (Встречи в компаниях подобного пошиба начинаются весьма поздно.) Движение транспорта, особенно на этой небольшой улочке, почти затихло, дышалось легко, мягко, изредка мимо шли какие-то люди, как я понял, совершенно уж очнувшись, мирные прохожие, живущие тихой, здоровой и прочной жизнью. И так мне вдруг захотелось всего этого, чему и определения-то не подобрать… Вот такой мирной, бездумной, тихой прогулки перед сном… Я встал, приноравливаясь к вкусному, я бы даже сказал, аппетитному какому-то шагу мужчины и женщины, прошедших мимо. Это были люди среднего возраста, под сорок, но шли они «по-молодежному»: женщина держалась за палец мужчины. Я пошел следом, вдыхая аромат благоухающих к ночи цветов на клумбе и поглаживая шею сзади пальцами, ибо на коже остались зудящие вмятины чужих зубов, как бы дьявольское клеймо, напоминающее, кто я такой и случайность моего нахождения в этой мирной жизни. И действительно, я не успел пройти и несколько шагов, как послышался нервный топот спешащего, почти бегущего человека. Я даже не сомневался, что это ко мне, и попытался уйти, достигнув бокового прохода бульвара. (Дело происходило на бульваре.) Но не успел уйти. Это был Пальчинский.
– Я вас искал, – сказал он, – вы так быстро исчезли.
– Что вам угодно? – сухо отпарировал я, давая понять, что во взаимоотношения вступать не намерен.
– Черт возьми, – обиженно сказал Пальчинский, он явно был крайне обидчив. – Черт возьми, вы, кажется, недовольны? Я тоже многим недоволен, но тем не менее бросился вас разыскивать, чтоб выполнить свой долг гражданина, хоть, признаться, лично вы мне нужны как зайцу венерический диспансер.
Это уже было слишком, все накопившееся за этот кошмарный вечер внезапно нашло выход и точку приложения.
– Убирайся, а то я тебя на куски!.. – крикнул я, багровея. (Чувствуя прилив крови к лицу.)
К несчастью, я при этом особенно сильно ощутил зуд в месте укуса и на глазах у Пальчинского прикоснулся к шее.
– Ах вот оно что, – сказал Пальчинский и захохотал, – это тебя Валька укусила, ее сексуальный метод… Но шутки в сторону… Считаю своим долгом гражданина предупредить, что Виталий стукач, подослан КГБ…
Этот фортель меня насторожил, хоть я первоначально не понял, о ком речь.
– Какой Виталий? – переспросил я невольно.
– Ну ладно, ладно, – сказал Пальчинский, – я хоть и порвал с теми глупцами из общества имени Троицкого, но считаю своим долгом предупредить… Передайте Маше (он явно не знал моих с Машей взаимоотношений) или Анненкову… или Саше Иванову, если он освобожден из-под ареста… Вот список стукачей, – и, вынув из кармана, он протянул мне отпечатанный на папиросной бумаге список фамилий, – вот, – сказал Пальчинский и ткнул в фамилию посредине, – эти данные получены недавно, и мы думаем опубликовать их в самиздате.
Но я уж не слушал слов Пальчинского, которые звучали для меня смутно, словно издали. В списке предпоследним числилась и моя фамилия – «Цвибышев». Теперь надо было не торопиться и по возможности все проанализировать. Пальчинский просто запомнил меня в лицо там, у Анненкова, фамилии же моей явно не знает. Разумеется, резкость тона надо менять.
– Вам куда? – спросил я, перестраиваясь на ходу. – Вам какое метро?
– «Арбатское», – ответил Пальчинский.
– Очень хорошо, – сказал я, – пойдемте, дорогой побеседуем.
Я надеялся еще кое-что выудить из Пальчинского, однако он внезапно начал читать стихи. Должен сказать, что и стихи в компаниях последнего периода правления Хрущева видоизменились, теряя антисоветскую гражданственность, а более переходя к «антисоветской аполитичности» (выражение капитана Козыренкова).
Вот эти стихи, на которые я, удрученный моим разоблачением и опубликованием моей фамилии в списке стукачей, не обратил внимания. (Я встретился с ними позднее у капитана Козыренкова.)
- Дети потные в красных костюмах,
- Матери потные в тяжких думах,
- Бронзовый загар темноты медовой.
- Этого лета вдовы
- Плачут на кладбищах, томные и молодые,
- Дома висят штаны пустые.
- Их любимые, обтертые ваткой,
- В земле лежат и воняют сладко.
- Ах, как душно вдовам в черных платках,
- Белым грудям в черных бюстгальтерах!
- Они плачут, и по плечам катится пот,
- Щекотно вдовам,
- Вдовам тяжело подняться с земли,
- Колени у них круглые тяжелы
- И зады обливает спинной пот,
- А кладбищенский рабочий смотрит странно,
- Туманно кривит рот.
Вот с этими-то «аполитичными стихами», но зарегистрированными уже, со входящим номером на штампе в углу мятого листка, я и познакомился в кабинете капитана Козыренкова. Причем я сразу же начал с ошибки, а именно – вспомнив о дружеском разговоре нашем с Козыренковым, высказался откровенно и прямо:
– С этим дерьмом сталкивался, но не думал, что оно подлежит представлению и подпадает под инструкцию.
И тут капитан Козыренков меня ошеломил. Куда девалось его простецкое расположение ко мне и его спортивная откровенность. Он затрясся, побагровел, ударил кулаком по столу, в общем, повел себя точь-в-точь как обычный чиновник-канцелярист, получивший нагоняй от начальства впервые за свою безупречную службу и крайне напуганный этим нагоняем, а поэтому ненавидящий того, кому он доверился и кто доверия его не оправдал и подвел.
– Ты что, – крикнул капитан Козыренков, – в белых перчатках работать хочешь?.. Ты что наделал?.. Материал попадает к нам случайно, через случайные каналы!.. Такое дело упустил!..
Тут уж он сам, пожалуй, понял, что перехлестнул, уселся и сказал тише и, как мне показалось, даже с некоторым раскаянием за откровенную грубость:
– Ты понимаешь, что наделал? Ведь там на крючок целую банду взять можно было… Связь с иностранцами… Крупных наших врагов морально можно было опорочить… Разврат в данной ситуации – это даже лучше политических обвинений, а ты сбежал…
– Противно мне стало, – сказал я тихо, ибо с самого начала моего разноса пребывал не в страхе, а в какой-то глубокой тоске, – грязно там… (Я не решился говорить о списке, который видел у Пальчинского, ибо список этот также не был мной добыт и представлен.) – Грязно там, – повторил я.
– Грязно, – согласившись со мной, произнес капитан Козыренков, – но ты пойми, на что пошел, кто за нас будет грязную работу делать? Мы ассенизаторы и водовозы, как сказал Маяковский. Ту компанию иностранцы посещали, а взял их случайно наряд милиции, по случайному вызову какого-то соседа. Понимаешь, какой нам щелчок по носу. Не говоря уже о том, что все было проделано непрофессионально: лучший материал уплыл, а попалось то, что под рукой… Следственный отдел рвет и мечет, папки у них пустые… На днях будет фельетон в центральной газете о той банде, но это не от хорошей жизни, а для того, чтоб создать общественную атмосферу вокруг дела… Гневные письма трудящихся взамен ценнейшего следственного материала… Вот так, брат…
В это время в дверь постучали. Капитан Козыренков быстро кивнул мне на стул, сам сел за стол против меня и пригласил войти. Вошла Даша и, не глядя на меня, ровным голосом изложила причины, по которым считает дальнейшее привлечение меня к работе нецелесообразным. Из всего ею сказанного я понял лишь то, что она меня топила. (Впрочем, может быть, список, виденный мной у Пальчинского, уже был известен в нашем учреждении.) Что касается Даши, то, как я узнал позднее, положение ее было еще хуже моего. У Даши накопилось к тому времени достаточно просчетов и срывов, но главное состояло в том, что, будучи направлена в качестве переводчицы к какому-то иностранцу согласно серьезному заданию, вместо того чтоб задание выполнить, спуталась с этим иностранцем и чуть ли не полюбила его. Все это в точности выплыло несколько позже, но и тогда она была уже на подозрении. Причем иностранец этот был уже человек немолодой, с лысиной и отвисшими щеками любителя крепких напитков. Я видел его мельком недели через две здесь же у Козыренкова, где он давал показания вместе с Дашей. Так вот, Даша эта заявила во всеуслышание, что полюбила впервые в жизни, и ей не страшно теперь ничего, и она на все готова. Даша осуждена была достаточно сурово, но, не отсидев и четверти положенного времени, она якобы была досрочно освобождена какими-то таинственными хлопотами, чуть ли не через Министерство иностранных дел, и вместе с иностранцем выехала в Швецию. Впрочем, по другим слухам, она вскоре после того, как была осуждена, умерла в каком-то уральском концлагере от воспаления легких.
Но все эти факты, слухи и противоречия были уже потом. Тогда же, в кабинете у Козыренкова, она дошла до того, что рассказала даже то, что я по оплошности и в мужском забвении сообщил ей в постели, то есть о моей ненависти к России. Но капитан Козыренков на эту деталь как раз внимания не обратил и словно пропустил мимо ушей.
– Стерва, – сказал он, когда Даша вышла, – стерва, нашкодила и на чужом горбу теперь хочет выехать. Но положение твое, если так по-честному сказать, действительно нелегкое. Незавидное у тебя положение. Тут еще майор Сидорчук на тебя докладную катанул. Ты там что-то с антисоветским библиотечным материалом напутал…
«Значит, и это всплыло, – подумал я с горечью и тоской, – одно к одному».
– В общем, так, – сказал Козыренков, понизив голос, – мой тебе совет, подумай, кто б за тебя мог слово сказать?
– Степан Степанович, – подумал я вслух о подполковнике, первом моем начальнике.
– Да нет, – сказал Козыренков, барабаня пальцами по столу, – человек он не плохой, но в такую ситуацию вмешиваться не будет… Хотя попробуй, желаю тебе. – И он совершенно уж дружески пожал мне руку.
Началось все со злобы и крика, а кончилось по-доброму, и это меня взбодрило, и домой я шел широким шагом. Безусловно, обращаться надо было в тот отдел, где я начинал, обрабатывая и разбирая протоколы Щусева. Там я ничем себя не опорочил, и там моей работой были довольны. Так решив, я рассеялся и остаток пути прошел, глядя по сторонам.
Молодое московское лето с умеренной жарой и свежими, еще не пыльными листьями деревьев господствовало вокруг. Мода в этом году не видоизменилась, была такая же, как прошлым летом, и девушки шли в юбках колоколом, высоко обнажавших ноги, блузки же были в основном цветастые и на груди свободно висящие. В моде тоже есть разные периоды. Есть периоды демократические, когда количество миловидных женщин резко возрастает, есть же периоды жесткие, сухие, когда мода строга, подчеркивает красоту и обнажает уродство. Вот в таком состоянии свободного парения в мыслях я и вернулся домой. Это была удача, если учесть, что происходило со мной еще некоторое время тому назад. Открыла мне Клава, которая странно, но скорее с сочувствием на меня посмотрела и, ворча, принялась вытирать что-то тряпкой. Это были следы явно измазанных в мазуте сапог, которые в разных направлениях пересекали переднюю и далее продолжались по паркету. Не успев удивиться и не поняв окончательно, что это, я вошел в столовую и замер на пороге. За столом сидел Коля и обедал. Он сильно похудел, и лицо его то ли сильно загорело, то ли было дурно вымыто, а может, и то и другое. Тонкие же, в отца, руки интеллигента теперь лоснились от въевшейся смазки, несколько пальцев замотано было изоляционной лентой, левая ладонь перевязана грязным бинтом. Когда я вошел, он глянул на меня всего раз, но с откровенной, честной ненавистью, а затем принялся громко хлебать суп, ломая хлеб грязными руками. Рита Михайловна и журналист сидели тут же за столом и, пригорюнившись как-то, прижавшись друг к другу, смотрели на сына.
– Клава, – позвала Рита Михайловна, – где ты там застряла, неси быстрей жаркое.
– Сейчас, – ворчливо отозвалась Клава, – пол протереть надо, мазуту нанес.
– Да брось ты пол, – вспылила Рита Михайловна, – кому я говорю…
– Нет, зачем же, – сказал Коля, – пусть не торопится, я жаркое есть не буду, я вот суп вчерашний похлебаю… Да и вообще, – он резко встал и взял тарелку, – я на кухню пойду… Пусть этот здесь жрет, раз он завладел домом моих родителей… Мое место на кухне… И это закономерно… Мой отец был сталинский холуй и стукач, а теперь мою сестру выдали замуж за стукача… Это уж по династии. Простить себе не могу, что тогда в камере я по интеллигентской хлипкости моей испугался и закричал. И не дал задушить, уничтожить… Простить не могу… А теперь моя сестра замужем за этим… Я, собственно, не к вам, – крикнул он совсем уж громко, повернувшись к родителям, – я к сестре, к племяннику… К мужичку русскому… К нашей обновленной крови… А вы живите с этим стукачом… Но я добьюсь через суд, что Иван будет носить нашу фамилию, а не этого иуды…
И, явно нажимая, чтоб оставить на паркете грязные следы, Коля с тарелкой в руках прошел на кухню. Было похоже, что речь эту он готовил заранее, но, увидав меня, смешался от ненависти и то, что готовил, выговорил лишь кусками и не по порядку, добавив многое экспромтом. Разумеется, Рита Михайловна заплакала и побежала следом за сыном, это как раз меня не удивило. Удивило меня поведение журналиста, который был хоть и удручен, но не более, чем обычно, то есть пребывал все в том же застывшем созерцательном состоянии. Для того чтоб как-то скрыться от семейного скандала, я вошел в кабинет журналиста и уселся за его стол, разумеется без всяких задних мыслей и вызова. Но вскоре дверь распахнулась, и Коля крикнул отцу:
– Приятная картина!.. Посмотри, папа, дорогой!.. Наконец-то твой стол используется по прямому назначению… Наконец-то за твоим столом без всяких художественных прикрас пишут доносы в КГБ… Интеллигенция вшивая, мерзавцы!..
После этого он закурил «Беломор», плюнул на паркет и ушел.
Разумеется, в действиях Коли, несмотря на всю крайность и обнаженность формы, а может и благодаря ей, проглядывало все то же юношество, все та же быстрота выводов и тяга к силе, честной суровости и честному протесту. Все это лишено было серьеза и выглядело игрой, но в этой игре Коля, насквозь простуженный в ночных сменах строительными сквозняками, кашлял без всякого наигрыша. Он действительно похудел от дурной пищи всухомятку и действительно полон был ненависти к своему «интеллигентному» происхождению.
В тот же день к вечеру с дачи вернулась Маша с Иваном Цвибышевым, дитем насилия. Со мной Маша держалась холодно, но просто и откровенно. Она позволила поцеловать себя в щеку, после чего сказала:
– Ты не мог бы погулять часа три? Пойди к знакомым… Лучше всего к женщине…
Последнее меня особенно рвануло за сердце, но я подавил боль и не показал виду. Тем не менее сдержаться я до конца не смог и сказал:
– Очевидно, к тебе придут эти… Борцы с антисемитизмом из общества Троицкого…
– Да, придут, – спокойно сказала Маша, – Саше Иванову наконец разрешили проживание в Москве. После освобождения он ведь жил в Калуге, а сегодня приехал, поэтому я и вернулась с дачи… Задержимся мы не очень долго, максимум до двенадцати ночи. – Она посмотрела на меня и добавила: – А о тебе ходят неприятные слухи… Но я не потому прошу тебя уйти, просто чтоб не было посторонних… А на доносы нам наплевать, ибо скрывать нам нечего.
– Хорошо, – сказал я, надевая пиджак, – я уйду… Маша вдруг снова пристально посмотрела на меня.
– Ты похудел, – сказала она, – у тебя какие-то неприятности?
– Да, – ответил я, – но, думаю, обойдется.
– Личные или служебные? – спросила она.
– Служебные, – ответил я, с напряжением и жадностью ловя крупицы тепла, мне предназначенные и от Маши исходящие.
– Тогда легче, – сказала Маша, – пойди к любовнице.... Если хочешь, на всю ночь.
– Хорошо, – ответил я, тщетно ища в прямом Машином взгляде то, что мелькало или почудилось мне секунду назад, – но не на всю ночь, я вернусь после двенадцати ночи, можно?
– Разумеется, – ответила Маша, – мы надолго не затянем.
– Кстати, – сказал я, – меня просили передать, что Виталий стукач.
– Знаем, – сказала Маша, – он давно исключен из общества, но спасибо за предупреждение. Кстати, я слышала о дебошах и оскорблениях Коли. Больше он не посмеет, обещаю тебе.
Я вышел хоть и не совсем освободившись от тяжести на душе, но думая с жадностью о Маше, которую не видел более месяца и которою был совершенно опьянен. А в опьянении все проще получается.
Первым делом, позвонив из телефона-автомата, я сразу же наткнулся на Степана Степановича. Уже по мягкости, с которой он отозвался, узнав меня, я понял, что просьбу мою о помощи вполне можно изложить. Правда, я не знал, как это сделать по телефону, но и здесь он помог, заявив, что в курсе дела, хоть и в общих чертах, что отчаиваться не следует и завтра в три, нет, послезавтра в три я вполне могу явиться к нему для беседы. Думаю, что предварительно с ним уже говорил капитан Козыренков, несмотря на его сомнения относительно возможностей Степана Степановича. Этот Козыренков хоть и был натурой спортивной и срывался на грубости, в общем отнесся ко мне прилично. Взбодренный всем этим, я решил три часа, на которые был изгнан Машей из дома, побродить по улицам, тем более вечер был хороший, теплый и сухой. Даже если б не произошел разрыв с Дашей, то после Машиного облика я не в состоянии был бы явиться к этой развратной женщине в ее квадратную широкую постель. Миновав палисадник у дома (я разговаривал по телефону-автомату, висевшему перед нашим подъездом), я остановился, раздумывая, в какую сторону и в какой конец переулка двинуться, чтоб выйти то ли на шумный проспект, то ли на глухие зеленые улочки. Но вдруг кто-то тронул меня за рукав.
Передо мной стоял незнакомый человек той внешности, которую в России именуют «типично еврейской», которая вывезена была из тесных местечек и которая диаметрально противоположна лесостепной славянской: мягкие, но временами цепкие глаза за стеклами очков, плотное мясистое, но явно физически слабое тело и, разумеется, большой горбатый нос. Это была та самая внешность, которая приводила не только в злобу, но и в веселость еврейских недругов и которая выработана была веками патологической, нездоровой жизни в отрыве от земли.
– Простите, пожалуйста, – сказала «еврейская внешность», – здравствуйте… Моя фамилия, разумеется, Рабинович, – здесь глаза его блеснули обезоруживающей насмешкой над собой, с помощью которой, однако, чувствовалось, он не раз заводил нужные знакомства вот так просто, экспромтом подойдя и протянув руку, – я адвокат. Вы не будете столь любезны поговорить со мной минут десять, ну от силы – двадцать.
Я глянул на адвоката Рабиновича, и мной вдруг тоже невольно овладела некая нездоровая веселость.
– Нет, – сказал я, – двадцать минут не могу и десять минут не могу… Вот три часа – это другое дело.
– Ах, пожалуйста, – сразу вспыхнул и догадался Рабинович, – это совсем хорошо… Я и не надеялся на такую любезность, хоть и хотел ее предложить. Но я боялся, что вы неправильно истолкуете. Три часа на скамеечке не просидишь. Знаете, как раз недалеко есть маленькое кафе. Но поверьте, если тебя там знают, то это лучше ресторана. Обслуживают хорошо, питание высший класс, кабинки имеются.
– Валяйте, – сказал я, глядя сверху на суетящегося адвоката и становясь все веселее от одного его вида, – валяйте… Посидим в кабинке…
Кабинка действительно была, все же остальное оказалось дрянью. Правда, в прежние голодные, экономные времена такой ужин показался бы мне роскошью и, опираясь на него, я мог бы весь следующий день прожить на сокращенном рационе из хлеба, карамели и кипятка, заприходовав тем самым и сэкономив приличную денежную сумму. Но ныне я был расслаблен сперва обедами по талонам в богатых столовых КГБ, а затем и домашним столом в семье журналиста. Поэтому я лишь наполовину съел салат из парниковых огурцов, поковырял порционный лангет, вырезав из него лишь наиболее сочные куски и оставив пережаренное мясо. Вина я вовсе пить не люблю, тем более низкосортный портвейн. Рабинович же ел все это с аппетитом, а портвейна выпил две рюмки, после чего сказал:
– Я адвокат Орлова. Насколько мне известно из протокола первого допроса, вы при этом присутствовали и участвовали в опознании моего подзащитного.
– Да, – ответил я, еще не совсем соображая, куда он клонит.
– Речь идет о некоторых юридических неточностях, – сказал Рабинович, – но прежде всего мне бы с вами хотелось говорить не об этом. Признаюсь прямо, родители Орлова, особенно мать его Нина Андреевна, да и отец тоже, специально выбрали адвоката с такой типично еврейской фамилией и внешностью.
– А сам Орлов?
– Он, разумеется, отказывается от сотрудничества со мной, но родителям удалось доказать его невменяемость, так что он лишен права выбора.
– Он абсолютно здоров, – сказал я, в упор глядя на Рабиновича.
– Ну, это не нам с вами определять, это определят медицинские эксперты. Теперь же речь о другом. Речь идет о вопиющих нарушениях, которые допустило следствие по делу смерти Лейбовича. Вы, надеюсь, честный человек нового поколения и осуждаете сталинские методы нарушения законности. Кое-что мне о вас известно, о вашей тяжелой судьбе. Поверьте, мой подзащитный тоже человек нелегкой судьбы. У мальчика с детства было развито чувство болезненной жажды справедливости. А если учесть его литературный талант и искреннюю есенинскую влюбленность в свою родину, в Россию… Вы читали, конечно, «Русские слезы горьки для врага», за подписью Иван Хлеб? Если отбросить ошибочное содержание, а сосредоточиться только на литературных достоинствах, то они несомненны… Что же касается нашего брата еврея, то среди нас немало, извините, не евреев, а жидов. Вот они-то нас и позорят. Взять хотя бы того же Лейбовича, который натянул на себя русскую фамилию Гаврюшин, русскую личину… Разве это порядочно? Казалось бы, мелочь… Но я отвлекся… В конце концов, не это меня волнует. Мы, евреи, должны быть особенно большими интернационалистами, чтоб честным трудом доказать свое право есть чужой, но братский хлеб, полученный не из рук Джойнта, а из рук братьев по классу…
От двух рюмок портвейна он несколько опьянел и говорил разбросанно.
– Что вы хотите? – прервал я его.
– Я надеюсь, вы подтвердите разночтение в первоначальном и окончательном протоколе. Налицо явные подчистки и подделки. Лейбович сам совершил преступление, стреляя в толпу и ранив рабочего, после чего и был убит толпой, действовавшей в порядке самообороны. Что же касается моего подзащитного, то действия его, конечно, подпадают под Уголовный кодекс, но только не в качестве подстрекателя убийства, как о том говорится. Разумеется, местным властям надо снять с себя ответственность за допущенные административные безобразия, вызвавшие возмущение рабочих, и они срочно ищут подстрекателя. Но вот недавно я говорил с одним товарищем, занимавшим ответственный пост в местном КГБ, хоть ныне и находящимся в отставке по болезни. Он целиком согласен, что роль Орлова преувеличена. Что же касается его высказываний, то имеется экспертиза, подтверждающая его психическое нездоровье…
Рабинович говорил и говорил, сыпал и сыпал словами, картавя и жестикулируя. Наконец я не выдержал и сильно ударил ладонью по столу, так что задребезжала посуда.
– Что такое? – сразу замолк Рабинович, словно его выключили.
– Все, – сказал я, – лангет жесткий, портвейн дерьмо, так что подкуп не удался…
И, сказав это, я вышел, оставив адвоката в растерянности. То ли от пережаренного лангета, то ли от слов и внешности интернационалиста Рабиновича, адвоката антисемита Орлова, мне было настолько гадко, что я всю дорогу плевался… Да и вообще, весь эпизод с адвокатом подействовал на меня крайне угнетающе, хоть никакого последствия для моей судьбы он, разумеется, иметь не мог. Но бывают такие случайные встречи или экспертизы, которые предвещают приближение каких-то закономерных опасностей. И действительно, вернувшись усталым в первом часу ночи, я застал в комнате моей на кровати конверт. Это было письмо от Висовина, и он приглашал встретиться завтра к семи вечера, причем не на улице, а в квартире. Адрес указывался.
У нас все спали, – видно, члены общества Троицкого сегодня разошлись ранее обычного, и напрасно я бродил так долго по улице. Возможно, вернись я не в начале первого, а в начале двенадцатого, было бы в самый раз и мне удалось бы поговорить о чем-либо, не важно о чем, с Машей, с моей фиктивной, но горячо любимой женой. Однако проклятый адвокат-интернационалист заморочил мне голову, и я не сориентировался во времени. А тут еще это письмо. Я знал, что Висовин – честный и хороший человек, более того, лишившись в свое время койко-места, я нашел приют именно у него. Но тем не менее особой тяги к нему у меня не было, а даже наоборот. И дело не в том, что некогда у них с Машей что-то было. Смешно ревновать женщину, которая тебя не любит, к тому, кого она разлюбила. Есть люди во всех отношениях замечательные, с которыми тем не менее не хочется общаться и при встрече с которыми до того чувствуешь себя несвободно, что даже в глаза им трудно смотреть. А если к тому же учесть мое положение осведомителя КГБ, которое может быть известно и Висовину, раз слухи об этом так широко распространились, то встреча с ним вообще не сулит ничего хорошего. Впрочем, если он начал ко мне дурно относиться, то разговор у нас получится. Хуже, когда отношение друг к другу хорошее, а свободы общения нет. Вот тогда-то и трудно в глаза смотреть, а во враждебности это проще. Итак, завтра к семи я решил явиться, а там будь что будет. Ну разумеется, не сразу решил, ибо, когда решение во мне твердо установилось, уже посветлело окно и раннее летнее солнце заблистало на подоконнике и стене. Из-за двери доносились шаги квартирной труженицы Клавы, а за стеной несколько раз всплакнул Иван, дитя насилия, и послышалось сонное бормотание укачивающей его Маши.
Глава седьмая
Висовина я первоначально не узнал, до того он изменился. Кроме него, в квартире по указанному на конверте адресу находилась какая-то молодая пара – похоже, муж и жена. (Что подтвердилось.) Причем муж чем-то, пожалуй землистым цветом кожи и тревожным блеском глаз, походил на Висовина. Я заметил, когда мы уселись за стол, жена взяла мужа крепко за руку и так держала, не выпуская. Его звали Юлий, а ее Юля. (И здесь не совсем нормальное сочетание или совпадение.) Озадачило меня, но одновременно и обрадовало то, что Висовин меня ни о чем не стал расспрашивать, хотя бы для приличия, как водится меж людьми знакомыми, а тем более связанными какими-то делами, но внезапно расставшимися. (Висовин ведь исчез внезапно. Как теперь выяснилось, помещен был в психиатрическую больницу.)
– Гоша, – сказал мне Висовин, – конечно, исторические процессы закономерны и необратимы, но напрасно сбрасывать со счетов и личный момент.
Он начал с середины, что подтверждает известную неправильность его поведения.
– В сегодняшней России гораздо больше людей, стремящихся к высшей власти, чем это кажется на первый взгляд, – высказался и Юлий.
Мне стало не по себе, и я подумал, что эти два психически неправильных человека умышленно пригласили меня, чтоб в лучшем случае надо мной посмеяться, ибо в словах Юлия я усмотрел намек в свой адрес. Я уже внутренне терзал себя за то, что откликнулся на письмо и согласился приехать, причем на окраину, в недостроенный микрорайон. Я оглянулся на двери и решил без всяких объяснений встать и уйти, но Висовин, кажется, разгадал мой жест.
– Юлий, – прикрикнул он на партнера, – перестань говорить не по существу… А ты, Гоша, странный человек. Ведь я верю в твою внутреннюю честность, что бы там ни говорили. (Значит, он не так уж прост. Значит, обо мне что-то говорили. Значит, он проверял, но не поверил или пренебрег.) – Гоша, – сказал Висовин, – вот перед тобой человек, который написал гениальный трактат «Нужна ли Россия в двадцать первом веке?», – и он указал на Юлия, который после этих слов как-то особенно тревожно дернулся. – Трактат этот писался ночами, при свете луны, – продолжал Висовин, – на обрывках газет и туалетной бумаги… Писался, когда другие больные спали. Я случайно подглядел, и меж нами чуть ли не драка произошла. А потом мы подружились. Но ныне трактат похищен.
– Кем? – спросил я, невольно, сам того не сознавая, попадая в предложенный мне ритм и утрачивая контроль над реальностью.
– Русскими национал-социалистами, – ответил мне Висовин, – штаб-квартира на станции З-ская, Московско-Курской железной дороги, куда мы с тобой сейчас и отправимся, ибо мне удалось войти к ним в доверие. Я член Большого партийного ядра, как это у них называется… БПЯ…
После ранения черепа во время экономического бунта я, перенеся операцию, некоторое время подвергался и психотерапевтическому лечению. Поэтому я знал, что такое делириозное состояние, характерное наплывом сценоподобных иллюзий. Причем делириозное расстройство обычно усиливается к вечеру, как это и случилось в данном случае. Из всего сказанного я извлек лишь тот факт, что есть возможность и повод покинуть сейчас эту опасную квартиру. Что же касается моих профессиональных навыков, уже выработавшихся за время моего сотрудничества с КГБ, то в данном случае они полностью дремали, так нелеп был предложенный мне антигосударственный материал. Но для того, чтоб продолжить игру, я сказал:
– А Юлий не пойдет?
Висовин посмотрел на меня с искренним удивлением.
– Куда? – спросил он, – что ты такое несешь? Ведь он еврей…
– Ах, прости, – нашелся я тут же.
– В том-то и дело, – сказал Висовин, – кроме тебя, у меня нет никого для этой важнейшей акции…
«Значит, предстоит какая-то акция», – с тревогой подумал я.
Был ненастный летний вечер, хлестал дождь, и ветер был резок, особенно здесь, на окраине, где царила сырость и чувствовалась близость Москва-реки. Висовин держал в руках маленький чемоданчик, изредка прикрывая им лицо от особенно сильных порывов дождя и ветра. С двумя пересадками на автобусе и троллейбусе мы добрались до площади Курского вокзала, а оттуда ехали полчаса на электричке. И все это почти молча, лишь изредка обмениваясь незначительными репликами. Наконец мы вышли на пригородную платформу, слабо освещенную фонарями. Дождя здесь не было, но он, видно, кончился совсем недавно, ибо асфальт был мокрый, а от ветра рябило наполненные до краев лужи. Мы спустились с платформы и пошли по узкому переулку среди садов и собачьего лая.
– Боброк его фамилия, – шепнул мне Висовин, – Алексей Боброк… Вернее, Кашин, но Боброк – это он сам придумал… Русский витязь… А второй, Калашник, – правая рука его. Оба в той же психиатричке сидели, что и мы с Юлием… Этот Калашник и похитил трактат… Все, теперь молчи и слушай… Боброк этот мне доверяет. Я его выручил, когда в туалете психиатрички его избивали за какую-то половую пакость.
Мы прошли еще некоторое время молча, свернули за угол и остановились перед крепкими железными воротами. За воротами яростно хрипели, исходя лаем, сразу несколько собак. Висовин нащупал во тьме кнопку электрического звонка и нажал его трижды, потом подождал и снова – дважды, потом опять подождал и один раз, но продолжительный. Послышались шаги, и какой-то мужчина спросил:
– Кто?
– От Алексея.
Загремели запоры.
– Опаздываешь, – проворчал встречающий и глянул на меня.
– Это со мной, – сказал Висовин, – из щусевских… Я Алексея предупредил…
Встречающий был в зимнем армяке, наброшенном поверх майки. Это меня удивило, но вида я не подал, а, опустив голову, прошел мимо многоголосого собачьего лая к двухэтажному дому загородного дачного типа. Миновав освещенную веранду, где сидели две кошки и старуха мыла у самовара стаканы, мы прошли обширную комнату, погруженную во тьму, так что убранства ее я не разглядел, и принялись подниматься деревянной лестницей наверх, пока не уперлись в дверь, на которой висел тяжелый замок. Но сопровождающий нас мужик (именно мужик, таков был его вид) сунул в замок ключ и, отперев, пропустил нас внутрь. Я слышал, как замок за нами защелкнулся. И тут уж тревога окончательно овладела мной, еще даже с того момента, как я поднял глаза и увидел перед собой большой портрет Гитлера. Портрет этот, исполненный в карандаше, очевидно срисованный с фотографии, убран был двумя полотенцами, покрытыми русской вышивкой, а на небольшом столике перед ним трещало множество церковных свечей. На деревянной избяной стене, помимо портрета Гитлера, висело бело-коричневое знамя с зеленым кругом посредине, в котором была белая свастика, а также висело несколько географических карт. Это все первоначально бросилось мне в глаза. Лишь спустя какое-то время я разглядел помещение. Это было нечто вроде утепленной веранды второго этажа с одной стеклянной стеной, сейчас плотно занавешенной. Царил здесь приятный запах сушеных фруктов и вообще хорошо проветриваемого чистого продуктового склада, каковой ранее, очевидно, здесь и располагался. Посреди комнаты стоял плетеный дачный стол старого образца и такие же старые плетеные, скрипучие стулья. За столом сидели пятеро: женщина и четверо мужчин, но я сразу же, еще до представления, определил Алексея Боброка, хоть одет он был, как и все остальные, в белую рубашку с черным галстуком, а на рукаве его была красная повязка с белой свастикой. Лицо его было бледно и как бы измучено постоянным напряжением изнутри, и он явно был подвержен дисфории, приступообразно возникающим расстройствам настроения. В отличие от остальных членов БПЯ, когда мы вошли, он выбросил руку в стандартном нацистском приветствии, как-то мягко и словно бы поглаживая ладонью воздух перед собой.
Мне уже приходилось сталкиваться с ритуалами подполья крайнего толка, хотя бы в организации Щусева, когда присягу подписывали собственной кровью из порезанного пальца. Но там это все-таки носило характер придумки, рассчитанной на юнцов, каковыми Щусев хотел первоначально заполнить организацию. Здесь же костюмированные ритуальные условности были доведены до состояния горячечной веры, и без них все остальное было бы попросту невозможно. Убери эти символы, свечи, значки, рубашки, портреты, каким-то образом изготовленные, и БПЯ русского национал-социализма превратилось бы, даже по их собственным внутренним ощущениям, в кучку дачников и загородных жителей, собравшихся потолковать на пахнущей сушеной вишней чистой веранде. Манерность и поза необходимы для тех движений, где значительную часть политических доказательств составляет доступная массе политическая поэзия.
– Алексей, – сказал Висовин, также выбрасывая в нацистском приветствии руку, – Алексей, вот рекомендую, Георгий Цвибышев, вместе состояли в организации Щусева. Рекомендую и поручаюсь.
– Ах, это тот, – сказал Боброк скороговоркой, – идеалист Щусев… Это оттуда…
И Боброк глянул на меня большими, напряженными, расширенными зрачками. Бесцеремонно разглядывая меня (у меня при этом по спине книзу потекло нечто холодное), бесцеремонно разглядывая меня несколько минут (а может, и меньше, время для меня тянулось слишком уж тяжело), Боброк наконец протянул влажную свою ладонь, которую я пожал. Самое интересное, что и здесь была полемика в духе времени, и здесь были споры и отсутствие единства даже внутри БПЯ. Помимо ядра, в предполагавшейся структуре построения русской национал-социалистической партии были орбиты: член орбиты первого порядка, второго порядка и так до тысячного… Большинство членов Большого Ядра подвергались лечению либо состояли на учете в психдиспансере, но, например, член Большого Ядра Сухинич на учете не состоял, а, наоборот, был «в миру» преподавателем литературы в железнодорожном техникуме. Он-то и выступал, и его выступление мы прервали своим приходом.
– Вспомните, – продолжал он, когда мы уселись, – вспомните великую сцену у Достоевского… Кощунство и надругательство над иконой русской Богородицы… Жидок Лямшин, пустивший живую мышь за разбитое стекло иконы… И как народ толпился там с утра до ночи, прикладываясь поцелуем к оскверненной русской святыне и подавая пожертвование для покрытия церковного убытка.
– Глупости, – выкрикнул вдруг Боброк, вскакивая, – нас не интересуют ваши литературные примеры… Вы ошиблись дверью, Сухинич… Мы современная партия, а не музейная рухлядь… России грозит современный еврейский заговор, а не какие-то там мыши в иконах…
– Но ведь опора на великие национальные антижидовские традиции России необходимы, – начал было Сухинич.
Однако Боброк в ответ побагровел и топнул ногой. Тут же какой-то жилистый человек, очевидно тот самый Калашник (как выяснилось, возглавляющий в БПЯ службу безопасности), тут же Калашник, перегнувшись через стол, молча глянул на Сухинича, и тот осекся. Отсюда можно было сделать вывод, что полемика хоть и существовала, но в принципе все-таки на завершающей стадии БПЯ находилось на грани полного единовластия Алексея Боброка-Кашина.
– Изучайте еврейские взгляды современности, – сказал Боброк уже спокойнее и прохаживаясь вдоль стены, где висели географические карты. – Вот трактат, – и он, выдвинув ящик, схватил кипу каких-то нечистых бумаг. – «Нужна ли Россия в двадцать первом веке?»… России в двадцать первом веке более некуда вширь – с одной стороны она уперлась в Китай, в желтую расу, с другой – в Европу, в еврейский утилитаризм… Наш еврейский враг точно подметил, что суть России – это движение… Мы кочевой народ, мы империя… Даже большевики вынуждены были считаться с нашей национальной сутью… Однако, правильно поняв национальную суть, они вступили в противоречие с национальной практикой и своей идеологией связали силы народа… Большевики опасны тем, что они точней других нащупывают нашу национальную суть, но извращают ее в своих интересах. Я не согласен с нашими славянофилами, копающимися в старой рухляди и выискивающими идеи у какого-нибудь Владимира Красное Солнышко… Зачем искать идеи, если великая идея уже существует… Но идея эта должна лишь возбуждать наше славянское воображение… Во всем остальном должна преобладать наша русская энергия… Мертвый, но вдохновляющий Адольф Гитлер и живой могучий Илья Муромец… – Он быстро подошел к картам и, взяв лежащую здесь же, очевидно заранее приготовленную, указку, принялся водить по Европе, Америке, Китаю. Однако, побродив по картам не более минуты, он тут же бросил указку и повернулся к нам. – И тем не менее, – сказал он, – главный участок нашей борьбы – это внутренний фронт. Мы будем идеалистами и болтунами, если не выдвинем четкой и понятной каждому русскому человеку положительной программы. Основной смысл нашей программы – вернуть крестьянству России его главенствующее положение. В этом наша русская специфика, наш русский национал-социализм. Колхозы распускаются – это должен быть первый акт любого национального правительства России. Крестьяне наделяются землей. Русский трудовой рабочий должен быть почетным членом общества, но в политическом и нравственном смысле руководящая роль у крестьянина. Центр политической жизни должен быть перемещен из города в деревню. Далее, хозяином России может быть только русский человек. Все остальные могут жить и получать определенные права, признав этот основной принцип. Далее – евреи должны быть открыто и ясно объявлены не нацией, а исторически сложившимся преступным сообществом, отбросами и отходами всех наций и рас… Их вакханалии в России должен быть раз и навсегда положен конец… Евреи, – в этом месте он особенно сильно рубанул воздух ладонью, словно пронзая ненавистное ему слово, – евреи должны быть уничтожены, как во время эпидемий уничтожают заразных насекомых вместе с их личинками… Огнем, керосином, ядовитым порошком… Поднимайся, русский народ, беги на площадь, ударь в набат!..
Это был максимум, предельный всплеск энергии. Речевое возбуждение его достигло предела, голос был охрипший, но глаза блестели и вообще все движения были целенаправленны.
– Я вижу Россию двадцать первого века избавленную от лицемерия, – говорил он, – от большевистского лицемерия… Свежую, молодую, без примеси семитского яда в обновленной крови…
Он опять замолк и некоторое время стоял, снова схватив указку, но держа ее опущенной и глядя при этом на географические карты.
– Если это не произойдет, – сказал он уже тихо, – тогда на огромном теле умирающей России явятся десятки мелких инородных хищников-паразитов и начнется процесс от объединения к раздробленности… Но и тогда, – он снова возвысил голос, – но и тогда будет новое объединение, пусть на иной основе и вокруг новых русских центров… Русь, отбросив еврейские путы, станет над миром… Русь, восстань!..
Последнее он выкрикнул уже в изнеможении, с побагровевшим лицом, после чего, совершенно обессиленный, рухнул на руки Калашнику, начальнику службы безопасности БПЯ, успевшему подбежать заранее. Следом за ним подбежала женщина, очевидно стенографировавшая высказывания Боброка, и вдвоем они увели своего обессилевшего вождя в какую-то боковую дверь. На этом короткое заседание Партийного Ядра закончилось, и мы разошлись, соблюдая конспирацию, по одному, по два.
Должен заметить, что во время заседания я находился в той эмоциональной заторможенности, которая напомнила мне мое состояние во время пребывания со Степаном Степановичем во внутренней тюрьме при посещении умирающего Щусева. И дрожать я начал так же, лишь оказавшись на улице, где опять шел дождь. Состояние было такое, что ночной подмосковный поселок этот, с собачьим лаем, лужами и редкими фонарями, внушал мне страх гораздо больший, чем если бы я, выйдя, оказался в обстановке, более соответствующей только что увиденному и услышанному, – например, на широкой яркой площади, заполненной счастливым, беспощадным народом. Очевидно, из членов БПЯ большинство были местные либо ночевали в поселке, поскольку к электричке вышли только мы с Висовиным. На пустынном перроне шла какая-то бытовая пьяная драка с матерщиной, падением тел и треском рвущейся одежды. Но мы благополучно миновали дерущихся, которые на нас не обратили внимания, и пошли в дальний конец, к фонарю.
– Я их взорву, – сказал вдруг Висовин, – всех вместе… Уничтожу… Вот только трактат Юлия выручу и взорву… Ты трактат почитай… Он не против России, он с горечью, хоть и со стороны, хоть это и горечь постороннего, но ты прочти…
Я посмотрел на Висовина. Глаза у него были нехорошие, замутненные.
– Как взорвешь? – переспросил я.
– В том-то и дело, как? – сказал Висовин. – Если б граната, даже и лимонка, не говоря уже о противотанковой, ты бы мне не понадобился… Да вот придется самодельной… Но ты не волнуйся, тебе это не грозит, ты помещение заранее покинешь… Я все сделаю, дача легкая, разнесет…
Я понимал, глядя на нехорошее лицо Висовина, что разубеждать его бесполезно, но все-таки сказал:
– А может, лучше предупредить?
– Ах, ты об этом, – сказал Висовин, – донести… Нет, во-первых, это не в моем характере, а во-вторых – ну, поместят их опять в психбольницу, потом опять выпустят… Взорвать их надо… Ты мне только помоги взрывчатку принести… Самоделка – значит, два чемодана, мне одному не справиться…
На площади Курского вокзала мы с Висовиным расстались, договорившись снова встретиться через два дня по тому же адресу, то есть у Юлия.
Утром я, разумеется, явился в КГБ к капитану Козыренкову. Он выслушал меня внимательно, делая по ходу моего изложения какие-то пометки, а потом сказал:
– Молодец… Если только подтвердится, можешь считать, что оправдался… Ах, мерзавцы, мерзавцы… Если все это выплывет… Фашизм в Подмосковье. Да еще покушения, взрывы. Ведь это для западной прессы, для наших идеологических врагов конфетка… Тем более зарежут они еще какого-нибудь еврейчика, и шум на всю Европу. – Он тут же, при мне, начал звонить куда-то по телефону.
Операция по задержанию была назначена на тот же вечер, когда я условился встретиться с Висовиным, то есть на послезавтра. Как это произошло, помню обрывками, ибо, несмотря на кажущееся спокойствие, все-таки с того вечера я был в состоянии нехорошем и несколько раз ночью чуть ли не срывался то ли на громкий смех, то ли на громкие рыдания, так что вынужден был лежать лицом вниз, чтоб с помощью подушки заглушить вопль смеха или рыдания, который мог испугать спящих в соседней комнате Машу и Ивана.
Тот вечер был тоже дождливый. (Иногда в погоде вдруг является сознательный порядок и цикличность: утром солнце, к вечеру обязательно дождь. И так подряд недели две.) Мы с Висовиным вышли, держа в руках по тяжелому портфелю. (Не знаю, что у Висовина, в моем же портфеле явно бутылки, может быть с горючей смесью.) Не успели мы отойти далеко, как мимо нас проехала милицейская машина. Я понял: это чтоб арестовать Юлия, автора трактата о ненужности России в XXI веке. Меня такая поспешность покоробила, но, к счастью, Висовин, занятый своим, не обратил внимания на чересчур поспешно принятые меры по задержанию хозяев его квартиры. (Была арестована также и жена Юлия, как выяснилось.) По дороге я вел себя неправильно. Вместо того чтоб своевременно достигнуть пункта назначения, доставив фактически Висовина вместе с вещественными доказательствами к общему протоколу, я внезапно отвлек его опасным разговором, а именно – поделился своей прошлой мечтой когда-либо возглавить правительство России.
– Эх, милый, – сказал Висовин и положил мне руку на плечо. (Дело происходило уже на пригородном перроне, но мы не торопились уходить, а, наоборот, стали разговаривать, воспользовавшись безлюдьем в вечернее ненастье.) – Эх, милый ты мой, сердце человека всегда враждебно Богу.
– Ты разве в Бога веришь? – сказал я. – Какие глупости.
– Это верно, – сказал Висовин, – но я все уже в жизни перепробовал и во все уже верил… Кроме Бога, ничего не осталось.
– А я вот Россию ненавижу, – во второй раз доверил я вслух эту опасную тайну постороннему. (Первый раз, как известно, осведомительнице, публичной девке Даше.)
– Вот чему уж завидую, так завидую, – с тоской сказал Висовин, – хорошо бы возненавидеть Россию… Все равно что умереть… Легко сразу вдруг, просто… Но не получается у меня… И Россию люблю… И жить хочу…
Вот в таких разговорах мы и потеряли тот запас времени, который был оговорен и был мне предоставлен. Поэтому в штаб-квартиру русского национал-социализма мы прибыли чуть ли не одновременно с оперативными работниками КГБ. Но к счастью, все-таки несколько раньше и успели войти на второй этаж, где перед портретом Гитлера, украшенным русскими вышитыми полотенцами, по-прежнему горели церковные свечи и вождь движения Кашин-Боброк стоял перед географической картой, тыча указкой в разные части мира, то забираясь в Китай, то двигаясь по Индийскому океану, а то и пересекая в разных направлениях Европу. Снова произошел обмен нацистскими приветствиями, и мы уселись, причем Висовин сумел расположить портфели с самодельными бомбами в непосредственной близости от Боброка. И тут же раздался обычный в таких случаях окрик:
– Всем оставаться на местах!
После чего работники КГБ, явившиеся точно согласно распорядку, приступили к работе, то есть осмотру, обыску, обезвреживанию взрывчатки, опечатанию захваченных материалов и препровождению задержанных к машинам. Операция проходила без особых инцидентов, за исключением, разумеется, стандартной попытки плюнуть мне в лицо. Причем я ожидал плевка от вождя русского национал-социализма, а плюнула женщина, его секретарь и, безусловно, сожительница. Женщина эта, неопределенного возраста, со следами сексуального напряжения на лице, неожиданно рванула платье у горла, обнажив свою грудь, правда прикрытую бюстгальтером, и с криком: «Иуда-большевик!» – плюнула. Причем изо рта у нее потекла слюна также и по подбородку, и вся она, особенно сморщенная шея, были настолько отвратительны и неженственны, что я в ответ на плевок сильно ударил ее по лицу, разбив его в кровь, чего обычно в таких условиях не делаю… Что же касается самого Кашина-Боброка и остальных членов БПЯ, то они сопротивления не оказали и, подчинившись властям, покинули помещение. Вывели и Висовина. Я же остался в верхнем помещении, помогая снимать со стены географические карты, на которых большие участки Китая, вся Европа, Турция и часть Канады были заштрихованы и включены в состав Российской национал-социалистической империи. И вот тут-то и случились выстрелы. Сперва один, а потом три подряд. Двое работников КГБ, занятых со мной в верхнем помещении обработкой и опечатыванием захваченных антиправительственных материалов, обнажив личное оружие, тотчас же бросились к двери, я следом за ними. На лестнице, меж этажами, лежал в неудобной позе, умирая, Висовин. Как я выяснил позднее, Висовин, применив десантный прием, выхватил у одного из оперативных работников револьвер, чтоб убить Кашина-Боброка, и даже выстрелил, но промахнулся и ответными выстрелами оперативных работников был убит…
Некоторое время спустя в компаниях определенного толка явился подпольный некролог на смерть Висовина примерно в том же литературном стиле, в каком он явился на смерть скульптора Андрея Лебедя. Но это уже позднее. Тогда же я остановился на лестнице с совершенно, как мне казалось, разом охладившейся грудью, буквально охладившейся до телесного озноба, до омертвления, и так стоял, застывши и мешая подойти к телу. Наконец тело унесли двое сотрудников: один держа за ноги, второй – за спину, то есть неся умершего поперек, чтоб не испачкаться о его сильно окровавленную голову. Я пошел следом, миновал старуху с кошками внизу у самовара и, выйдя на крыльцо, понял: все… хватит… Довольно и я пожил…
О смерти слишком много говорят дурного, а разве же она того достойна?.. Милая ты моя спасительница, подумал я чуть ли не с умилением. И с того момента не переставал думать о смерти как о спасительнице.
Голова моя первоначально сильно болела, причем не надо лбом или в затылке, а сразу во всех ее частях, всплошную, но когда, добравшись домой (подробностей не помню), я улегся наконец в одиночестве, обдумывая план спасения, то голова разом прошла, также сразу и во всех частях. Причем улегся я не скажу в хорошем, но во всяком случае ясном расположении души. Однако, поработав над вариантами продолжительное время, чуть ли не до утра (были самые длинные дни года, и солнце восходило рано, почти в четвертом часу), поработав эдак, я понял, что и здесь для меня легко не сложится… Проще убить себя, когда цепляешься за жизнь, когда любишь жизнь и весь измучен эмоциональной борьбой. Тогда на порыве можно убить себя, дождавшись тоскливого приступа, даже обыкновенным кухонным ножом. Я несколько раз подвергался таким приступам и лишь теперь понял, как был тогда близок к смерти. Но попробуй убей себя сейчас, когда о смерти думаешь с надеждой, как о спасительнице, а каждая минута жизни тягостна и считается навеки потерянной. Когда жизнь – убогая правда, смерть же – мечта. Попробуй достигни этой мечты просто и без препятствий. Оружия у меня никакого не было, а в таких случаях, как я понимаю, хорош револьвер. Даже и при неумении обращаться с ним можно изловчиться и выстрелить с одного раза удачно на основании общих сведений и литературных знаний. Стреляй в рот – и не промахнешься, хотя в рот я бы не решился. Лучше всего в сердце. Приставил к левой части груди, а сам засмотрелся на какой-либо предмет: настольную лампу, стенную литографию или комнатное растение. А палец на спуске, нажал посильнее – только и всего. Правда, в сердце чаще, чем куда-либо, бывают промахи. Относительно того же, чтоб на комнатный предмет засмотреться, это неплохо, хоть по логике вещей лучше всего стреляться в уединенном месте. Отъехать на электричке километров тридцать и в лесу выстрелить в себя. Тем не менее, имей я револьвер, стрелялся бы в комнате, даже и не знаю почему. Беда в том, что револьвера нет. Ножом же убить себя страшно и больно. Лезвие ножа никогда не убивает наповал, это уж точно, и после даже удачного удара все равно предстоят тяжелые физические страдания. Повеситься – целая процедура, стыдная причем: пока будешь прилаживаться, сгоришь со стыда. Да еще неизвестно, приладишься ли толково. Хорош яд, но приличного яда без знакомств не достать, а снотворные таблетки могут подвести. Самое доступное, решил я наконец, броситься вниз с какой-нибудь серьезной возвышенности, каких немало в Москве. Смерть простая, без побочных приспособлений и ужаса, если не считать мгновения полета, которые тоже достаточно долгие, но тут я надеялся одурманить себя алкоголем… С таким решением я и встал. Думать мне ни о чем более не требовалось, все было отныне до смешного лишнее и ненужное. Даже услышав сонные вздохи Маши за стеной, я удивился, как эти ничтожные ночные звуки ранее меня умиляли. Отныне жизнь моя нужна была мне лишь для того, чтобы использовать ее деятельность для спасения в смерти. Осторожно встав (было еще так рано, что даже труженица Клава спала) и не теряя времени на то, чтоб одеться, поскольку улегся с вечера в одежде, я покинул комнату, даже не оглянувшись и не оставив никакой предсмертной записки (предсмертные записки оставляют те, кто любит жизнь), а также не взяв ничего из принадлежавших мне вещей. Так покинул я дом журналиста, который, кстати говоря, уже некоторое время отсутствовал, увезенный в какой-то санаторий закрытого типа.
Небо было чистым, но воздух пасмурен и сер, оттого что солнце еще пряталось за домами. Летние ранние рассветы действуют на меня странно. Город светел, как в разгар зимнего или осеннего дня, но по-ночному пустынен и производит впечатление какой-то внезапной массовой катастрофы, коснувшейся лишь людей, но не тронувшей ни зданий, ни растительности. В таком душевном состоянии и в такой обстановке вид идущего тебе навстречу человека всегда радостен. Тем более он радостен, когда, подойдя ближе, узнаешь в нем знакомого. Это был Коля. Это была огромная удача. Вот единственно с кем хочется из ныне живущих и остающихся жить после меня поговорить, объясниться и объяснить если не всю мою жизнь, то хоть что-либо из нее.
– Коля, – сказал я несколько с большим, чем следовало, пафосом, протягивая к нему руки и понимая, что жест мой со стороны выглядит неправдой, – Коля, нам надо объясниться.
– Только не здесь, – сказал Коля.
Он тоже, как мне показалось, был обрадован встречей со мной, но в действительности просто взволнован от мысли, что мог со мной разминуться. И действительно, он невольно в тревоге спросил:
– Куда так рано?
– Это потом, – сказал я, поморщившись, – знаешь, вчера умер Христофор.
– Знаю, – сказал Коля и глянул мне прямо в глаза, – это ты убил его, стукач…