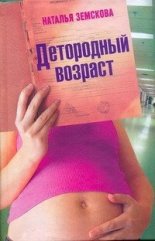Тишайший Бахревский Владислав

– Спасибо тебе, добрый человек! – Лазорев прижал обе руки к груди, поклонился Мехмеду.
В кофейню пришел меддах. Постелил коврик, попросил кофе, отпил глоточек и, раскачиваясь, повел россказни.
– Если масло горькое, то и пилав будет горький, если не у кого спросить, спроси у самого себя, если скажут, что на небе свадьба, – женщины попросят лестницу. Не бывает моря без волн, дверей без петель, девушек без любви. Было – не было, жил-был царь. Всем тот царь угодил, да только не было у него детей…
Анкудинов изредка переводил Лазореву на ухо несколько фраз, но переводил хитро.
Меддах рассказывал, как некий факир дал царю плоды инжира, и когда царь и царица съели эти плоды, то у них родился сын. Царь воспитывал его вместе с сыном пастуха, который родился в тот же день, а потом отдал обоих мальчиков на воспитание пастуху. В сказке было много приключений. Царевичу наговорили на пастушонка, и тот пожелал съесть его сердце, но ему подали сердце козла. А потом названый брат помог царевичу заполучить красавицу, трижды спас от смерти, но сам обратился в камень.
Анкудинов, хмыкая, нес чепуху, но глаза у него глядели трезво.
– У царя не было детей, но факир посоветовал царю положить в постель осла, и царевич родился. Только был тот царевич истинный осел, и царь отправил его на воспитание к пастухам… А царевич влюбился в заморскую корову… Один дурак взялся ему помогать. Помочь помог, но превратился в коровью лепешку.
Лазорев морщился и наконец легонько сверху стукнул Анкудинова по плечу.
– Хватит дурость пороть… Я, пока в Крыму жили, ждали корабля, малость по-ихнему научился. Хоть всего не понимаю, но что ты меня дурачишь – понял.
Анкудинов засмеялся, встал, подошел к меддаху, который, закончив сказку, собирал деньги.
– Меддах, дозволь мне залить! Если мою сказку пожалуют подаянием, до последнего акче тебе отдам.
Меддах показал жестом на свой коврик: попробуй, мол.
– Костя! – крикнул Анкудинов по-русски. – Ты нашему другу слово в слово за мной переводи.
Анкудинов сел на коврик, заиграл глазами.
– Не в бороде честь – борода и у козла есть. Ох, не буди спящего льва, но кто не падал с лошади, тот лошадь не оседлает. Было – не было, но ведь было! А что было, того не изжить. Эх, пока жеребенок не подрос, за него не дадут цену взрослой лошади. Жил-был царевич, да только про то, что он царской крови, знал его приемный отец-бедняк да один мулла. Самозваный царь той страны искал своего соперника, посылал верных слуг с черным словом в душе, с ножом за пазухой. Не нашли царские слуги царского сына. А когда тот вырос, мулла взял его к себе, стал учить грамоте да уму-разуму. Чего другие за год познают, царский сын – за день. Стал он гораздо умен и учен, тогда мулла женил его на своей дочери и, отпуская от себя в столицу, открыл ему великую тайну. Приехал царский сын в столицу, а там его не ждут, все места кормовые заняты, и попал он в писари. Трудился, царапал перышком, стали повышать по службе, да только опостылела ему такая жизнь. Все опостылело! Даже собственная жена. Запер он ее в доме, дом зажег и убежал в соседнее царство. В соседнем царстве поверили, что он истинный природный царь, но вспомнили, что его отец воевал против ихнего короля, – неласковый был прием чужестранцу. И бежал он тогда в Молдавию, молдавский князь напугался и отправил его ко двору великого падишаха.
Глаза у Анкудинова светились ровным синим огнем, но вдруг замерли, словно под лед ушли. Замолчал Анкудинов. Посетители кофейни вежливо ждали продолжения рассказа.
– Нет, меддах! Куда мне против твоих сказок! Забыл конец.
Анкудинов засмеялся, встал с коврика, подошел к Лазореву.
– Да и нет конца у моей сказки.
– Потом вспомнишь, – утешил Анкудинова мастер Мехмед. – Давайте еще выпьем, и я пойду, заждалась меня Элиф.
Мастер Мехмед заплатил Сулейману за все выпитое вино и ушел.
– Вечереет, – сказал Лазорев. – Мне тоже пора.
– Нет, ты погоди! – Анкудинов, кривя рот, потянулся рукой к вороту Лазорева.
Лазорев отстранился.
– Я вспомнил, – сказал он. – О Тимошке Анкудинове говорили, что он побежал в Литву воровать. Ты и есть?
– Я и есть.
– Это про себя, что ли, ты сказку сказывал?
– Люблю догадливых. А в царях буду, всякому догадливому от меня награда будет. Поступай ко мне на службу, Андрюша. Ты веришь, что я природный русский царь?
– По таким, как ты, пушка плачет.
– Какая пушка?
– Обыкновенная, московская. Таких, как ты, надо в костер, а прах – в пушку, чтоб и дух развеялся.
Лазорев задвигал ногами, чтобы встать.
– Нет, ты погоди!
– Чего мне годить? За вино, чай, заплачено.
Лазорев встал и пошел на улицу, Тимошка кинулся за ним следом.
– Богом тебя прошу, погоди!
Лазорев остановился.
– Я думал, тебя подослали. – Анкудинов сдавил пальцами виски. – Не царский я выродок. Чего мне перед тобой, хорошим человеком, выламываться? Тимошка я, Демкин сын.
Они пошли рядом.
– Сломалась у меня жизнь – сам не заметил как. Смелости не хватило ответить за малую неправду, вот и накрыл ее неправдой большой, а большую пришлось в огне спалить… Эх, Андрюша, не горит в огне большая неправда. Вот я и впал в погибель.
– Покаялся бы.
– Ну что ты, мил человек! – Тимошка тихонько засмеялся. – Давай на горячий камушек сядем, на воду поглядим. Я как на воду погляжу, мне и легче. Эй, Костька! Ты смотри против друга моего не замышляй худого.
Лазорев оглянулся. Костька стоял у него за спиной, дрожал нехорошей дрожью.
– Кусты пойду поищу, перепил, – пролепетал Костька.
– Вот и пойди. А мы на воду поглядим. Вода течет, и жизнь течет. У воды дороги назад нету, и у меня дороги назад нету. Ты на меня, Андрюша, не серчай. Я – пуганая ворона, всего боюсь. За жизнь свою поганую боюсь. А начиналась моя жизнь не хуже, чем у других. Чего там! Удачлив я был очень. Ты сам посуди. Отец мой полотном торговал, скупал у крестьян и торговал. Мелкая была торговлишка, но отец у меня умный был человек. Разглядел, что сынок у него сметливый, к попу пристроил в учение. Грамоту я одолел быстро, а потом у меня голос оказался. Такие верха брал, что сам Нектарий приметил, архиепископ. Взял меня на службу, выдал за меня внучку… Я теперь-то жалею, бедную. Набелится, нарумянится, а все серая, как воробей. Да и была она – телушка яловая… У меня ведь сынок в Москве растет. Сережа. Со служанкой прижил. Я, брат, лихой наездник… Хочешь турчанку? Чего рдеешь? Двух турчанок? Говори честно, хочешь? Есть у меня друг – купец, мореплаватель, а жены его – все четыре – душа в душу живут. Пока муж – на паруса таращится, они, чтоб тоску заглушить… Прехорошенькие! Черноглазочки, кругленькие. Две тебе жены, две мне.
– Я человек венчанный.
– Эко! Да когда ты теперь ее облапишь, жену свою?
– Уж как Бог пошлет.
– Плохо тебе, парень, в жизни придется! – Анкудинов вдруг стал лицом серый, виски обеими руками потрогал. – Слышь? Завидую тебе. Жизнь твоя – дрянь. Ты вполовину того, в четверть не будешь иметь, чего я уже имел невесть за какие заслуги. А вот ведь завидую! Себе на удивление… Не любил я свою жену. Сначала терпел. Ночью все кошки серые. А потом возненавидел. И она тоже хороша. Чувствует, что отдаляюсь, – попреками образумить удумала. Все, мол, мои возвышения, все состояние – через нее. Так я и сам знал это. Служил я в приказе Новой четверти, у дьяка Ивана Патрикеева под началом. Иван – тоже вологодский, человек архиепископа. Был я тогда как родник чист, вот как ты. – Анкудинов захихикал, да так препротивно, что и сам из серого белым стал. – Чего в лице меняешься? Я небось один в те поры в Москве взяток не брал. И велел мне Ванька Патрикеев собирать деньги с кружечных дворов. Большие деньги через мои руки шли. А тут немочка одна дорогу передо мной юбкой подмела. Без памяти в нее втрескался. Иноземки захотелось отведать. И отведал. Когда подарочек ей принес. А потом пошло. Пил, в кости играл. Столько, брат, государевых денежек пустил по ветру, аж теперь вспомню и головой покачаю… Пришло время проверки. А я, казны не пересчитывая, знал – погублена жизнь. В яму-то неохота или в Сибирь. Побежал к куму, к Ваське Шпилькину, он в нашем приказе того же чина был, что и я. Набрехал ему, будто приезжает наш первейший вологодский купец. Дай, говорю, жемчуговое ожерелье твоей жены, а то моей перед таким гостем выйти стыдно. Дал он мне ожерелье, сережки золотые с изумрудами, два перстня: один с бирюзой, другой с алмазом. Взял я это все и продал. За большие деньги продал, а грешок свой все же не покрыл. Не хватило. Шпилькин подождал-подождал да и пришел назад свое просить, а я в глаза ему рассмеялся. Стыда я уже не ведал. В суд он меня потащил, а что суд, когда свидетелей у него не было, на честность мою, дурак, полагался. Тут жена меня принялась честить, пригрозила, что всю правду о моем беспутстве судье расскажет. Со зла ума хватило бы. Я в постель к ней в те поры уже с полгода не ложился. Вот и совершилось, злодейство. Подсыпал я грозильщице сонного порошку в квасок, сынишку отнес Ваньке Пескову, приятелю моему. Он на Лубянке в Разбойном приказе служил. Вернулся от Ваньки, собрал узел, дом запер и зажег. Мы с моей на Тверской жили, как раз возле шведского резидента. Слыхал потом – много домов погорело. Так я этого не хотел – на все ведь Божий промысел. Пусть Бог и отвечает. Пусть Он и за мое безумство отвечает. Я двадцать пять лет, как грудное дитя, невинен был перед людьми, перед собой и перед Ним, Господом Бoгом… Ты на небо не поглядывай, нет Его там. Нет Его, коли на такое человек способен. Али торопишься? Потерпи, скоро доскажу свою повесть. В другой раз такой сказки не дождешься. Плохо мне нынче… В Литву я удрал… Чтоб не выдали назад да чтоб приветили, объявил себя сыном царя Василия Шуйского. Я уже здоров был врать. Да только полякам поднадоели лжедетишки. В тюрьму меня определили. Побежал я к молдавскому князю. Его Волком зовут, по-ихнему Лупу. Да только не из волчьей он породы – из лисьей. Ох черно-бурый! Подержал он меня, порасспрашивал – и сюда, к визирю. Живу, заботы никакой не ведаю. Дом дали, слуг, кормят с визирева стола. Денег дают. – Анкудинов вдруг улыбнулся. – Чего, брат, поступай ко мне на службу. Погуляем по белу свету, да так, как никто не гуливал. Ты, я гляжу, не дурак.
Закричали с минаретов муэдзины. Лазорев вздрогнул.
– Интересная жизнь! Как петухи, только что крыльями не хлопают.
Бросил камушек в воду, встал, потянулся, окидывая взглядом огромный город.
– Что же ты меня о Костьке ничего не спросишь? – зло крикнул Анкудинов.
Лазорев повернулся к нему, спокойный как само небо.
– Твоя жизнь вроде отхожего места. И у дружка у твоего небось не лучше.
Анкудинов опустил глаза, быстро вздохнул, в груди у него свистнула застарелая простуда.
– Пойду, – сказал Лазорев. – Прощай.
И пошел.
– Слышь, Андрюха! – шепотом позвал Анкудинов. – У тебя ничего нет… московского? Может, сухарик какой завалялся?
Лазорев остановился.
– Я погляжу…
– Приходи завтра к Сулейману.
– Больше я пить не буду. Сегодня так уж получилось, ради встречи.
– Не будем пить. Приходи с утра. Город тебе покажу.
– Может, и приду. Прощай покуда.
Разошлись.
«Сухарик попросил, – сокрушенно вздыхал Лазорев, шагая через город к монастырю. – На тебе сухарик, а это тебе в бок… Злодея жизни лишить издали было ахти как просто. А злодей-то мучается, злодей – человек».
– Человек ведь! – сказал вслух и остановился.
Ужин Лазореву принесли в келию, но он ни к чему не притронулся, подождал, когда закроется за послушником дверь, и повалился на ложе, не снимая сапог. Голову словно на столб насадили, все в ней одеревенело, даже губы не слушались, веками пошевелить и то больно.
– Подсыпал какой-нибудь дряни этот Тимошка, – простонал Лазорев. – Дождется он у меня.
Его стало покачивать, и все сильней, сильней.
– Ничего, я терпеливый! – прошептал Лазорев. – Любаша, я все перетерплю.
И вдруг заснул.
…А Тимошке Анкудинову не спалось той ночью. Только забудется – погоня. Сон отлетит – шорохи какие-то, тени. С ножом в руке лежал, ждал. Да с ножом спать худо, сам себя заколешь.
Измучившись, распорол Тимошка пуховик да и нырнул в перья.
Проснулся Лазорев – солнце по келье гуляет. Потрогал голову – не болит! Встал – земля под ногами твердая.
– Так-то! – сказал Лазорев с удовольствием.
И вспомнил Тимошку. Вспомнил – и радость как рукой сняло. Сел на постели, лицом к серой стене повернулся, поставил перед собой столбиком совесть.
«Без тебя не обойтись. Я в такую скверну, сестричка, по уши нырнул, что боюсь не вынырнуть».
Совесть, как цыпленок, синенькая, дрожит. Лазореву и поглядеть на нее стыдно, но ведь не в молчанку позвал играть.
«Будет Тимошка по городу меня сегодня водить, дворцы басурманские показывать, чудеса всякие, – стал рассказывать Лазорев. – Их тут, чудес, много. Столбы каменные, столбы медные – талисманами зовут».
«А нож у тебя за пазухой, наготове», – подсказала совесть.
«То-то и оно! За пазухой наготове. Будем мы пить вино хмельное за здравие. Он – за мое, я – за его».
«А нож у тебя, за пазухой, наготове».
«Вот я и спрашиваю тебя, чем же я после этого лучше Тимошки? Такой же злодей? Да в тот же самый миг, как занесу над ним руку, его черные грехи отлетят от него!»
«И станет он чист перед Богом, а люди его пожалеют», – сказала совесть.
«Так ведь нельзя мне пощадить Тимошку. Боярин Борис Иванович не за тем меня за море посылал, чтоб вот с тобой калякать. Пощажу Тимошку – урон царскому престижу».
«Твой боярин до того исхитрился, что и не видит уже, где сидит. А сидит он не в приказе – в своей блевотине. Россия от веку правдой жила, правдой была сильна. Не боярскую блевотину, солдат, блюди, блюди правду русскую. За правду и помирать пойдешь – оглядываться не станешь».
«Сам ведь все знаю, а поговорил с тобою – полегчало», – сказал и вздрогнул: в дверях архимандрит монастыря, грек Амфилохий.
– Я сегодня буду разговаривать с послом Кузовлевым, нужно ли что ему передать?
Лазорев встал, пятерней поскреб затылок.
– Скажи ему, с Тимошкой, мол, повстречался, да только при нем неотлучно слуга Костька Конюхов. Буду уговаривать их вернуться в Москву… Только все это нужно не Кузовлеву, а первому послу передать, Телепневу.
Архимандрит перекрестился на иконы.
– Прими, Господи, душу раба твоего.
– Это чего же? – испугался Лазорев.
– Вчера в первый час ночи Телепнев преставился.
Лазорев вдруг заплакал. Телепнев человек был хоть и пожилой, но спесивый, с людьми разговаривал с посольского своего верха, а то и вовсе не удостаивал: послушает и отвернется… Затосковал душой Лазорев. Не потому, что все там будем, а уж так он ясно представил себе вдруг будет один лежать толстый Телепнев в чужой земле. О Господи! И о Тимошке тотчас подумал, и о себе… Co всяким ведь может приключиться… Господи! Как одиноко, как невозможно лежать русскому человеку в чужой земле.
– Поплачь, сын мой! – раздался голос архимандрита. – Слезы облегчают душу. – Возложил сухие легкие руки на голову Лазорева. – Перед смертью Телепнев велел тебе с Тимошкой не спешить.
Амфилохий ушел.
«И этот все знает, – сокрушенно покачал головой Лазорев. – А коли знает, давно бы управился тут».
– Да пропади он, Тимошка, пропадом! – взъярился Андрей. – Сам он себя казнил… Не пугайся, Любаша! Твой муж ножа за пазухой никогда раньше не носил и отныне носить не будет.
Достал нож с груди, положил за образа.
– После-то этой же рукой детишек своих по головам гладить! Не прогневайся, Борис Иванович. Ошибся ты во мне, да и сам я в себе ошибся… Взял да и поумнел себе же небось на беду.
Тимошка Анкудинов встретил Лазорева на монастырском православном кладбище. Все уже разошлись – кто на поминки в монастырь, кто на посольский двор под стражу.
– Вот он почему к Сулейману не пришел, – показал Анкудинов Костьке свежий крест.
– Родне никогда и не добраться досюда, – горестно прошептал Лазорев.
Тимошка удивленно хмыкнул.
– Нашел о чем думать!
– Ты-то вот тоже сюда приплелся.
– А я не к нему… Я за тобой. Услыхал, что посла хоронят. Думаю – вон почему Андрюха слово не держит. Чего на поминки не пошел?
– Не люблю я этого…
– И я не люблю! – признался Тимошка. – Пошли отсюда.
Звенел сверкающий металл: чеканщики чеканили узоры на высокогорлых бронзовых кувшинах, на оружии. Горели в глубине лавчонок горны, плыл дым.
– Какая улочка! – удивился Лазорев. – Куда мы идем?
– Да уже пришли.
Они втиснулись в каменную теснину боковой улочки. Лазореву плечи мешали, шел боком.
– Уже не к турчанкам ли ты меня ведешь? – спросил Лазорев, сбавляя шаг.
– Ишь, какой любопытный! – хихикнул Костька Конюхов.
И тут Лазорева схватили сзади за плечи, дернули, ударили под колена, и он опрокинулся, покатился по каменным ступеням в темноту. Успел подумать: «Неужто Тимошка перехитрил меня?»
Очнулся – лампа горит. Подвал. Привязан к столбу, руки назад не заведены, но связаны. «А ведь я пощадил его, дурака», – додумал свою мысль Лазорев и услышал голос Костьки Конюхова:
– Нет у него ножа. В кошельке не густо. Пять курушей, полгорсти пара. Сухарь какой-то.
– Сухарь? – прозвенел голос Тимошки. – Дай сюда. Приблизился. В одной руке свеча, в другой сухарь.
– Москаль проклятый! На лапотную свою родину заманиваешь? Корочкой? – Засмеялся.
– Корочкой! – схватился за живот Костька. – Заманивает!
– Просчитался, москаль! Мне лапотная Русь не дорога, ибо я не русский. Моя родина на холодном море. Истинное мое имя Иоанн Синенсис. – Тимошка понюхал сухарь. – Я никогда не был на твоей родине, москаль! Это ее запах? – Попробовал сухарь на зуб. – Кисло и горько. Нет, я не хочу быть царем в стране, которая пахнет прокисшим.
Тимошка бросил сухарь на землю.
– Чего с ним делать-то будем? – спросил Костька.
– Сначала отпустим наших друзей. Расплатись с ними, Костька.
Мелькнули две фигуры, пробормотали что-то, ушли.
– Твоими расплатился, – сказал Тимошка Лазореву. – Ты не огорчайся. Тебе деньги уже не понадобятся. Да и какие это деньги? Сколько тебе заплатили за мою жизнь? Костька! – Подскочил Костька, огрел Лазорева плетью. – Бей, пока не сознается! – прохрипел Анкудинов. Костька полосовал справа и слева. – Довольно! Сколько тебе заплатили? Я хочу знать, какая цена моей голове у московского подкидыша? Молчишь?
Тимошка сунул свечу в бороду Лазореву.
– Ма-ма! – вскрикнул Лазорев.
Тимошка уронил свечу.
– Больно? – Кинулся ладонями студить обожженное место. – Костька, беги масла принеси. Беги!
Тимошка встал на колени перед Лазоревым.
– Прости меня!.. Меня таким сделали. Ко мне трижды убийц подсылали. В Литве. Я потому и бежал оттуда. Где сухарь?
Шарил по земле руками, нашел, обдул, откусил.
– Избой нашей пахнет. Господи! Хлебушек! Черненький! Драгоценный. Скусно-то как!
Тимошка спрятал сухарь на грудь, упал лицом на землю, заколотил ладонями около своей головы. Вскочил, подполз на коленях к Лазореву, поднял поочередно его сапоги и поцеловал подошвы.
– На этих сапогах частичка моей утерянной навеки земли. Лазорев, Андрюшка! Будь мне братом! – Вытянул из-за голенища тонкий нож, чиркнул себе по руке, схватил руку Лазорева, чиркнул по ней, соединил раны. – Вот! Теперь мы кровные братья. Теперь никуда не денешься. Кровные. Братик мой!
Лихорадочно разрезал путы. Принес глиняную корчагу.
– Пей!
Лазорев припал к корчаге. Это было виноградное кислое молодое вино. Оно утоляло жар.
Примчался Костька. Лазорева усадили на коврик, помазали ожоги.
– Пошли ко мне, брат мой! – Голос у Тимошки был полон дикого восторга. – Костька, этот человек – мой кровный брат. Ни один волос не должен пасть с его головы. Ну что ты молчишь, Андрюша? Пожалуй нас хоть одним словом.
– Жалко мне тебя, парень!
– Костька, братик жалеет меня. Пошли отсюда. Скорее! Здесь темно, здесь пахнет паленым. Костька, беги за носильщиками. Пусть нас отнесут в паланкине.
Лазорев оттолкнул припавшего к нему Тимошку, по крутой лесенке вышел в теснину проклятой улочки, выбрался на улицу ремесленников. Нырнул в толпу…
На монастырском дворе его окружили чауши. Связали руки, больно стукнули между лопаток рукояткой ятагана, повели.
«От русской тюрьмы Бог избавил, а турецкой, видимо не миновать», – подумал Андрей и не ошибся: посадили его в земляную тюрьму.
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
Над Истамбулом прошли осенние дожди. Трава опять позеленела. Установилось ровное тепло. Пролетели перелетные птицы. Потемнело море. Вернулись в покойные гавани боевые корабли.
Жизнь на зиму и у природы, и у людей тишала.
Падишах Ибрагим, много лет просидевший в земляной тюрьме, ненавидел холода. Отменить зиму даже турецкому падишаху не по силам. Но зиму можно в сердце не пустить.
Каждый новый день Ибрагим начинал теперь с беседы со старейшей своей наложницей. Ее имя было Кесбан.
После ссылки и гибели бывшего кизляр-агаси Кесбан стала доверенным человеком падишаха. Ибрагиму все казалось, что его обманывают, скрывают от него красавиц, и тогда он начал действовать по своему разумению. Даровал Кесбан право свободного выхода из сераля и поручил ей тонкое и наитайнейшее дело – высматривать в банях красавиц.
– О великий падишах! – докладывала старая наложница об очередном своем походе по баням. – Ты можешь смело озолотить свою верную Кесбан.
– Нашла?! – Ибрагим всплеснул ручками, колыхнулся и замер, глядя Кесбан в рот.
– Нашла, величайший из величайших!
– Какова же она? – прошептал Ибрагим, ловя пальцами поползшую с краешка губ слюнку.
– Она прекрасна!
– О-о! – простонал Ибрагим.
– Волосы у нее по щиколотку, цвета спелых плодов каштана. Груди у нее…
– Подожди! – прошептал Ибрагим, закрывая глаза. – Волосы у нее по щиколотку! Цвета спелых плодов каштана.
– Да, мой изумительнейший падишах! Цвета каштана, по щиколотку. Груди у нее тугие, как нераспустившиеся бутоны белой розы, а каждый сосок – пламенеющая почка, из которой рождается солнце.
– Подожди! – воскликнул падишах, покрываясь потом. – Каждый сосок – как пламенеющая почка… Аллах! Я могу быть счастливейшим из смертных.
– О великомудрый! То ли тебя ожидает впереди. У нее родинка!
– Родинка? Где же?
– О падишах!
– У меня кружится голова. – И падишах Ибрагим лишился чувств.
Когда он пришел в себя, перед ним стояла валиде Кёзем-султан.
– А где Кесбан? – спросил Ибрагим.
– Сын мой, до нашего слуха дошло – донские казаки около Синопа ограбили и сожгли несколько селений.
– Матушка, сжалься надо мной: я смертельно болен. Любовью. У нее родинка!.. Прикажите позвать Кесбан. Кесбан не сказала мне, где у моей возлюбленной родинка.
– Великий падишах! – Кёзем-султан улыбалась сочувственно. – Я понимаю, сколь это важно для судеб вселенной – доискаться, где родинка. Ибо покой падишаха – покой в подлунной, но, драгоценный мой сын, почему же империей не управляют твои визири? В каких снах пребывает Азем Салих-паша? Это ведь его дело – заботиться о мире на Черном море…
– Эй, слуги! Позвать ко мне визиря Азем Салих-пашу!
– Убежище веры, я уже посылала за визирем. Он ждет твоих приказаний.
– В следующий раз после подобного известия ты уже не выйдешь из сераля! – Ибрагим затопал ногами на Азем Салих-пашу. – Донские казаки – зло, от которого мы желаем избавить нашу империю.
– Великий падишах! – Визирь пал в ноги рассерженному повелителю. – Я заклинал Аллахом капудан-пашу Жузефа, чтобы он послал корабли на Черное море, но капудан-паша ждал зимы. Зима пришла, но обещание не исполнено. Как, скажите мне, защитить Синоп и другие города побережья, не имея на Черном море кораблей?
– Я не знаю как, но если ко мне будут приставать с жалобами, я успокою жалобщиков, приказавши задушить нерадивого визиря. Убирайся!
В тот же день Азем Салих-паша брызгал слюной и топал ногами на молчаливых русских переводчиков. Визирь позвал к себе на расправу Кузовлева, но тот сказался больным.
– Если только Донские казаки еще раз выйдут в Черное море, ни вам, ни послу живым не быть! – кричал визирь. – С меня за казачьи шалости голову снимут, но перед смертью, будьте уверены, я посла вашего и вас на рожнах изжарю. Нам с послом вместе нужно думать, как избежать беды. Пусть посылает гонца на Дон, я этому гонцу дам охрану до Азова-города.
Через два дня Кузовлев передал визирю письмо: посылать ему гонцов на Дон непригоже, спрашивать с посла за казачье воровство нечего, падишаху ведомо, что казакам на Черное море московским царем ходить заказано. Да только казаки – воры-изменники, никого не слушают и не боятся. С послами же ни в каких государствах бесчестья не бывает, и в Царьграде никогда того не бывало, что теперь делается: держат взаперти, корму не дают, грозят и к государю назад не отпускают…
Азем Салих-паша на длинное письмо ответил кратко: «Только появятся казаки на море, сожгу в пепел. Если хочешь быть жив, посылай гонцов».
Повадились к Лазореву матушка с Любашей во сне приходить. Стал он их увещевать:
– Ну что вы слезы по мне проливаете? Чай, не помер! Вины за мной нет никакой. Для острастки посадили… А ежели заждались, так и тут ничего не поделаешь. Человек я служилый. По секрету сказать, мне это даже на руку, что в тюрьме сижу… Помолиться за меня, конечно, помолитесь, но сердце попусту надрывать ни к чему.
– Горюшко ты наше! – всплеснула руками мать, а Любаша согласилась со словами мужа и увела матушку.
Лазореву в те дни худо было. На дворе захолодало, дожди, земля сыростью напиталась, пошли по всему телу у Андрея чирьи: ни сесть, ни лечь.
Тут и объявился в один прекрасный день Тимошка.
– Обыскался, – говорит, – тебя, братик. Ну, теперь еще немного потерпи. Не будь я Шуйский – вытяну тебя отсюда.
Голос, конечно, Тимошкин, а самого не узнать. Стоят над решеткой два важных турка. Что-то сказали стражнику, тот решетку отомкнул, отодвинул. Лазорев во все глаза глядит: один турок в серебре, другой – в золоте. У того, кто побогаче, Тимошкин голос.
– Сейчас я тебя, братик, подкормлю.
Опустили в яму бронзовый поднос с дымящейся чашечкой кофе, с пловом, с другой вкусной едой.
Тимошка стоит над ямой, руки на животе сложил, хоть живота и не нажил – гончей породы дядя. Что-то смешное сказал; серебряный турок рассыпался, как пшено по столу, а Тимошка глянул в яму и, скалясь, цыкнул:
– Ешь, пока я здесь. Уйду – отберут. Что ты, не знаешь их!
Лазорев сначала и впрямь себя хотел показать, а тут смекнул: прав Тимошка. Глотнул кофе в один глоток – заиграла кровь.
– Кувшинчик не пропусти, – подсказывает Тимошка, а сам с турками гогочет, и Лазорев понимает – для него старается.
В кувшинчике оказалось вино. Выпил Андрей, плова поел. Тут Тимошка стал прощаться с турками, горсть монеток стражнику высыпал в ладони, да так, чтоб и сиделец видел.
«Такого прибил бы! – подумал Андрей, глядя на сафьяновые Тимошкины сапоги. – Для меня старается, но прибил бы его, о совести не помня».
Вечером того же дня Тимошка стоял перед дворцом визиря Азем Салих-паши с зажженной лампадкой на голове – требовал справедливою суда. Визирю о Тимошке доложили, но он не торопился принять «московского истинного царя».