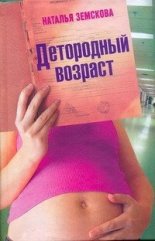Тишайший Бахревский Владислав

Дорогую соль покупали плохо. Рыба и мясо протухали. Людишки травились дурной пищей. Борис Иванович Морозов ухватился за пушкинский аршин, как утопающий за соломинку. Посчитал с Назарием Чистым прибыль и велел Пушкарскому да Ствольному приказам готовить клейма, аршины, весы, да чтоб в великой тайне!
Без тайны нет государства. Никакого доверия такому государству не будет, если ему нечего таить, все равно от кого – от чужих или от своих. Пускай она будет самая разничтожная, ненужная, пускай вредная и даже всему государству вредная, но без тайны никак нельзя. Трон ему поставь, поклонись ему – государственному секрету. Не было в Москве в те дни секрета большего, чем клейменый аршин Григория Гавриловича Пушкина.
Знали про него Морозов, Траханиотов, Чистый и сам Пушкин. Царь и тот не слыхал про аршин, который должен был спасти его казну.
Впрочем, один царь и не слыхал ничего.
Ночью жена Леонтия Стефановича Плещеева разрыдалась в подушку.
– Дашуня, ты чего? Али сон дурной приснился? – обеспокоился Леонтий Стефанович.
– Какое сон? Глаз не могу сомкнуть.
– Стряслось-то чего? Забрюхатела?
Дашуня упрямо замотала головой, взбрыкнула толстыми короткими ногами, скидывая с себя жаркое одеяло.
– О горе мне!
– Говори толком, что приключилось? – Леонтий Стефанович сел, ногами щупая пол. – Где чеботы, черт!
– Да не чертыхайся ты! И так в доме пусто! – Дашуня в сердцах тыркнула круглым кулачищем воздух перед собой.
– Вона ты о чем! – Леонтий Стефанович скинул поймавшийся было чебот и повалился на постель. – Ты же вчера у Траханиотовых была, у братца своего.
– Какие у Ираиды запоны: и перстни, и сережки, и браслеты! – в голос заревела Дашуня, но тотчас слезы вытерла и, загибая пальцы, принялась считать. – Убрус ей поднесли. Шитье золотое, а концы ладно бы жемчугом хорошим – алмазами низаны! Сундук мне свой показала, я чуть было не померла. Накладных ожерельев, бобровых – дюжина! Два кортеля соболиных, на бобровом пуху, да два кортеля горностаевых, крытых тафтой бирюзовой. Один опашень на куньем меху, зимний, другой из сукна аглицкого, червленого, а еще из шелку. Пуговицы все жуковины: и золотые, и серебряные, и с камнями. А ширинки! Все арабские, тонкие, с кистями золотыми. Башмаков двенадцать пар: и сафьяновые, и бархатные, и атласные, с жемчугом и с яхонтами.
Леонтий Стефанович обнял зареванную свою разнесчастную жену, но она упиралась, пыхтела, и тогда он больно плюхнул на мокрое лицо ее тяжелую ладонь и надавил:
– Замолчи же ты, корова! Тебя одевай не одевай, а все ты коровой будешь
Двинул в притихшее мягкое тело кулаком.
Дашуня не пикнула.
Нехорошо блестя глазами, Плещеев лежал руки за голову.
– Я для Петра Тихоновича старался, о себе не помня!
– Ты и для Морозова своего старался! Они теперь в две руки гребут! Чего им теперь о добрых людях помнить? – вскипела Дашуня.
Леонтий Стефанович снова обнял женушку, поцеловал.
– Не горюй! Борис Иванович меня не обойдет милостью. Уж больно много я знаю про него. Тут или прибить, или возвысить. А прибить ему меня нельзя – нужен я ему… Потерпи, Дашуня. Мы свое возьмем, Богом тебе обещаю: чего бы у Борисовой сестрицы, у Ираиды Ивановны, ни было, как бы братец твой для нее ни расстарался – у тебя будет втрое! Втрое! Богом тебе, Дашуня, клянусь – втрое!
Плещеев соскочил с постели, подбежал к образам, истово покрестился и поцеловал Спаса Нерукотворного.
– Леонтий Стефанович, перед Спасом-то зачем? Больно страшно! – таращила глаза Дашуня.
– Большие люди большим богам молятся, – сказал Плещеев, ложась и закрывая глаза. – Давай спать, женушка.
Засопели, но Дашунин носок вдруг примолк.
– Правда, что ли, на корову я похожа?
– Со зла это я, – подкатился под пухлый бочок Плещеев. – Лапуня ты моя, мягонькая.
– Ох, господи! – перевела дух Дарья Тихоновна, родная сестрица Петра Тихоновича Траханиотова.
Алексей Михайлович припал к потайному оконцу.
Меньшая Золотая царицына палата была светла и пуста, но дверь отворилась и через всю палату прошла боярышня. Она стала, как ее учили, возле высокого застекленного окна, чтобы свет ложился на лицо, и замерла. Высокая, гордая, брови с надломом, но к вискам взлетающие. Нос точеный, глаза пронзительно строгие, черные, рот маленький, губы словно коралловые ниточки.
Стояла, тревожно вскидывая глаза то на двери, то на стены, словно ждала недоброе, да не знала, с какой стороны грянет. Вспомнила, видно, что пройтись велено. Сорвалась с места: стан гибкий, руки резкие. Прошла три шага – осеклась, закрыла лицо платком, но тотчас выпрямилась и словно бы оледенела.
Алексей Михайлович на цыпочках отпрянул от потайного оконца.
Тотчас мимо пошла было, но, увидав царя, склонилась в нижайшем поклоне Анна Петровна Хитрово, по прозвищу Хитрая. Ее взяли в терем казначеем царевны Ирины Михайловны еще в 1630 году. Поклониться – поклонилась, а глазками в царские очи стрельнула – все поняла.
Вторую деву царь глядел на другой день. И тоже на цыпочках от окошка отошел, и опять встретился с Анной Петровной. На этот раз, правда, не одна была, с царевной Ириной Михайловной.
Терем жил своей жизнью, скрытной, за дверьми, за ширмами, за крепкой стеной, отгородясь от мира, а то и от света небесного.
В тереме обретались в те поры три сестры: Ирина Михайловна – двадцати лет, Анна Михайловна – семнадцати, Татьяна Михайловна – одиннадцати. При царевнах состояли их мамки, приезжие боярыни, казначеи, ларешницы, учительницы, кормилицы, псаломщицы, боярышни-девицы, карлицы, постельницы, комнатные бабы, мастерицы-рукодельницы, портомои.
На масленицу устраивали царевнам скатные горки, на Троицу водили они с боярышнями хороводы. Ирина даже качели велела себе в сенях устроить. По монастырям ездили и даже на охоту соколиную, но обычное человеческое счастье им было заказано. За своего, русского князя, царевну замуж было нельзя отдать – унижение царскому титулу. А может, больше, чем унижения, смуты боялись… Народит царевна детей – роду они, стало быть, царского. Значит, и на престол могут поглядывать. Заморские принцы в Москву не ехали, а приехал один, за Ириною, так унижения всяческого натерпелся.
До богословского спора дошло, Иван Наседка в том споре верховодил.
– Напал на нас узол, – говорил, – надобно его развязать.
– Нет никакого узола! – кипел князь Семен Шаховской, друг королевича Вальдемара.
– Есть узол! Королевич не хочет в православную веру перекрещиваться.
– Надо ввести королевича в церковь некрещена! – настаивал Шаховской.
Тут уже Наседка вскипал, и с ним все духовные. Решили перекрещивать королевича не в три погружения, а только чтоб тот проклял папешскую веру и принял московский «Символ веры», поклонение иконам и посты.
Давно уже королевич уехал из России, а дело его только днями кончилось. Заступника его, князя Шаховского, поставили перед Посольским приказом и прочли смертный приговор. Казнь была назначена самая жестокая – сжечь на костре. Да молодой царь по милосердию своему заменил казнь высылкой в Сольвычегодск.
Видно, для того все делалось, чтоб другим принцам неповадно было за московскими царевнами ездить.
Но в эти дни выбора царем невесты, когда под пятками обитателей терема пол дымился, были забыты и качели, и обиды, и молитвы.
…В третий раз припал оком к потайному оконцу царь Алексей Михайлович. На положенном месте, на свету, уже стояла претендентша на его, царево, сердце. Стояла и, поднявшись на носки, заглядывала в окно. Что-то ей за окном интересное угляделось, а ростом не больно высока для кремлевских окошек. Оперлась руками о подоконник, оглянулась – не видит ли кто ее шалости – да и подпрыгнула. Когда оглянулась, у царя сердце сошло с ровного хода. До чего ж веселые глаза у девушки! До чего ж она легкий человек!
Подпрыгнула и смутилась, испугалась даже, отошла от окошка, поглядела по сторонам и тихонько вздохнула. Брови у нее, как у матушки, у Евдокии Лукьяновны, покойницы, – только не черные, собольи, а куньи, и ресницы куньи, густые, длинные. (Девушек показывали царю в естестве, ненамазанных: без белил, румян, без сурьмы на бровях, без черненых белков.) Видно, поняла девушка вдруг, нутром поняла, что ведь на смотринах, что каждый жест ее, каждый поворот головы цену свою имеют, и зарделась. Горят щеки! Она огонь ладошками унимает, а он пуще. Она к стеклу холодному, к оконному, ладони приложила и опять к щекам.
Кинулся тут Алексей Михайлович от потайного оконца к дверям в палату, а у дверей Анна Петровна.
– Нельзя заходить, великий государь!
– Можно! – Алексей Михайлович платок достал и кольцо, показывает Анне Петровне. – С этим можно.
– Великий государь! – кинулась на колени Хитрово. – Не торопись, великий государь! Еще три девы тебе надо поглядеть. Самые лучшие на потом оставлены. Погляди всех, а там и решишь.
– Решил я уже все!
Прошел мимо замерших людей терема в царицыну палату.
Девушка увидала – входит, опустила руки, опустила голову, и он тоже оробел. Издали свои подарки протягивает:
– Возьми.
А девушка никак не осмелится глаза поднять.
– Возьми, это тебе!
Тут она посмотрела все-таки на него, и опять обрадовалось царево сердце. Глаза ее – дом света. Не отраженного от солнышка, своего. Слезы застили, заливали тот свет, но ни затенить, ни залить не могли, а только прибавляли силы и ясности ему, дивному свету.
Алексей Михайлович положил девушке в руки платок и, готовый расплакаться от смущенья и от счастья, нашел ее ладонь, теплую, сухую – Господи, родную – и положил в нее кольцо.
Благовещенский протопоп, духовник царя, Стефан Вонифатьевич, Федор Ртищев, Иван Неронов собрались в монастырской келии Новоспасского архимандрита Никона в великой радости. Престарелый патриарх Иосиф, всего боящийся и желающий одного только покоя, уступил молодому напору ревнителей благочестия и дал свое благословение указу, по которому с 17 января 1647 года всему русскому народу запрещено было работать в воскресные дни. По воскресным дням русским людям вменялось посещение божьих храмов. Победа была худосочная, патриарх Иосиф согласие дал на малое дело, а на большое не дал. Отказывать тоже не отказывал, но и никак не решал вопрос о единогласии в церковной службе.
– Теперь надо школу открыть! – говорил за трапезой Федор Михайлович Ртищев.
– Да ведь один раз чуть было не открыл, – напомнил Стефан Вонифатьевич о прошлогоднем конфузе: приехал царьградский архимандрит Венедикт, взялся было школу открывать, да в постные дни маслице кушал; прогнали его и попросили учителем впредь не называться.
– С греками нужно ухо востро держать! – петушком крикнул Неронов. – Ох, востро!
– Греки всякие бывают! – не оспорил, а как бы рассудил Никон. – Православие мы от греков приняли, и теперь нам есть чему у них поучиться. В книгах переписчики столько за века-то ошибок наваляли, что без ученых людей не разгрести кучу. А куча сия – не зловонием страшна, но соблазном, погубляющим души.
– Не везет нашему царству с учением, – повздыхал Ртищев. – Мне рассказывали: царь Годунов троих отроков посылал в Англию учиться, и ведь все трое выучились. Значит, есть в нашем народе способность к учению!
– А где же они, эти ученые отроки? – удивился Никон.
– Один, Никифор Олферьев, стал попом английским, другой – в Ирландии – королевским секретарем служил, а третий, я слышал, в Индии – купцом.
– Вот оно как за чужим умом посылать! – воскликнул Неронов. – Слава богу, что не вернулись души православных людей смущать.
– Дома будем учить! – сказал Никон, да так, будто по его слову все и сделается само собой.
– Я послал киевскому митрополиту письмо, чтоб прислал ученых монахов и певчих, – признался Ртищев.
– Борис Иванович Морозов будто бы за справщиком книг в Царьград человека своего отправил, да что-то не едет, – сказал Неронов.
– И книги нам исправлять нужно, и школу открыть нужно, и пению учиться нужно, – согласился Стефан Вонифатьевич.
– Совсем мы свое захаяли! – покрутил головой Иван Неронов. – И книги-то у нас нехороши, и темны мы, и петь не умеем. Господь наш, Иисус Христос, на Тайной вечере пел и нам петь завещал. И поем мы, как Иоанн Дамаскин, как отцы наши пели и отцы отцов, а все новые украшательства разжижают твердь веры. Какая может быть вера у греков, если они под басурманским султаном живут, с его стола кормятся…
Иван Неронов говорил, побрызгивая слюной, и Никон тревожно взглядывал на лица Стефана Вонифатьевича и Ртищева.
– Мы не спора ради собрались, а радости ради, – сказал он. – И о чем нам спорить, когда мы все хотим одного: чтоб Дом Церкви нашей был устроен и украшен по достоинству.
В дверь поскреблись. Никон встал, вышел, тотчас вернулся.
– Великий государь назвал невестой Евфимию Всеволожскую.
– Как так? – вскочил Стефан Вонифатьевич. – Еще три дня смотринам. – Сел.
– Кто они, Всеволожские? – спросил Ртищев.
– Из Касимова они, – ответил Стефан Вонифатьевич, нехорошо щуря глаза.
Все почуяли, что Стефан Вонифатьевич царским выбором недоволен.
– Неустройства всякие пойдут! – объяснил царский духовник свою нерадость. – Новые люди вверху, новые неурядицы. Раф Всеволожский, отец невесты, человек горячий, сначала сделает – потом плачется. Сын у него есть, Андрей. Гордец.
«Видно, протопопу Всеволожские дорогу когда-то перешли», – подумал Никон.
– Лишь бы царю радость, – простодушно сказал Неронов. – А передраться за места у нас и родовитые умеют. Еще как умеют. Нам, грешным, все видно, кто у большого пирога сидит.
Стефан Вонифатьевич глянул на Неронова из-под бровей: проверил, искренне ли говорит Неронов, и вздохнул:
– Тебе, Иван, легко.
– Не у дел, что ли? – встрепенулся Неронов. – Верно, не у этих я дел. Маленький я человек, когда куски делят, но я очень даже у дел, когда за правду голопузенькую надо стоять. Когда за веру надо стоять. За русскую землю надо стоять!
– Чего шумишь? – успокаивая, улыбнулся Ртищев. – По домам пора. Спасибо вам всем, что были тверды перед патриархом и что устроилось богоугодное дело. О праздновании Воскресенья говорю.
– С единогласием патриарх Иосиф тянуть будет, боится он попов возмутить, – сказал Стефан Вонифатьевич. – Но запрета скоморошьих игр я добьюсь. – Перекрестился на иконы.
– Тут мы тебе все помощники! – сказал Никон, ударяя на каждое слово: ему хотелось, чтоб за его словами три смысла видели. В церковных новшествах мы все, мол, едины, но, однако, едины не во всем, за слова о Всеволожских ты один, протопоп, ответчик. А можно все и по-другому истолковать: мы во всем едины и во всем твои помощники, ибо ты – царский духовник, тебе одному ведомы душевные тайны царя.
– Господь с тобой! – Борис Иванович Морозов поднялся со своего креслица и обратно сел: оставили силенки.
В приказ при всех-то дьяках, подьячих и писарях явилась Анна Петровна Хитрово.
Анна Петровна хоть и была бела как снег, но окинула взглядом комнату, увидела, что одни, и уж потом только опустилась на колени.
– Беда, Борис Иванович!
Борис Иванович и сам видел, что беда, но никак не мог сообразить – какая.
– Избрал, – прошептала Анна Петровна.
– Как так избрал? – навалился на стол Борис Иванович. – Еще три дня смотринам.
– Прочих смотреть не пожелал, – сказала Анна Петровна серым голосом.
Борис Иванович глядел на нее, не беря в толк ее слова.
– Три дня еще смотринам, – повторил он, а про себя подумал: «Ну вот, судьба перехитрила хитрого».
Из шести девиц две были Милославские, дочери Ильи Даниловича, ездившего извещать о восшествии на престол нового царя в Голландию. Борис Иванович устроил так, что обеих красавиц должны были показать царю напоследок, чтоб затмили. Борис Иванович только вид делал, будто весь в делах, что до выборов невесты он не касается. До всего касались длинные руки Морозова, но промахнулся.
– Всеволожские? – спросил Борис Иванович самого себя и услыхал:
– Всеволожские.
Он подошел к Анне Петровне, поднял ее с полу.
– Я тебя награжу! До конца дней своих будешь благодарить, но сделай что-нибудь.
На белом лице Анны Петровны сверкнули капельки пота.
– Послужу тебе.
– Будь добра, – прошептал Борис Иванович, улыбаясь растерянно и жалко.
Хитрово повернулась, чтоб идти.
– Погоди!
Он вышел первым и объявил счастливым сладким голосом на весь приказ:
– С избранницей! Ступайте все по домам веселиться. Государь Алексей Михайлович назвал невестой Евфимию Федоровну Всеволожскую.
Анна Петровна радостно кивала головой, подтверждая радостные слова Бориса Ивановича.
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
Снег падал густо, а не теплело.
«Суровая зима – жаркое лето», – думал Борис Иванович Морозов.
Сказавшись больным, он не ездил в приказы, но дела от себя не отставил: дьяки приносили ему грамоты, столбцы, и он все читал, обо всем знал, и не только – как оно есть, но и как оно будет.
Перед Борисом Ивановичем лежало дело Тимошки Анкудинова, а думал боярин о прежнем царе, о Михаиле Федоровиче.
«Неразгаданного ума человек! – думал о царе Борис Иванович. – Слушался бояр, как ребенок. Ничего-то сам никогда, кажется, не решил, но, что бы там ни говорили, своего добился. Остались Романовы в царях.
Алеша тоже характером слабоват. Смышлен, как не смышлен! С пяти лет читать научился, в семь – писать. В девять знал церковное пение не хуже священника. Ему бы настоятелем, а он – царь…»
– А уж так ли я знаю Алешеньку? – спросил себя вслух Борис Иванович. – Он ведь тоже Романов. Пока все хорошо – и вы, бояре мои ближние, хороши. А плохо будет – вам и отвечать своими головами, потому все от вас. Вы правили.
Борис Иванович досадливо шевельнул бровями и заставил себя читать Тимошкино дело. Некий друг московского престола сообщал, что польский король Владислав объявил Тимошку Дмитрием – сыном царевича Дмитрия.
– Тьфу ты! – плюнул Морозов; дела давно минувших дней.
Перекрутил бесконечную ленту бумаги. Нашел последние вести. Из Царьграда писали, что русский посол Телепнев умер и что Тимошка из Туретчины убежал.
Борису Ивановичу вспомнился было Лазорев, но, себе на удивление, боярин отшвырнул от себя Тимошкино дело.
– На кой мне черт все это сдалось!
Нет, ни о чем другом, кроме царских смотрин, не мог думать Борис Иванович. Ведь в таком деле промахнулся! И никак теперь того дела не поправить.
Чугунная тоска прищемила сердце Бориса Ивановича.
– Господи! Только гляди да гляди!
Семена Шаховского свалил, Шереметевых свалил. Стрешневы, как тесто, пучатся, а теперь Всеволожские полезут из щелей, тараканий выводок!
И вдруг подумал: а ведь того, кто замешан в таинственную историю убиения царевича Дмитрия, тоже звали Борисом.
И новый всплеск тоски: думал про все это. Тысячу раз думал.
– Освободи мою голову, господи!
В комнату, распустив полы кафтана, вбежал управляющий имениями Моисей.
– Царь приехал!
– Шубу! – крикнул Морозов, выбираясь из-за стола, на бегу просовывая руки в рукава и натягивая боярскую шапку. Государя за воротами надо встречать.
В глазах Алексея Михайловича зайчики кувыркались. Собирает губы, чтоб чин соблюсти, а они растягиваются от уха до уха. Кинулся к Борису Ивановичу, не дожидаясь приветствий, поцеловал, шепнул ему на ухо:
– С Матюшкиным Афонькой на женскую половину лазили. Полный подол Евфимушке пряников насыпали. Она обмерла от страха, а мы ей в оконце потайное показались. Уж так хорошо смеялась Евфимушка! А зубы у ней – как снег под солнцем. Жени ты меня, Борис Иванович! Поскорей ты меня жени. Люблю несказанно Евфимию Федоровну.
Морозов засиял ласково глазами:
– Да уж считай, что женили. День назначен, недельку всего и подождать.
– Когда ж она проскочит, неделька! Заходить уж к тебе не буду, не посердуй. Радостью приезжал к тебе поделиться. В поля мы с тестем собрались, на лисиц поохотиться.
– Смотри не заморозься! Велел бы крытый возок заложить. Хочешь, мой возьми! – говорил Борис Иванович, а сам цапнул глазами Рафа Всеволожского, стоявшего возле санок.
– Ах, Борис Иванович! Ах, Морозов ты мой милый! Ничего со мной не содеется дурного.
Борис Иванович по-отцовски, чтоб Раф это видел, благословил своего воспитанника, подошел к саням. Всеволожский, высокий, узколицый, с собачьими, пылающими изнутри глазами, поклонился почтительно Борису Ивановичу, но глаз не опустил.
– За рыжими шубами? – спросил его Морозов.
– Люблю погонять. Особенно огневку. Так и летит по снегу-то! – настороженно, но уже дружески заулыбался Раф.
– То-то мне говорят: Москва ноне порыжела! – улыбнулся широко и ласково Морозов.
У Рафа мочки ушей набухли фиолетовой кровью.
– Черно-бурых лис ни под Москвой, ни в Касимове у нас не водится, – сказал тихо, с достоинством.
– С богом! Ни пуха ни пера! – весело махнул рукой Борис Иванович сановным охотникам.
– Моисей! – позвал Морозов, воротясь в свою комнату. – Моисей, мне нужна твоя наука.
– О господин мой! Я провожу дни мои в усердных трудах, и каждое твое поместье дает теперь двукратный доход. Я хочу забыть о старом…
– Мне нужна твоя наука, Моисей.
– Повинуюсь, господин! – Управляющий поклонился. – Возьми, господин, меня за руку.
Моисей засучил рукав кафтана и подал боярину голубоватую свою руку, – видно, никакие харчи не могли избавить чародея от худобы. Морозов взял большой белой рукой холодное запястье и как бы притаился.
– Думай! – приказал Моисей; на висках его набухли жилы. – Думай. – Струйки пота поползли по его длинному лбу. – Позволь мне удалиться, боярин, к себе. Я принесу тебе ответ.
– Ступай. Да скажи, сколько ждать тебя?
– Не больше получаса, господин.
Через полчаса Моисей вошел в комнату боярина.
– Ну, чего? – спросил Морозов.
– Тебе поможет женщина. Тебя возвысит женщина, но все здание, тобою возведенное, разрушит женщина.
– Разрушит, говоришь?
– До основания, господин.
– Но сначала поможет?
– Поможет, господин.
– Ну и ладно, коли поможет. Разрушит-то не теперь же?
– Нет, господин. Не теперь.
– А мне «теперь» дорого. Ступай, Моисей, занимайся своими делами. Я на тебя не нарадуюсь.
Моисей откланялся.
– Погоди! Поди сюда.
Моисей вернулся.
– Встань на колени, больно длинный, у меня силы нет в ногах.
Моисей покорно опустился на колени. Борис Иванович высвободил плечи из-под собольей своей шубы, набросил шубу на Моисея.
– Носи!
– О господин! – Моисей коснулся лбом вельможной ноги. Поднялся, пошел, держа шубу перед собой на вытянутых руках.
Вышел и тотчас вернулся.
– Господин, в немецкой слободе беспорядки. Большая драка, господин.
– Плещеев, что ли, пожаловал?
– Плещеев.
– Позови.
Леонтий Стефанович Плещеев, маленький, улыбчатый, остановился у порожка.
– Проходи, Леонтий Стефанович! – пригласил Морозов. – Чего там приключилось?
– Да подрались.
– Кто же подрался?
– Посадские с немцами.
– Ну, расскажи.
– Андрей Всеволожский, родной брат царской невесты, в кабаке «Под пушками» кричал, что он, Андрейка, избавит русских купцов от немецкой напасти.
– Кто же это его надоумил купцов защищать? Кто у него за столом сидел?
– Разные люди сидели. Да и я, грешный, тоже с ним сидел, – потупил скромные глаза Леонтий Стефанович.
– А драка как же приключилась?
– Сначала Андрейка грозился купчишек немцев избавить, как сестра обвенчается, а потом переменился. «Я, – говорит, – тотчас вас избавлю от немцев. Пошли на слободу стеной!» И пошли.
– Не зашибли Андрея Федоровича? – спросил Морозов.
– Зашибить не зашибли, но побить побили. Большая драка случилась. Сотен шесть было немцев.
– Шесть сотен! – вскочил Морозов со скамьи.
– Да ведь и посадских с купчишками было сотен никак семь, а то и все восемь.
– Стрельцов послали – унимать? – быстро спросил Морозов.
– Без стрельцов обошлось. Немцы так славно дрались, что пришлись нашим по сердцу. Купцы на мировую дюжину бочек выкатили и с пивом, и с медом.