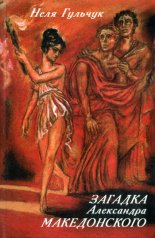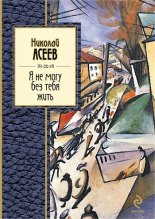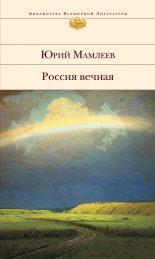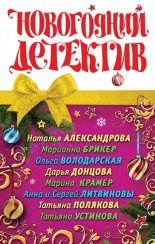69 этюдов о русских писателях Безелянский Юрий
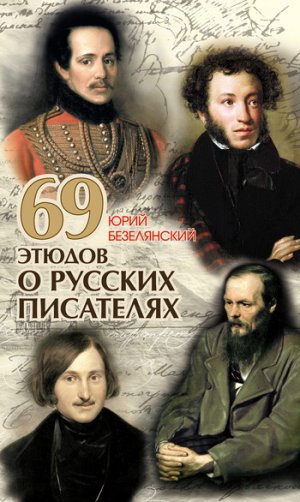
- Пока в нем слышен смех...
ЭНТУЗИАСТ И ПРОПАГАНДИСТ ЧТЕНИЯ
Николай Рубакин
Великий книгочей, выдающийся русский книговед Николай Рубакин!.. Как нам не хватает сегодня Рубакина, этого «лоцмана книжного моря». Издаваемых книг много, а вот читающих их мало – вот в чем проблема и беда одновременно.
В конце своей жизни Рубакин со свойственной ему любовью к статистике составил кратенькую таблицу им сделанного: прочитано 250 тысяч книг, собрано 230 тысяч книг, написано 49 больших научных трудов и 280 научно-популярных книг, составлено и разослано 15 тысяч программ по самообразованию, опубликовано свыше 350 статей...
«Мне уже 65 лет, – писал Рубакин в 1928 году, – но я никогда не считал и не считаю себя стариком, а работаю без воскресений и каникул вот уже 50 лет и со времени моей юности находился и нахожусь в теснейших отношениях с молодежью, которую люблю и знаю и которой по мере своих сил и как умею помогаю...»
Николай Александрович Рубакин родился 1(13) июля 1862 года в Ораниенбауме, в семье купца 2-й гильдии. Отец отдал сына в реальное училище, а в свободное от уроков время приказывал продавать веники в принадлежащих Рубакину банях. Воспитывал при помощи кулака и ремня. Но, к счастью для Рубакина, еще была мать, Лидия Терентьевна, страстная любительница книг, которая создала в Петербурге свою библиотеку, в которой – еще подростком – начал работать Николай Рубакин. Не только работал, но умудрился прочитать все собранные здесь книги. А с 1892 года стал руководить «Общедоступной библиотекой» матери.
Вопреки воле отца, Александра Иосифовича, Рубакин уехал учиться в Петербург после того, как блестяще провалил возложенное на него родителем руководство оберточной фабрикой, так как все деньги тратил на покупку книг и на организацию библиотек для рабочих. Страсть к книге убила в Рубакине коммерсанта, но превратила его в знатока книг и библиофила. Он относился к книгам, как к живым существам. Подходил к книжным шкафам, гладил корешки любимых книг. Всегда ссорился с близкими из-за запачканной страницы, помятой обложки.
Рубакин окончил Петербургский университет с отличием, учась сразу на двух факультетах – историко-филологическом и юридическом. Участвовал в нелегальных студенческих организациях. Вступил в партию эсеров и написал ряд революционных брошюр и статей, основанных на данных статистики («Хватит ли на всех земли?», «Военная бюрократия в цифрах», «Много ли в России чиновников?» и другие). Однако разочаровался в эсерах, политике, революции и покинул Россию. С декабря 1907 года жил в Швейцарии, сначала в Кларене, потом в Лозанне, где и умер 23 ноября 1946 года, в возрасте 84 лет.
Основной библиографический труд Рубакина «Среди книг» для многих в России оказался неприемлемым. Пуришкевич назвал Рубакина «одним из самых опасных, самых дерзких посягателей на народную душу», Розанов считал Рубакина «социал-библиографом». Ленин, отдавая должное Рубакину («чрезвычайно ценное предприятие»), видел недостаток его труда в принципиальном отказе от полемики, которую Рубакин считал «одним из лучших способов затемнения истины». Уже в советское время Рубакина активно критиковали за разработанные им основы библиопсихологии – «науки о социальном и психологическом воздействии книги». На Западе ее признали интересной и полезной, а у нас – вредной, способной «к разоружению пролетариата» и к притуплению «классовой бдительности», одним словом, «рубакинщина». А Рубакин тем временем основал в Женеве секцию, а потом преобразовал ее в Международный институт библиопсихологии. Затем наша власть разобралась, что к чему, и назвала рубакинский институт «чуть ли не самым важным центром советской литературы за пределами СССР». В годы Второй мировой войны Рубакин снабжал книгами советских военнопленных, бежавших в Швейцарию из немецких лагерей.
В последние годы Рубакину было трудно владеть правой рукой – ее постоянно сводило от письма (так называемая «писательская судорога»). Согласно завещанию Рубакина его библиотека (свыше 100 тысяч томов) была перевезена в 1948 году в Москву. Был перевезен и прах, который покоится на Новодевичьем кладбище.
Последователь позитивиста Огюста Конта, Николай Рубакин был убежден в необходимости борьбы против несправедливости в распределении материальных благ, за гражданские и политические права свободы, образование, то есть стоял за свободное перемещение знаний и идей.
Рубакин писал: «Всякий может уделить чтению один час в день, а в воскресенье – 3 часа. Следовательно, 52 воскресенья по 3 часа дадут 156 часов, а 313 будней по одному часу – это 313 часов чтения. Значит в год получается более 450 часов чтения. Это самое малое – 5 тысяч страниц! А при навыке в два-три раза больше».
Для Рубакина чтение было таким же естественным и необходимым компонентом жизни, как еда и сон. Он рекомендовал читать как можно больше. Даже не читать – если нет для этого возможности, то хотя бы держать книгу в руках, рассматривать, перелистывать, смотреть иллюстрации, запомнить обложку и название... Сам Рубакин владел быстрым чтением и проглатывал книгу за книгой. Он моментально определял степень своей заинтересованности в ней. Иногда читал лишь главы, иногда было достаточно познакомиться с содержанием. Если же книга захватывала, то он читал ее целиком. Плохую, ничего не дающую ни уму, ни сердцу книгу, он определял беспощадно: «Мебель!»
Более 60 лет нет Рубакина. И что мы читаем с вами сегодня? Книги или «мебель»? Погружаемся в мир знаний и в глубины человеческой души или передвигаем-листаем мягкие пуфики, никчемные карамельные женские романы?
Человек читающий или человек листающий? На этот вопрос важно ответить. Книга – дорога в мир. И хватит блуждать по дремучему лесу невежества. Берите пример с Николая Александровича Рубакина. Хорошо его знавший Василий Васильевич Розанов говорил: «Господа, бросьте браунинги. И займитесь библиографией». В XXI веке стыдно быть темным.
ОТ ЗОЛОТА К СЕРПУ И МОЛОТУ
Есть писатели, которым выпала участь быть дореволюционными писателями, затем советскими. Или скажем по-другому: закончить свою литературную судьбу уже в советские времена. Выпавшие на их долю годы произвели в их душах и творчестве некий разлом. Одни как-то справились с ним, другие согнулись под новым бременем, пребывая во внутренней оппозиции к режиму. О некоторых из таких писателей и пойдет речь в главе «От золота к серпу и молоту».
ПРЕДСКАЗАТЕЛЬ «ГРЯДУЩЕГО ХАМА»
Дмитрий Мережковский
В энциклопедическом словаре (1954) о Дмитрии Мережковском сказано: «Русский реакционный писатель и критик, символист, проповедник утонченной поповщины и мистик. После 1917 – белоэмигрант, враг советской власти». Хлестко! Но спустя 50 лет оценки поменялись, теперь уже Мережковский – крупнейший представитель Серебряного века. И, пожалуй, воспользуемся прилагательным: утонченный.
Дмитрий Сергеевич Мережковский родился 2 (14) августа 1865 года в Петербурге.
Известно, что основы характера закладываются в раннем возрасте. О своем детстве Мережковский писал:
- Всегда один, в холодном доме рос
- Я без любви, угрюмый, как волчонок.
Не нашел он теплоты и в дальнейшем – в классической гимназии и в Петербургском университете. «У меня так же не было школы, как не было семьи». Всего он достиг сам, самостоятельной работой, отсюда и «кабинетный характер». Истинный человек книги.
В мемуарах «Человек и время» Мариэтта Шагинян вспоминает о Мережковском, что это был сухонький, невысокого роста, черноглазый брюнет с бородкой клинышком, очень нервный, всегда мысленно чем-то занятый, рассеянно-добрый, но постоянно в быту как-то капризно-недовольный. Преувеличенно ценил свои книги. Они казались ему пророческими.
Внесем поправку в характеристику, данную Шагинян: Мережковский был не в быте, а над бытом, который его вовсе не интересовал, он парил в эмпиреях.
- Я людям чужд, и мало верю
- И добродетели земной;
- Иною мерой жизнь я мерю,
- Иной, бесцельной красотой.
- Я верю только в голубую
- Недосягаемую твердь,
- Всегда единую, простую
- И непонятную, как смерть.
- О небо, дай мне быть прекрасным,
- К земле сходящим с высоты,
- И лучезарным, и бесстрастным,
- И всеобъемлющим, как ты.
Это стихотворение «Голубое небо» написано Мережковским в 1894 году, когда ему было 29 лет. А стихи он начал писать с тринадцати лет. В пятнадцать лет юный Мережковский отважился читать свои стихи Достоевскому. «Краснея, бледнея и заикаясь, я читал ему свои детские, жалкие стишонки, – вспоминал этот эпизод Мережковский. – Он слушал молча, с нетерпеливою досадою... «Слабо... слабо... никуда не годится, – сказал он наконец. – Чтобы хорошо писать, страдать надо, страдать».
Что можно возразить классику?!..
В том же 1880 году Мережковский познакомился с популярным поэтом Надсоном, «полюбил его как брата» и благодаря ему смело вступил на порог литературной жизни. Мережковскому повезло: он встречался со многими корифеями русской литературы – с Гончаровым, Майковым, Полонским, Плещеевым, Короленко, Гаршиным... Николай Михайловский и Глеб Успенский стали его учителями, но, правда, не надолго.
С 1885 года Мережковский печатает стихи во многих петербургских журналах и становится известным поэтом. В стихотворении «Волны» он сформулировал свою «идефикс»:
- Ни женщине, ни Богу, ни отчизне,
- О, никому отчета не давать
- И только жить для радости, для жизни
- И в пене брызг на солнце умирать!..
Влияние Ницше? Несомненно. Но в ницшеанство Мережковский внес и нечто свое, некую русскость:
- Мне страшен долг, любовь моя тревожна.
- Чтоб вольно жить – увы! я слишком слаб...
- О, неужель свобода невозможна
- И человек до самой смерти – раб?
В 1888, 1892, 1896, 1904 и 1910 годах выходят поэтические сборники Мережковского. Михаил Кузмин отметил, что по корням, по приемам поэзии стихи Мережковского напоминают Полонского, Фофанова и Надсона. «Мысль его почти всегда ясна, стихом он владеет прекрасно», – отмечал другой критик. Вот, к примеру, отрывок из стихотворения «Парки» (1892):
- Мы же лгать обречены:
- Роковым узлом от века
- В слабом сердце человека
- Правда с ложью сплетены.
- Лишь уста открою – лгу,
- Я рассечь узлов не смею,
- А распутать не умею,
- Покориться не могу...
Даже по этим строчкам видно, что стихи Мережковского чересчур рассудочные, не эмоциональные, поэтому как поэт он стоит во втором или третьем ряду среди пиитов Серебряного века. Проницательный Аким Волынский не зря упрекал Мережковского в отсутствии живого, искреннего чувства, в «претенциозной аффектации», в «сухой и раздражающей дидактике».
Возможно, это чувствовал и сам Мережковский. К середине 90-х годов он почти перестает писать стихи. Выступает как прозаик, критик, публицист, переводчик (переводит Эсхила, Софокла, Еврипида и других мастеров культуры). Отходит от модернизма и декаданса и ищет «новой веры, новой жизни». Его новая идейная и творческая гавань – религиозность. Как пишет Юрий Терапиано: «Мережковский по своей натуре был эсхатологом. Идея прогресса, рая на земле без Бога, а также всяческое устроение на земле во всех областях, вплоть до «совершенного искусства», «полного научного знания», а также личного спасения души в загробном мире, – для Мережковского – «мировая пошлость и плоскость, измена Духу».
А вот что отмечала Зинаида Гиппиус в биографической книге «Дмитрий Мережковский»: «Живой интерес ко всем религиям, к буддизму, к пантеизму, к их истории, ко всем церквам, христианским и не христианским равно. Полное равнодушие ко всей обрядности...»
Вот отрывок из стихотворения Мережковского «Бог»:
- Я Бога жаждал – и не знал;
- Еще не верил, но, любя,
- Пока рассудком отрицал, —
- Я сердцем чувствовал Тебя.
- И Ты открылся мне: Ты – мир.
- Ты – все. Ты – небо и вода,
- Ты – голос бури, Ты – эфир,
- Ты – мысль поэта. Ты – звезда...
Георгий Адамович отмечал, что Мережковский «думал о Евангелии всю жизнь и шел к «Иисусу Неизвестному» («Иисус Неизвестный» – один из центральных философских трудов Мережковского, изданный в Белграде в 1932 – 1934 годах в трех томах). Мережковский считал, что исторически христианство себя исчерпало и человечество стоит на пороге царства «Третьего Завета», где произойдет соединение плоти и духа.
Эту теорию дуализма (человек состоит из духа и плоти) Мережковский варьировал во многих своих статьях и книгах, в частности, в исследовании о Толстом и Достоевском. Язычество, по мнению Мережковского, «утверждало плоть в ущерб духу», и в этом причина того, что оно рухнуло. Христианство церковное выдвинуло аскетический идеал «духа в ущерб плоти», и оно подошло к своему концу. Очередь теперь за «вторым Христом», который соединит плоть и дух.
Обо всем этом говорилось в доме Мережковских. В начале XX века в Петербурге было два центра интеллектуальной жизни: «Башня» Вячеслава Иванова и салон Мережковских.
В своей супруге Зинаиде Гиппиус Мережковский нашел ближайшего соратника, вдохновительницу и участницу всех своих идейных и творческих исканий. Это был надежный и прочный союз (и что удивительно: без плотского фундамента!). «Они сумели сохранить каждый свою индивидуальность, не поддаться влиянию друг друга... Они были «идеальной парой», но по-своему... Они дополняли друг друга. Каждый их них оставался самим собой», – вспоминала Ирина Одоевцева.
Из воспоминаний Юрия Терапиано: «...в личности Мережковского было нечто большее, чем то, что ему удавалось выразить в его книгах. Именно поэтому умнейшая и очень острая Гиппиус в какие-то самые важные моменты пасовала перед Мережковским, уступала ему – она понимала, что от некоторых слов его, от некоторых его замечаний или идей чуть ли не кружилась голова, и вовсе не потому, чтобы в них были блеск и остроумие, о, нет, а оттого, что они будто действительно исходили из каких-то недоступных и неведомых других сфер. Как знать, может быть, бездны и тайны были для него в самом деле родной областью, а не только литературным приемом?»
А вот свидетельство Андрея Белого: «Здесь, у Мережковского воистину творили культуры, и слова, произносимые на этой квартире, развозились ловкими аферистами слова. Вокруг Мережковского образовался целый экспорт новых течений без упоминания источника, из которого все черпали. Все здесь когда-то учились, ловили его слова».
Лев Шестов назвал Мережковского «страстным охотником за идеями». Все эти найденные или «подстреленные» Мережковским идеи расхватывались другими. Ну, что ж, щедрый охотник...
В годы революционного брожения квартира Мережковских была «своего рода магнитом, куда тянулись философствующие лирики и лирические философы» (Георгий Чулков).
В 1905 году в журнале «Полярная звезда» появилась знаменитая статья Дмитрия Мережковского «Грядущий хам». «Грядущим хамом» окрестил Мережковский грядущего человека социализма. Социализму он приписал религию «сытого брюха» и полного аморализма. Будущее виделось ему как «лицо хамства, идущего снизу – хулиганства, босячества, черной сотни». Отвечая на написанный Николаем Минским «Гимн рабочих», Мережковский предвещал, что «из развалин, из пожарищ» – ничего не возникнет, кроме «Грядущего Хама».
Мережковский предсказал «Грядущего Хама», а когда в 1917 году воцарилось «Царство Антихриста», он не уставал с ним бороться. В декабре 1919 года Мережковский и Гиппиус тайно покинули Советскую Россию. 16 декабря 1920 года в Париже Мережковский прочитал свою первую лекцию «Большевизм, Европа и Россия», в которой рассмотрел тройную ложь большевиков: «мир, хлеб, свобода», обернувшуюся войной, голодом и рабством.
Узнав о визите в Россию Герберта Уэллса, Мережковский обратился с открытым письмом к английскому писателю. В нем он, в частности, писал: «Знаете, что такое большевики? Не люди, не звери и даже не дьяволы, а наши «марсиане». Сейчас не только в России, но и по всей земле происходит то, что вы так гениально предсказали в «Борьбе миров». На Россию спустились марсиане открыто, а тайно, подпольно кишат уже везде. Самое страшное в большевиках не то, что они превзошли всякую меру злодейств человеческих, а то, что они существа иного мира: их тела – не наши, их души – не наши. Они чужды нам, земнородным, неземною, трансцендентную чуждостью...»
Ненависть к большевикам привела к тому, что, выступая по радио в 1941 году, Мережковский поддержал Гитлера, подчеркнув, что необходим крестовый поход против большевизма, как против абсолютного зла. Он выступал за интервенцию, которая помогла бы спасти мир и возродить Россию. «Я призывал, вопил, умолял, заклинал, – признавался Мережковский. – Мне даже стыдно сейчас вспоминать, в какие только двери я не стучался...», однако Запад не услышал Мережковского. Зато услышали в Москве, и в парижскую квартиру на 11-бис Авеню дю колонель Бонне пришли несколько вооруженных людей. Они опоздали: Мережковский успел умереть естественной смертью.
А теперь вернемся назад. Квартира Мережковских в Париже в течение 15 лет была одним из средоточий эмигрантской культурной жизни. На «воскресениях» у Мережковских собирался русский интеллектуальный Париж, и молодое «зарубежное поколение» любило слушать рассказы Дмитрия Сергеевича и Зинаиды Николаевны о петербургском периоде их жизни.
Говорить о Мережковском как о прозаике трудно: он написал неимоверно много. Его первым историческим романом стала «Смерть богов», где он с музейной достоверностью реконструировал события идейной борьбы в Римской империи в 4 веке. В книге «Вечные спутники. Портреты из всемирной истории» он представил многих гигантов, таких как Плиний Младший, Марк Аврелий, Монтень и другие. В 1901 году вышел его роман о Леонардо да Винчи. За исследованием «Толстой и Достоевский» последовала книга «Судьба Гоголя. Творчество, жизнь и религия». В 1904 году был опубликован роман «Антихрист. Петр и Алексей».
«Петр I по Мережковскому – соединение «марсова железа и евангельских лилий». Таков вообще русский народ, который и в добре и во зле «меры держать не умеет», но «всегда по краям и пропастям блудит».
Другие исторические романы Мережковского: «Павел I», «Александр I», «14 декабря». До революционных потрясений была написана книга «Две тайны русской поэзии. Некрасов и Тютчев». Среди книг, написанных в эмиграции, выделим «Тайна Трех. Египет и Вавилон», «Тайна Запада. Атлантида – Европа», «Наполеон», «Данте», исследования о Жанне д’Арк, Лютере и т.д. Перечислять можно много. Томас Манн назвал Мережковского «гениальнейшим критиком и мировым психологом после Ницше». В 1933 Мережковский выдвигался на Нобелевскую премию, но его опередил Бунин.
Дмитрий Мережковский прожил большую жизнь (76 лет) и, казалось бы, сделал для русской литературы очень много, но, как отмечал Георгий Адамович: «Влияние Мережковского, при всей его внешней значительности, осталось внутренне ограниченным. Его мало любили, и мало кто за всю его долгую жизнь был близок к нему. Было признание, но не было прорыва, влечения, даже доверия, – в высоком, конечно, отнюдь не житейском смысле этого понятия. Мережковский – писатель одинокий».
Иван Ильин высказался еще резче: «Психология, психика, целостный организм души совсем не интересует Мережковского: он художник внешних декораций и нисколько не художник души. Душа его героя есть для него мешок, в который он наваливает, насыпает все, что ему, Мережковскому, в данный момент нужно и удобно. Пусть читатель сам переваривает все, что знает... Замечательно, что читателю никогда не удается полюбить героев Мережковского...»
«О, как страшно ничего не любить, – это уже восклицал Василий Розанов, – ничего не ненавидеть, все знать, много читать, постоянно читать и, наконец, к последнему несчастью, – вечно писать, т.е. вечно записывать свою пустоту и увековечивать то, что для всякого есть достаточное горе, если даже и сознается только в себе. От этого Мережковский вечно грустен».
И, пожалуй, последнее мнение. Критик и литератор Николай Абрамович писал в «Новой жизни» в 1912 году, что культура прошлого была «как бы бассейном, откуда черпал обильно Мережковский», но он «первый показал, что существует особого рода талантливость, заключающаяся в способности... пылать, так сказать, заемным светом... во всем этом была жизнь – и жизнь очень напряженная и яркая».
Чтобы смягчить суровость оценок современников Мережковского, приведем стихотворение «Mori turi», которое начинается так:
- Мы бесконечно одиноки,
- Богов покинутых жрецы...
Концовка стихотворения такая:
- Мы гибнем жертвой искупленья,
- Придут иные поколенья.
- Но в оный день, пред их судом,
- Да не падут на нас проклятья:
- Вы только вспомните о том,
- Как много мы страдали, братья!
- Грядущей веры новый свет,
- Тебе от гибнущих привет!
Дмитрий Мережковский скончался в Париже 9 сентября 1941 года. О его страданиях и о братьях по Серебряному веку сегодня мы не вспоминаем. Сделаем исключение и вспомним.
БУРЕВЕСТНИК, ПОЙМАННЫЙ В СЕТИ
Горький прожил неровную, напряженную и сложную жизнь.
Юрий Анненков
Я люблю Горького, но он из XIX века. Он не для меня.
Нина Берберова
Максим Горький
Линия судьбы
До недавнего времени отечественная литература напоминала двуглавого орла: одну голову русской литературы представлял Александр Пушкин, другую – советскую литературу – олицетворял Максим Горький. Так и парил орел с двумя головами, в одной связке. Но вот одну голову срубили. Остался орел, если так можно выразиться, единопушкинским. Без опасного соседства.
Действительно, Пушкин – это орел. Гордая и величественная птица. А Максим Горький все же не орел, а буревестник. Согласно словарю, это большая морская птица. Орел парит в горах, а буревестник реет над морем. Алексей Максимович, можно сказать, сам себя провозгласил гордым буревестником. Это понравилось, и Горького стали называть «Буревестником революции». Однако время русской революции прошло. Море успокоилось, и пропала необходимость в революционном клекоте – в оповещении приближающейся бури.
Основателя советской литературы сегодня мало читают, в основном о нем пишут диссертации да громко шумят специалисты-горьковеды. А дальше – тишина. Неужели прав оказался Хемингуэй, когда-то давно сказавший про Горького: «Он был очень мертвый»?
125-летие Алексея Максимовича в 1993 году практически не отмечали. Было не до юбилея: справляли «поминки по советской литературе». Хотя на Западе имя Горького широко гуляло по страницам прессы и книг. Западные исследователи отдавали дань Максиму Горькому как человеку и художнику.
Некоторый бум произошел в 1996 году в связи с 60-летием со дня смерти пролетарского писателя. Появились новые книги («Горький без грима» и другие), на экране полыхнул фильм режиссера Сорокина «Под знаком Скорпиона», в котором Горький в ужасе прозревает и произносит до жути современную фразу: «Как они меня подставили!»
Однако от некоего шебуршания и мелькания материалов о Горьком фигура и личность писателя отнюдь не стала понятной и близкой. Он по-прежнему оставался непонятным, затерявшимся в высях. Он более миф, легенда, чем живой, во плоти человек (или по-горьковски: «матерый человечище»).
Проницательный Исаак Бабель встречался с Горьким в мае 1931 года и записал в дневнике: «День 22-го провел за городом, на даче у Алексея Максимовича. Встретились мы с прежней любовью. Впечатления так сложны, что еще до сих пор не разберусь. Но старик, конечно, такой, какого другого в мире нет».
Прошли десятилетия, но не утихают высказывания о том, что Горький – человек еще далеко не раскрытый в биографической литературе. Еще Корней Чуковский писал:
«Как хотите, а я не верю в его биографию. Сын мастерового? Исходил всю Россию пешком? Не верю...» А далее Чуковский отмечал некоторые черты Горького: аккуратность, однообразие, книжность, фанатизм...
Сколько написано о Горьком, а всей точности и окончательной рельефности как не было в горьковском образе, так и нет по сей день. Буревестник-сфинкс. Буревестник-загадка.
Поэтому предупреждаю сразу, что всё, что я пишу, – это никакой не полный портрет Алексея Максимовича, а тем более в рост. А всего лишь штрихи. Некий абрис. Лирико-политические зарисовки.
Он родился 16 (28) марта 1868 года. Пересказывать биографию бессмысленно, но все же необходимо напомнить, что с 10 лет Алексей Пешков – круглый сирота. И в который раз можно поразиться его удивительным похождениям, головокружительной смене мест и профессий: Волга, Астрахань, Моздокские степи, Дунай, Черное море, Крым, Кубань, горы Кавказа... Помощник повара на корабле, продавец икон, тряпичник, грузчик, рыбак... Ну прямо российский Франсуа Вийон, а уж Джек Лондон – точно! Но вот что удивительно: казалось бы, «хождение в народ» способствует развитию любви ко всем классам, но почему-то крестьян Горький не любил, даже презирал. Ему явно не по нраву была крестьянская долготерпимость и покорность.
Босяк всея Руси был большим поклонником Фридриха Ницше и даже усы носил подобной формы, как у немецкого философа. «Босяцкое ницшеанство» Горького советские критики позднее переименовали в «революционный романтизм». Ранние герои Горького – Челкаш и Мальва – суть сверхчеловеки с босяцкого дна. Это импонировало самому Алексею Максимовичу: он не хотел быть заурядным человеком и простеньким писателем, но сверхчеловеком и непременно классиком русской литературы. И в отдельные периоды жизни он чувствовал себя и тем и другим. Были моменты и иные, когда он ощущал себя слабым и беззащитным. Не отсюда ли попытка самоубийства, происшедшая 12 декабря 1887 года (в 21 год). Как писал «Волжский вестник»: «Нижегородский цеховой Алексей Максимов Пешков... выстрелил из револьвера себе в левый бок, с целью лишить себя жизни».
Начинал Горький как поэт и в 1889 году показал Владимиру Короленко поэму в стихах и прозе «Песнь старого дуба». Короленко ее раскритиковал, и молодой автор, следуя литературной традиции, сжег свой опус.
Потом Горький перешел на рассказы, пьесы, романы, их успеху немало способствовала сама личность Горького и время, в которое он появился. Как писал Георгий Адамович: «В девяностых годах Россия изнывала от «безвременья», от тишины и покоя: единственный значительный духовный факт тех лет – проповедь Толстого – не мог ее удовлетворить. Нужна была пища погрубее, попроще, пища, на иной возраст рассчитанная, – и в это затишье, полное «грозовых» предчувствий, Горький со своими соколами и буревестниками ворвался как желанный гость. Что нес он собою? Никто в точности не знал, – да и до того ли было?..»
Аресты и заключения в тюрьму тоже способствовали его популярности (ах, как любят у нас гонимых и преследуемых!).
Горький шел путем, отличным от русских писателей-интеллигентов. Он посвятил себя ордену революционеров. Роковая связь с Лениным и с большевистской партией лишь укрепила в нем мечту о всеобщем равенстве и братстве, и вот тут Буревестник и крякнул: «Буря! Скоро грянет буря!»
Справедливости ради следует отметить, что не один Горький верил в очистительную миссию революционной бури (даже 3инаида Гиппиус жаждала перемен). Персонаж горьковской пьесы «Враги» (1906), молодой рабочий Ягодин, говорит: «Соединимся, окружим, тиснем – и готово».
Соединились. Окружили. Тиснули. И одним из первых, кто заблажил от новой жизни, был Максим Горький. Его знаменитые статьи-протесты 1917 – 1918 годов были собраны в сборник «Несвоевременные мысли». Политика насилия и кровь, пролитая большевиками, испугали Буревестника, хотя лично он находился при новой власти в привилегированном положении. Как писал Евгений Замятин: «Писатель Горький был принесен в жертву: на несколько лет он превратился в какого-то неофициального министра культуры, организатора общественных работ для выбитой из колеи, голодающей интеллигенции...»
Я не согласен с Замятиным, с его выражением «был принесен в жертву». Никакая это была не жертва, сам Максим Горький по личной воле играл роль жреца-спасителя, и эта роль ему нравилась. Он действительно многим помогал и многих спас от ЧК, не случайно у него не сложились отношения с лидером петроградских большевиков Зиновьевым. Клевала Горького и партийная печать. Журнал «На посту» прямо заявлял, что «бывший Главсокол ныне Центроуж».
В конце концов Горького спровадили за границу, там он осмысливал пережитое в революционной России и хмуро писал Ромену Роллану: «...меня болезненно смущает рост количества страданий, которыми люди платят за красоту своих надежд».
В Италии была совсем другая жизнь. В его доме всегда находились постоянные жильцы, гости и приживальщики. За помощью к Алексею Максимовичу обращались многие эмигрантские писатели. Он всем помогал, всех кормил, а на себя тратил ничтожную малость: папиросы да рюмка вермута в угловом кафе на единственной соррентинской площади. Полюбил он фейерверки, праздники, которыми была богата жизнь в Италии. Все это дало повод съехидничать Василию Розанову в одном из писем: «Наш славный Massimo Gorki».
И все же Россия тянула к себе Горького, к тому же новый хозяин страны Сталин предпринимал немалые усилия, чтобы заполучить писателя, побудить его к возвращению. Горький со своей популярностью, авторитетом, влиянием и значением в мировой культуре должен был украсить фасад СССР. Гуманизм Горького, по идее Сталина, должен был прикрыть преступления режима.
Интересно читать переписку Сталина и Горького. Писатель написал вождю более 50 писем, а все, кстати, эпистолярное наследие Горького составляет гигантскую цифру – 10 тысяч писем, из которых до сих пор не опубликовано более 15 процентов.
Горький – Сталину, 29 ноября 1929 года, Сорренто:
«...Страшно обрадован возвращением к партийной жизни Бухарина, Алексея Ивановича (Рыкова. – Ю.Б.), Томского. Очень рад. Такой праздник на душе. Тяжело переживал я этот раскол.
Крепко жму Вашу лапу. Здоровья, бодрости духа!
А. Пешков».
Так и тянет скаламбурить, что Пешков остался пешкой в сложной политической игре вождя. В конечном счете Горький и был пожертвован как пешка, когда выполнил свою функцию гуманистической вывески Советской страны и стал раздражать своим чрезмерным человеколюбием. Но это произошло не сразу. Поначалу Горькому всё понравилось по возвращении на родину. Он верил в происходящие в стране процессы и ни на секунду не допускал, что они сфабрикованы. Клеймил «врагов народа»: «Если враг не сдается – его уничтожают» – печально знаменитая статья Горького в «Правде» от 15 ноября 1930 года. Дружил с наркомом внутренних дел Ягодой. «Освятил» рабский труд заключенных на Беломорканале. Провел Первый съезд советских писателей. Он много сделал позитивного для Сталина и Страны Советов. Был за это возвеличен и восхвален (город Горький, улица Горького, театр имени Горького и т. д.). Жил Горький в своеобразной золотой клетке, бдительно охраняемой НКВД, многое не увидел и многого не понял, но постепенно начинал прозревать, ведь не случайно, что он так и не написал панегирик Сталину, которого от него так ждали. Рука не поднялась?..
«Предлагаю назвать нашу жизнь Максимально Горькой», – как-то пошутил Карл Радек. Но писателю было не до шуток. Отношения с вождем становились все более напряженными, смею предположить, что оба – Горький и Сталин – разочаровались друг в друге.
Горький дважды пережил драму личного сознания: в начале революции, в 1917 – 1918 годах, и в середине 30-х, на взлете строительства социализма. Судя по письмам и высказываниям, он горько жалел, что стал соавтором и соучастником величайшего иллюзиона XX века – строительства государства справедливости и правды, счастливого единения рабочих и крестьян при массовом истреблении остальных «враждебных» классов.
Горький умер накануне приезда в Москву двух интеллектуалов Запада – Андре Жида и Луи Арагона. Весьма вероятно, что он высказал бы им все наболевшее. Но эта «исповедь» не состоялась. Зловещим знаком предупреждения стала катастрофа гигантского самолета «Максим Горький», случившаяся за год до смерти писателя – 18 мая 1935 года.
Не будем муссировать смерть Буревестника: убили, отравили, валить всё на «железную женщину» – Марию Будберг. Не это главное: умер он естественной смертью 18 июня 1936 года или его «убрали». Главное то, что он был Буревестником в клетке. В сетях. Скованным и фактически замурованным. Он выполнил свою историческую миссию «освещения» революции и вынужден был покинуть сцену. Роль сыграна. Мавр оказался ненужным.
Поэт Александр Прокофьев вспоминал: «Умер Горький. Вызвали меня из Ленинграда – и прямо в Колонный зал. Стою в почетном карауле. Слезы туманят глаза. Вижу, Федин слезу смахивает. Погодин печально голову понурил. Вдруг появился Сталин. Мы встрепенулись и... зааплодировали».
Хороший эпизодик, не правда ли? Он говорит о многом.
Христианский мыслитель, историк культуры и, естественно, эмигрант Георгий Федотов откликнулся статьей «На смерть Горького». У нас она малоизвестна, и поэтому имеет смысл привести отрывок из нее:
«Горький никогда не был русским интеллигентом. Он всегда ненавидел эту формацию, не понимал ее и мог изображать только в грубых карикатурах... Горький не был рабочим. Горький презирал крестьянство, но у него всегда было живое чувство особого классового самосознания. Какого класса?.. Тех классов или тех низовых слоев, которые сейчас победили в России. Это новая интеллигенция, смертельно ненавидящая старую Россию и упоенная рационалистическим замыслом России новой, небывалой. Основные черты нового человека в России были предвосхищены Горьким еще 40 лет тому назад... Он всегда был с еретиками, с романтиками, с искателями, которые примешивали крупицу индивидуализма к безрадостному коллективизму Ленина... Добрая прививка ницшеанства в юности сблизила Горького с Лениным в этой готовности бить дураков по голове, чтобы научить их уму-разуму. Но, в отличие от Ленина, Горький не заигрывал с тьмой и не раздувал зверя. Тьме и зверю он объявлял войну и долго не хотел признавать торжества победителей. Горький эпохи Октябрьской революции (1917 – 1922) – это апогей человека. Никто не вправе забыть того, что сделал в эти годы Горький для России и для интеллигенции...»
Говоря о 30-х годах, Федотов восклицает:
«Как он мог не заметить страданий народа, на костях которого шла стройка? Как он мог смешать энтузиастов с чекистами и скрепить своим именем бесчеловечность беломорской каторги? Что это? Слепота? Наивность?.. В каком-то смысле слепота усталости, которая не хочет правды. Слишком горька правда, и старый человек хочет успокоиться на подушке «достижений»...»
Федотову в эмиграции было легко писать всё, что он знал и думал. Но Горький жил в центре ГУЛАГа, о чем кричит одна из его записок: «Как собака: всё понимаю, а молчу».
Можно согласиться с выводом Дэна Левина в книге «Буревестник» (1965), о том, что Горький осознал, что прожил жизнь «не на той улице», и вложил это трагическое признание в уста Егора Булычева.
Как у человека, так и у личности Максима Горького – трагическая судьба. А судьба писателя Горького? Тоже непростая. Он хотел писать, как Бунин и Леонид Андреев, а писал, естественно, как Максим Горький. Русские писатели-эмигранты невысоко ставили всё то, что делал Алексей Максимович. Борис Зайцев утверждал, к примеру, что «литературно Буревестник убог... невелик в искусстве, но значителен, как ранний Соловей-разбойник. Посвист у него довольно громкий...»
Итак, литературный посвист...
Другие мнения: реалист, бытовик или, как выразился Виктор Шкловский, «очень начитанный бытовик» («Детство», цикл «На Руси», добротные «Артамоновы» и т. д.).
Лучшая книга, на мой взгляд, – «Жизнь Клима Самгина», настоящая эпопея об интеллигенции, хотя Борис Парамонов (русский писатель, живущий на Западе) утверждает, что это всего лишь «мемуары плебея-комплексанта». Не согласен. Прекрасная книга, не потерявшая актуальности и сегодня. Вот вам маленький отрывочек:
« – Сотенку ухлопали, если не больше. Что же это значит, господа, а? Что же эта... война с народонаселением означает?
Никто не ответил ему, а Самгин подумал и сказал:
– Это – не ошибка, а система».
Ну что ж, заканчивая эти грустно-юбилейные строчки, вслед за Максимом Горьким зададим сакраментальный вопрос: «А был ли мальчик?»
Российский вопрос-фантом. А была ли империя?..
Линия любви
Получается, как в хиромантии: линия судьбы... линия любви... О первой мы уже рассказали, приступим ко второй. В романе Горького «Жизнь Клима Самгина» в уста диакона вложены следующие примечательные слова: «Любовь эта и есть славнейшее чудо мира сего, ибо хоть любить нам друг друга не за что, однако ж – любим!»
Женщины занимали в жизни Горького, без всякого преувеличения, большое место. Существуют люди холодного склада, с очень приглушенным темпераментом, для которых любовь и секс играют подчиненную, функциональную роль, поэтому они практически не переживают и не мучаются из-за встреч и разлук, не испытывают никакой «зубной боли» в сердце, по выражению Генриха Гейне. А есть люди, для которых женщина – почти все в жизни: и неодолимое влечение, и сердечная мука, и стимул к творчеству, и еще многое... Именно таким был Максим Горький. Он с юных лет откровенно тяготел к женщине, считая ее воплощением человеческой красоты.
Когда Горькому было тринадцать лет, он страстно влюбился в молодую вдову. А увидя однажды ее обнаженной, онемел от восторга. «В ее обнаженности было что-то чистое», – признавался он позднее. Горький посещал вдову по воскресеньям. Как правило, она охотно беседовала со своим юным обожателем, лежа в постели. И поза лежащей женщины, естественно, лишь распаляла будущего пролетарского писателя. Но однажды, по обыкновению придя к ней, Горький застал ее в постели с мужчиной, причем вдова при этом даже не покраснела. Мужчина – это одно, а взирающий на нее влюбленными глазами юнец – это совсем другое. То, что было для нее обычным, житейским делом, для Горького стало потрясением: для него любовь была чем-то возвышенным и неземным, а тут плотские ласки, грубое «хапанье» руками. Отзвуки этого юношеского потрясения можно найти в недоумении Лидии Варавки (в романе «Жизнь Клима Самгина») после первой интимной близости: «И это всё. Для всех одно: для поэтов, извозчиков, собак?.. Но согласитесь, что ведь этого мало для человека!»
Однако позднее Горький осознал, что любовь возникает из естественной жажды обладания, как мы говорим сегодня, из зова пола (по-английски sex appeal). Вот такую любовь, романтическую, но замешенную на плотском желании, испытал Горький к Марии Деренковой. Любовь вышла безответной, и 12 декабря 1887 года 19-летний Горький стрелялся. Самоубийства не получилось, но и попытка имела серьезные последствия: пуля попала в легкое, и впоследствии развился туберкулез, из-за которого Максим Горький страдал всю оставшуюся жизнь.
Эпизод с попыткой самоубийства, по всей вероятности, лег в основу горьковского «Рассказа о безответной любви». Героиня рассказа – провинциальная актриса Лариса Добрынина – довела до убийства одного юного поклонника и по этому поводу говорит второму воздыхателю: «Вот... убил себя милый, умный мальчик, потому что я не уступила его желанию. Но – что же мне делать? Неужели я должна покорно отдаваться в руки всех, кто меня хочет? Брагину, который третий год ожидает своего часа, вам – вы ведь, конечно, тоже надеетесь видеть меня на своей постели? Но, послушайте, неужели за то, что Бог наградил меня красотой, я должна платить каждому, кто ее хочет, если даже он противен мне?..»
Кто знает, может быть, именно этими словами и отказали Горькому, они врезались ему в память, а потом всплыли за письменным столом? Возможно, возможно...
И еще одна цитата из того же горьковского рассказа:
«В тот день была она в белом кружевном платье, и сквозь кружево сияет тело ее, – смотреть больно. Все на ней белое, чулки, туфельки, каштановые волосы коронуют голову ее, и сердито-насмешливо улыбаются глаза. Лежит на кушетке, туфля с ноги упала, пятка круглая, точно яблоко. В комнате – солнце, цветы, – невыразимо великолепна была она в цветах и солнце. Страшная сила красота женщины, сударь мой...»
Конечно, горьковское письмо не бунинское, оно победнее в словах, менее узорчатое и без изысков, но напор, пожалуй, тот же, что у Бунина: того и другого женщины буквально завораживали. Но мы с вами отвлеклись. Итак, была у Горького несчастная любовь и попытка свести счеты с жизнью. Но что обычно лечит сердечные раны? Конечно, последующая встреча с другой, более доступной и податливой женщиной. Так произошло и у Горького.
На пути его встретилась Ольга Каменская (или, по некоторым источникам, Каминская), опытная особа, старше Горького на десять лет. Встреча произошла спустя полтора года после покушения на самоубийство. В рассказе «О первой любви» Горький почти автобиографически признается: «Я был уверен, что именно эта женщина способна помочь мне не только почувствовать настоящего себя, но она может сделать нечто волшебное, после чего я тотчас освобожусь из плена темных впечатлений бытия, что-то навсегда выброшу из своей души, и она вспыхнет огнем великой силы, великой радости».
Опять же из этого отрывка встает фигура Горького как неисправимого романтика: великая любовь, великая радость... В жизни происходят, конечно, и любовь, и радость, но без этого велеречивого прилагательного «великий». Хочется великого, – это понятно, – но происходит всегда обыденное, а то и просто заземленно-забубенное. Хотя в случае с Ольгой Каменской про забубенность не скажешь, скорее тут видится некая пикантность ситуации: фактически она делит любовь между двумя солидными мужьями и пылким любовником Горьким. К тому же у Каменской на руках ребенок. Но что Горькому до всего этого? Он влюблен, он ослеплен, он жаждет быть вместе с любимой женщиной и предлагает ей развестись с официальным мужем, бросить неофициального и жить только с ним. Каменская отказывается от такого варианта, и они расстаются.
Однако судьба свела их через два года в Тифлисе. Каменская разведена, она свободна как птица, а в груди Горького по-прежнему не унимается костер собственных чувств.
Искры этих чувств вспыхивают на страницах рассказа «Макар Чудра».
«Мне до безумия хочется обнять ее, но у меня идиотски длинные, нелепо тяжелые руки, я не смею коснуться тела ее, боюсь сделать ей больно, стою перед нею и, качаясь под бурными толчками сердца, бормочу...»
На этот раз Ольга Юльевна уступила Алексею Максимовичу, и они стали жить вместе, и буквально в «шалаше» – в бане при доме священника-алкоголика. Рай в шалаше продолжался примерно два года. Горький каторжным литературным трудом зарабатывал деньги, а Каменская их легко тратила. К тому же время от времени появлялись ее бывшие мужья – Фома Фомич и Болеслав, и сердобольная женщина поддерживала их материально. Так что еще раз повторим: ситуация была пикантной. А что Горький? «Нет, я не ревновал, но всё это немножко мешало...» – можно прочитать у Алексея Максимовича.
Долго это продолжаться не могло, и пришел естественный конец. Дочка Каменской «плакала, и Каменская держала ее крепко за руку и молча минута за минутой переживала с ней вместе всё, о чем она плакала. В этот час мы хоронили вместе, она – свое детство, я – любовь».
А что хоронил Горький? Он прощался со своими романтическими иллюзиями. А жизнь тем временем катилась дальше. И вот уже новая героиня горьковского романа. В «Самарской газете», где он работал, появилась семнадцатилетняя выпускница гимназии, золотая медалистка Катя Волжина. Она – корректор, он – маститый, к тому времени, фельетонист газеты, к тому же старше ее на десять лет. Можно поиронизировать, что теперь в роли старшей и умудренной жизнью вдовы выступает уже Алексей Максимович. Катя влюбляется в зрелого литератора. И немудрено: у него с годами появилось умение распускать павлиний хвост перед женщинами. Эту черту мгновенно заметил и описал Корней Чуковский, правда, немного позднее и по отношению к другой женщине, но это не суть важно. Вот эта дневниковая запись К. Чуковского от 24 сентября 1919 года:
«Заседание по сценариям. Впервые присутствует Мария Игнатьевна Бенкендорф, и, как ни странно, Горький не говорил ни слова ей, но всё говорил для нее, распуская весь павлиний хвост. Был очень остроумен, словоохотлив, блестящ, как гимназист на балу».
Это в 41 год, а тогда – в 27! – можете представить, как заносило Алексея Максимовича на поворотах. Короче говоря, Горький увлек Волжину и сделал ей предложение. Мать Кати препятствовала браку дочери-дворянки с «нижегородским цеховым». Горький хоть и ходил тогда в журналистах, но был по происхождению все же плебсом. Но Катя настояла, и 30 августа 1896 года они обвенчались в Самаре. Катя Волжина отныне стала Екатериной Пешковой. Через год, 27 июля 1897 года, у них родился сын Максим. Потом родилась дочь Катя, но вскоре умерла.
Однако семейная жизнь Горького с Екатериной Пешковой, как говорится, не заладилась. В этом союзе было больше дружеских чувств, чем любовных, и плотское томление Горького в конце концов привело к разрыву. Но расстались они довольно мирно, более того, по-дружески, и остались на все последующие годы в друзьях, часто переписывались друг с другом, помогали советом, когда кто-нибудь из двоих в нем нуждался.
Выскажу предположение, что Горький расстался с Катериной Пешковой еще потому, что ему хотелось видеть рядом с собой женщину не домашнюю, а скорее светскую, блестящую, красивую, которая бы облагородила его провинциальную внешность и манеры. И такая женщина вскоре после разрыва с Пешковой появилась. Как говорится, на ловца и зверь бежит.
Зверь явился в образе роскошной актрисы Художественного театра Марии Андреевой. Встреча произошла в Севастополе в 1900 году, во время гастролей там Художественного театра. Гастроли проходили в каком-то летнем театре, и вот в антракте спектакля «Гедда Габлер» в дверь артистической уборной актрисы постучали. Голос Чехова:
– К вам можно, Мария Федоровна? Только я не один, со мною Горький.
«Сердце забилось – батюшки! И Чехов, и Горький! – читаем мы в воспоминаниях Марии Андреевой. – Встала навстречу. Вошел Антон Павлович – я его давно знала... за ним высокая, тонкая фигура в летней русской рубашке; волосы длинные, прямые, усы большие и рыжие, – неужели это Горький?..
– Вот познакомьтесь, Алексей Максимович Горький. Хочет наговорить вам кучу комплиментов, – сказал Антон Павлович. – А я пойду в сад, у вас тут дышать нечем.
– Черт знает! Черт знает, как вы великолепно играете, – басит Алексей Максимович и трясет меня изо всей силы за руку...»
Опускаем описание Горького, каким его представляла Андреева до встречи и каким он оказался на самом деле, это все как детали, главная фраза в воспоминаниях актрисы: «...и радостно екнуло сердце».
Сердце екнуло. Значит, любовь!.. Но в воспоминаниях Андреевой о любви нет ни слова (стеснялась? не хотела? специально замалчивала?). Есть другое: «Наша дружба с ним всё больше крепла, нас связывала общность во взглядах, интересах...»
Сошлись не только мужчина и женщина, сошлись два единомышленника, которые верили в царство добра и справедливости, путь к которому лежал через революцию. В лице Марии Андреевой Горький нашел отважную помощницу и отчаянную мечтательницу. Они соединили свои судьбы. Соединили де-факто, но не де-юре, официальной женой Горького оставалась Екатерина Пешкова. И когда Горький с Андреевой отправились в Америку добывать для революции деньги, там в прессе мгновенно возник скандал. Американские журналисты назвали Горького анархистом и двоеженцем. Дело дошло до того, что Горького и Андрееву не пускали на пороги некоторых гостиниц, наиболее пуританских, разумеется.
Новая жизнь с новой женой была бурной и деятельной: литература постоянно переплеталась с политикой, так было и в Италии, на Капри, где жили Горький и Андреева. Как писала она своей подруге Муратовой 11 сентября 1910 года: «Живем мы как когда, когда очень хорошо, иногда плохо, но всегда интересно и разнообразно».
Но разнообразие в какой-то момент перешло в однообразие, и Горький расстался с Марией Федоровной. Причем расставание опять-таки произошло тихо и мирно, без скандалов и битья посуды, – этого Алексей Максимович не выносил. Его всегда устраивал худой мир, который лучше любой ссоры. В 1925 году в Сорренто на вопрос поэта Вячеслава Иванова, как у него складываются отношения с Екатериной Пешковой, Горький ответил так: «Я с нею в самых дружеских отношениях, как и с Марией Федоровной Андреевой, с которой я жил десять лет. Мне удавалось избегать с близкими женщинами драм...»
Горький всегда стремился сохранить свое душевное спокойствие. А испытывали ли драмы его любимые женщины, получившие приставку «экс»? Наверное, все-таки да. Показательно, что после расставания с Горьким Андреева не приезжала к нему в Италию в те дни, когда там гостила Екатерина Павловна Пешкова. Каждая из них не хотела видеть соперницу.
На старости лет Андреева призналась: «А я была не права, что покинула Горького. Я поступила как женщина, а надо было поступить иначе: это все-таки был Горький...»
То есть всемирно известный писатель, поэтому следовало бы не ревновать, проглатывать обиды, быть ниже травы и тише воды и т. д. Но эту роль покорницы темпераментной Андреевой сыграть не удалось.
Последней любовью Горького стала «Мария фон Будберг, она же баронесса Бенкендорф, она же Закревская, она же Унгерн-Штернберг, 1892 года рождения, уроженка Полтавы, дочь крупного помещика» – именно так она представлена в оперативной справке НКВД.
Это была примечательная женщина, некрасивая, но талантливая, из породы авантюристок. У нее было много мужей, любовников и друзей-мужчин, которых она умела заводить и околдовывать каким-то своим особым шармом и сексуальной притягательностью. Женщина-манок. Она сумела прожить часть своей жизни с двумя литературными титанами – Максимом Горьким и Гербертом Уэллсом. В быту ее звали просто Мурой, но Нина Берберова окрестила ее «железной женщиной» и написала о ней целую книгу.
Не будем цитировать Берберову (кто захочет, тот прочитает «Железную женщину» сам), лучше приведем один любопытный документик – письмо Максима Горького властителю Петрограда Григорию Зиновьеву: «Позвольте еще раз напомнить Вам о Марии Бенкендорф – нельзя ли выпустить ее на поруки мне? К празднику Пасхи? А. П.».
На момент письма, в апреле 1920 года, Мария Бенкендорф-Будберг сидела в подвалах ЧК за связь с английским послом Локкартом и подозревалась в шпионаже против советской России, кстати, ее арестовали чуть ли не в постели посла. Зиновьев откликнулся на просьбу Горького, и Алексей Максимович получил Муру, выражаясь фигурально, в качестве пасхального подарка. Подарок пришелся очень к месту: Мура стала секретарем затеянного Горьким издательства «Всемирная литература» и одновременно личным литературным секретарем писателя. Впрочем, ее функции получились весьма расширительные: секретарь, консультант, переводчик, домоправительница и любовница. Гениальная женщина, не каждая на такое способна!
Был момент, когда она покинула Горького и уехала к Уэллсу, а Алексей Максимович бомбил ее письмами, в которых полыхали и страсть, и надрыв, и тоска. Любимая женщина вернулась и скрасила последние месяцы смертельно больного Горького. Есть версия, что именно она убила знаменитого любовника по заданию чекистов, на которых работала. Лично я в это не верю.
Когда Горький умер, в крематории присутствовали все три женщины Алексея Максимовича – одна официальная и две невенчанные жены. В книге Галины Серебряковой «О других и о себе» можно прочитать такой пассаж: «Из полутьмы, четко вырисовываясь, в траурном платье появилась Екатерина Павловна Пешкова – неизменный друг Горького. Тяжело опиралась она на руку невестки. За ней шла Мария Федоровна Андреева с сыном, кинорежиссером Желябужским. И поодаль, совсем одна, остановилась Мария Игнатьевна Будберг. Все эти три женщины чем-то неуловимо походили одна на другую: статные, красивые, гордые, одухотворенные...»
Что ж, отдадим дань вкусу Горького.
Все три главные женщины Горького пережили его намного. Мария Андреева умерла 8 декабря 1953 года в возрасте 85 лет. Настоящий «феномен», как назвал ее Ленин. Екатерина Пешкова скончалась в 1965 году, прожив на свете 87 лет, а в 1974 году ушла из жизни Мура, «железная женщина», в возрасте 82 лет.
Так что все – долгожительницы. «Сколько ей лет? – удивлялся Корней Чуковский Екатерине Павловне Пешковой. А она бодра, возбужденна, эмоциональна, порывиста...»
Последней своей пассии – Будберг-Бенкендорф, любимой Муре, Горький посвятил самое крупное и значительное произведение из всего того, что написал: «Жизнь Клима Самгина».
Любопытную запись оставил Корней Иванович в своем дневнике от 30 апреля 1962 года:
«Екатерина Павловна Пешкова получила от Марии Игнатьевны Бенкендорф (Будберг) просьбу пригласить ее к себе из Англии. Екатерина Павловна исполнила ее желание. «Изо всех увлечений Алексея Максимовича, – сказала она мне сегодня, – я меньше всего могла возражать против этого увлечения: Мария Игнатьевна – женщина интересная».
С чего начали – тем и закончили: вкус у Максима Горького был отменный.
Вот и все, пожалуй, о Буревестнике, который пытался приспособить мировую литературу к нуждам пролетариата. Писатель и царедворец. Гуманист и конформист. А еще он – человек для подражания, ибо сумел сам себя сделать. А это удается далеко не каждому.
ИСКАТЕЛЬ ПРАВДЫ
Викентий Вересаев
Кто-то однажды сказал: «Я знаю двух Вересаевых: один – врач, другой – писатель». Этот просвещенный товарищ ошибся: Вересаев один. Он написал некогда нашумевшую книгу «Записки врача» (1901), и он же написал еще много других замечательных книг.
Итак, Викентий Вересаев. Имя почти забытое и, конечно, зря. На слуху болоболые политики, полуобнаженные поп-дивы, поющие под фанеру, предприниматели-чекисты, делящие тайно или явно собственность, и еще Бог знает кто, кому сопутствует ветер дикого капитализма. Время проныр, циников и рвачей. И только иногда слышен ностальгический вздох классика: «Да, были люди в наше время!..» Действительно, и какие! К примеру, тот же Вересаев. Максим Горький писал ему из Италии:
«...Хороший Вы человек, Викентий Викентьевич, уж разрешите сказать это. И когда люди Вашего типа вымрут в России, а они, должны вымереть и скоро уже – лишится Русь значительной части духовной красоты, силы и оригинальности своей. Лишится! И не скоро наживет подобных!»
Как в воду глядел Алексей Максимович. Вымерли Вересаевы в России. А новые так и не народились. Одна мелочь пузатая, надутая и чванливая, – прости меня, Господи!..
Двадцати двух лет, 24 октября 1889 года Вересаев записывал в дневнике: «Пусть человек во всех кругом чувствует братьев – чувствует сердцем, невольно. Ведь это – решение всех вопросов, смысл жизни, счастье». Сейчас не человеколюбие, а остервенелая ненависть в ходу.
Вересаев – патриарх литературы. Он – современник Салтыкова-Щедрина и Гаршина, Льва Толстого и Короленко, Чехова и Горького. Он был и нашим современником. Плодовитый автор – писал романы, повести, рассказы, очерки, стихи, пьесы, литературно-философские трактаты, выступал как литературовед, критик, публицист, переводчик. Жил Вересаев в бурную эпоху политических и социальных сломов, однако сам не сломался, не прогнулся ни под каким режимом, себя духовно сохранил до конца, недаром в молодые годы за «нерушимость взглядов» прозвали его Каменным мостом. Как построил себя, так и стоял насмерть, выдерживая любые нагрузки. Остался верен завещанию, которое ему, 12-летнему мальчику, еще в 1879 году написали родители на подаренной книге:
- Стой – не сгибайся, не пресмыкайся,
- Правде одной на земле поклоняйся.
Вересаев и стал рыцарем правды. Все его творчество можно охарактеризовать старомодным словом «служение».
Ну, а теперь очень кратко о жизненном пути Викентия Вересаева. Его настоящая фамилия – Смидович. Родился он 4 (16) января 1867 года в Туле, в семье польского ссыльного дворянина (его предки участвовали в польском восстании), известного врача Викентия Смидовича. Мать – Елизавета Юницкая, дочь врача, была организатором первого в Туле детского сада. В семье воспитывалось 8 детей. Кстати, приведем оригинальное высказывание Вересаева: «Всякий двухлетний ребенок – гений, всякий пятнадцатилетний мальчик-негодяй». Но это так, общее наблюдение.
Вересаев окончил классическую гимназию с серебряной медалью. Затем историко-филологический факультет Петербургского университета, а еще медицинский факультет Дерптского университета. По образованию он – врач и филолог. Долгие годы совмещал врачебную практику с литературными занятиями. Первая публикация, увидевшая свет – стихотворение «Раздумье», – в журнале «Модный свет». Автору было 13 лет. Он давно увлекся чтением, читал от Майн Рида до Писарева и Добролюбова. Любимым поэтом был Лермонтов. Вересаев начал с поэзии, а потом перешел на прозу.
В Русско-японскую войну Вересаев был мобилизован в действующую армию в качестве врача военно-полевого госпиталя. Понюхал пороха в Мукденском сражении и в бою на реке Шахэ.
Литературное имя Вересаеву принесли «Записки врача», которые он писал, по своему признанию, «ничего не утаивая» и «искренно». В книге затронуты проблемы профессиональной медицинской этики и отношений между врачом и пациентом. Книга вызвала бурю критики, многократно переиздавалась и была переведена на многие европейские языки. «Поистине очистительной грозою промчалась она буквально по всему миру, как удар по замкнутой и ревнивой кастовости», – писал Виктор Шкловский.
Как литератор, Вересаев находился под сильным влиянием Тургенева, Льва Толстого и Чехова. Главная тема вересаевских произведений – жизнь и духовные искания русской интеллигенции. Ей посвящены повести «Без дороги» (1895) и «На повороте» (1902), рассказ «Поветрие» (1898). Не избежал Вересаев кратковременного увлечения марксистской идеологией, описывая жизнь рабочих. Упомянем цикл рассказов о войне. Отразил писатель и революционные события в России – повесть «К жизни», рассказ «Паутина». И выделим книгу Вересаева «Живая жизнь», посвященную Достоевскому, Льву Толстому и Ницше. Пресса неизменно величала Вересаева писателем-интеллигентом.
В апреле 1917 года Вересаев возглавил художественно-просветительскую комиссию московского совета рабочих депутатов. После Октября не захотел служить и целиком сосредоточился на литературной работе. Жил в Крыму при большевиках и стал свидетелей красного террора. Увиденное легло в основу романа «В тупике» (1923), который стал одним из первых произведений о Гражданской войне и трагедии становления советской власти, о страданиях и муках интеллигенции. Примечательно, что вопрос об издании «В тупике» отдельной книгой решался в Кремле. Демьян Бедный выступил решительно против. Как ни странно, поддержал Дзержинский. Не возражал Сталин. Роман после 1923 года переиздавался 8 раз.
В 1926 году Вересаева избрали председателем Всероссийского союза писателей, но вскоре он понял, что в сложившейся обстановке руководить союзом не может и в сентябре следующего года Вересаев сложил с себя полномочия председателя. Что касается помощи отдельным писателям, то Вересаев продолжал это делать, помогая нуждающимся Волошину, Грину, Сологубу и другим литераторам. Помогал материально он и вдове Михаила Булгакова.
В 1933 году вышел роман «Сестры», посвященный проблемам комсомола и молодежи, о разительном расхождении между реальной жизнью и коммунистическими постулатами, о лжи и фальши идей. И тут же Вересаев был осужден критиками за «биологизм», «очернительство», за «клеветническую карикатуру на комсомол». Власть вспомнила предыдущий роман «В тупике» и прозрела: да и это клевета! И оба романа были тут же «арестованы» и отправлены в спецхран, подальше от читательских глаз. Вновь « В тупике» и «Сестры» были переизданы лишь в 1990 году.
Итак, прозорливый Вересаев не зря живописал своего героя врача Ивана Сартанова в тупике после революционных бурь, в тупике оказалась и Россия под властью большевиков. Романами «В тупике» и «Сестры» Вересаев предупреждал, что страна скатывается в бездну, что Россия на гибельном пути, а официальная власть утверждала обратное, что «жизнь стала веселее». В 1933 году Вересаев с горечью записал в дневнике: «Эх, правда, правда, – главный и любимейший герой Льва Толстого, – выгнали тебя вон из русской литературы». Вересаев, как и его любимый Толстой, писали в стиле критического реализма, а в советские годы требовался иной – социалистический реализм, с умолчаниями, искажениями, но с пафосом и оптимизмом. Вересаев так не писал. «Я имею претензии считаться честным писателем», – говорил он.
В 1943 году совершенно неожиданно Вересаев узнал о присуждении ему Сталинской премии «За многолетние выдающиеся достижении в области искусства и литературы» и невероятно расстроился, от недоумения не спал всю ночь, так как расценил премию как оскорбление. В дневнике с горечью спрашивал самого себя: за что? что я сделал столь неприличного, достойного этой позорной награды, премии имени тирана?..
После запрещенных романов «В тупике» и «Сестры» Вересаев отошел от художественной прозы и занялся исторической. И написал замечательные книги «Пушкин в жизни» (1926 – 27), «Спутники Пушкина» (1936), «Гоголь в жизни» (1933). При их написании писатель применил принцип «художественного монтажа» документов, писем, мемуаров современников. Все это переплавил и прокомментировал, получилось весьма занимательно и поучительно. Академический пушкинизм Вересаев максимально сблизил с читателем. Из почти 400 портретов людей, окружавших Пушкина (друзей и случайных знакомых) по-новому высветился образ любимого поэта.
Помимо этого Вересаев написал и ряд других книг, в том числе воспоминания «Записи для себя». В них писатель признался: «Не знаю, испытывают ли что-нибудь похожее другие, но у меня так: далеко в глубине души, в очень темном ее уголке, прячется сознание, что я все тот же мальчик Витя Смидович; а то, что я – «писатель», «доктор», что мне скоро 60 лет, – всё это только нарочно; немножко поскрести, – и осыплется шелуха, выскочит маленький мальчик Витя Смидович и захочет выкинуть какую-нибудь озорную штуку самого детского размаха».
И еще одно тонкое психологическое наблюдение: «Глаза – зеркало души. Какой вздор! Глаза – обманчивая маска, глаза – ширмы, скрывающие душу. Зеркало души – губы... Чудесные, светлые глаза и хищные губы. Девически-невинные глаза и развратные губы... Берегитесь глаз! Из-за глаз именно так часто и обманываются в людях. Губы не обманут».
В 30 – 40-е годы Вересаев находился в странном положении: признания и забвении одновременно. Однажды он в «Правде» прочитал: «Книги В.В. Вересаева давно стали общенародным достоянием». Прочитал писатель это и записал в дневнике: «Горько читать. Труда невыразимого стоило протащить каждую мою книгу даже в самом ничтожном тираже. И я прочною стеною отгорожен от читателя... Выход был только один – честно молчать».
Художник, по словам Вересаева, всегда должен быть самим собою, сохраняя дух свободы. Выступая в литературной студии перед молодыми авторами и отвечая на вопрос, что нужно для того, чтобы быть писателем? – отвечал: «Смотреть собственными глазами, слушать собственными ушами». Он не сказал вслух, но вся его жизнь говорила и о том, что надо быть подальше от власти и не принимать от нее никаких подачек.
«В душном вагоне метро, – писал Виктор Шкловский, – совсем недавно встретил я Вересаева. Он был болен и как врач знал сроки жизни, но говорил только о Гомере, о точности перевода...»
Викентий Викентьевич работал до последних дней, а в день кончины редактировал собственный перевод одной из песен «Илиады». Одними из последних его слов, обращенных к близким, были: «Да, в жизнь нужно входить не веселым гулякою, как в приятную рощу, а с благоговейным трепетом, как в священный лес, полный жизни и тайны».
Вересаев умер 3 июня 1945 года в Москве, в возрасте 78 лет. В 125-летие писателя в Туле был открыт Дом-музей Вересаева и состоялась научная конференция «Первые Вересаевские чтения» И, действительно, есть чему поучиться у замечательного писателя и мыслителя.
В дневнике он честно признавался: «Нужно громадное, почти нечеловеческое мужество, чтоб самому себе говорить правду в глаза». (1 апреля 1890). А еще, как он утверждал, чтобы быть счастливым, человеку необходимо научиться побеждать свои темные инстинкты. И помочь в этом может «живая жизнь»: умение радоваться пустяку, повседневности, занятие физическим трудом, общение с природой. «Одним лучом солнца можно перестроить всю душу человека и жизненно-страшное сделать смешно нестрашным», – говорил Викентий Викентьевич.
ПОНИКШИЕ АЛЫЕ ПАРУСА
Александр Грин
«Алые паруса» – это Александр Грин. Неисправимый романтик с горячим сердцем и не менее горящими глазами. В век холодного прагматизма и ледяного цинизма он не в моде. Или, скажем так, почти забыт. Не нужен. Есть многочисленные бары и кафе «Алые паруса». Есть клубы. В библиотеках стоят книги Грина. Но кто читает их сегодня? В героях ныне ходят не прекрасная Ассоль, не бегущая по волнам Фрези Грант, не капитан Грэй, а другие – менты, сыщики, киллеры, проститутки, шлюхи, олигархи и банкиры. Среди них гриновские персонажи как инопланетяне. И никто не хочет брать билет в феерическую страну Гринландию. Богатых прельщает Куршавель, а бедных – Турция...
Краткие вехи жизни
Александр Степанович Грин родился 11 (23) августа 1880 года в городке Слободском, неподалеку от Вятки, в семье счетовода земской больницы. Отец Стефан (по-русски Степан) Гриневскиий, сын польского помещика, еще гимназистом был сослан из Витебска в Вятскую губернию, под надзор полиции за участие в Польском восстании 1863 года. Предки матери – потомки военнопленного петровских времен шведа Лепке. Мать умерла рано, когда Грин был подростком.
Отец женился вторично, и отношения с мачехой у будущего писателя не сложились. В «Автобиографической повести» Грин рассказывал о бедности в семье, об отцовском пьянстве, о жестокости мачехи. Впрочем, в повести Грин критикует и себя: «...будучи нетерпелив, страстен и небрежен, я ни в чем не достигал совершенства, всегда мечтами возмещал недостатки своей работы». И еще более уничижительно: «Я был наивен, мало что знал о людях, не умел жить тем, чем живут окружающие, был нерасторопен, не силен, не сообразителен». Согласитесь, что это очень контрастирует с большинством юношей, которые почти кричат: «Я! Я! Я могу! Я умею! Я сделаю!..»
Тихий и нерасторопный мальчик Саша Гриневский, будущий Грин, поступил в Александровское реальное училище, откуда был через 2 года исключен за стишки, высмеивающие преподавателей. Мал, да удал? Отец с трудом устроил его в 4-классное училище, на этом образование Грина закончилось. Дальше путь писателя-самоучки.
Грин рано проявил способности к творчеству. И рано проявилась у него способность к фантазированию, к придумыванию того, чего нет на самом деле. Его школьные сочинения оценивали так: «Написано отлично, но не по теме». С детства Грин увлекался зарубежной приключенческой литературой – Жюль Верн, Фенимор Купер, Эдгар По. Он бредил Америкой, жаждал путешествовать, особенно его привлекало море, которого он не мог увидеть в Вятке. «Грезилось мне море, покрытое парусами...» – вспоминал о своем детстве писатель.
В 16 лет Грин покинул родной дом и отправился поступать в Одесские мореходные классы. Первые впечатления незабываемы: «Уже потрясенный, взволнованный зрелищем большего портового города, его ослепительно знойными улицами, обсаженными акациями, я торопливо собрался идти – увидеть, наконец, море... Я вышел на Театральную площадь, обогнул театр и, пораженный, остановился: внизу слева и справа гудел полуденный порт. Дым, паруса, корабли, поезда, пароходы, мачты, синий рейд – все было там...» («Автобиографическая повесть»)
Прием в мореходные классы был уже закончен, и Грин в конце августа 1896 года поступил юнгой на пароход «Платон», на котором отправился в каботажное плавание вдоль берегов Крыма и Кавказа. Как там у Эдуарда Багрицкого? «Ай, звездная полночь! Ай, Черное море!..» Тяжкий труд юнги скрашивала морская романтика, и он не жаловался. Потом было еще одно плавание на шхуне под парусом. И заграничное плавание на пароходе «Цесаревич» мимо Стамбула и Смирны в Александрию. На обратном пути из-за ссоры с капитаном Грин был списан на берег. После чего последовали 6 лет скитаний. Пришлось быть грузчиком, землекопом, плотогоном, железнодорожным рабочим, золотоискателем, переписчиком ролей в провинциальном театре и даже шпагоглотателем в бродячем цирке. А были периоды простого бродяжничества и нищенства. Все было. «Жизненные университеты», как у Максима Горького.