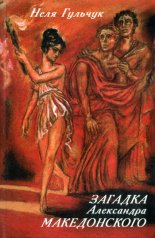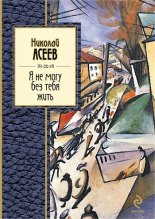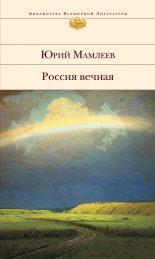Знаменитые писатели Запада. 55 портретов Безелянский Юрий
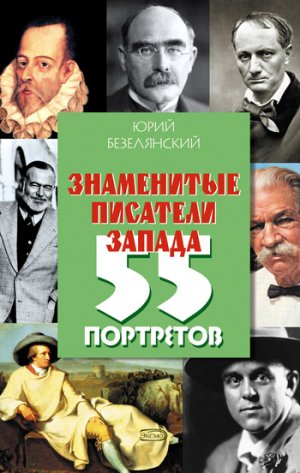
Это последнее дошедшее до нас письмо Флобера к Луизе Коле. Оно датировано 1854 годом.
Все написанное Луизой было насквозь женским: «О чем думают любя», «То, что в сердце женщины» и т. д. Все писания Коле для Флобера были легковерными сочинениями, и он ей советовал: «Ты достигнешь полноты таланта, если освободишься от своего пола». Совет, конечно, абсурдный. Как освободиться от пола?
В письме от 24 апреля 1852 года Флобер открывает глаза Луизе на истинную духовную и анатомическую природу женщин: «…Ангела легче нарисовать, чем женщину; крылья скрывают горб… они искренне сами с собою, они не признаются себе в своих плотских чувствах, они принимают свой зад за свое сердце… из-за своей природной склонности к косоглазию он не видят ни истинного, когда его встречают, ни прекрасного, где оно есть…»
Можно себе предоставить, как пылала от возмущения Луиза Коле, читая эти флоберовские выпады против женщин. Да и другое признание своего любовника — «у меня человеческое сердце, и если я не хочу иметь собственного ребенка, то только потому, что тогда, я чувствую это, оно станет слишком отцовским…»
Флобер хотел одного, чтобы сердце оставалось преданным только литературе. Когда однажды Теофиль Готье спросил его, почему он не женился на Луизе Коле, Флобер ответил: «Она могла бы войти в мой кабинет». В святое святых! Нет, это невозможно!..
После окончательного разрыва Луиза никак не могла успокоиться и отдалась целиком чувству мести. Она писала Флоберу анонимные письма, в которых называла его шарлатаном, а позднее осуществила и чисто литературную месть: вывела Флобера в своем романе «Он» в образе бесчувственного эгоиста, растоптавшего прекрасные чувства любящей женщины.
Кто-то сказал: «Сладчайшая месть — это прощение». Луиза Коле не простила Флобера.
Флобер и Жорж Санд
Еще одна «флоберовская» женщина — Жорж Санд. Она была старше Флобера на 17 лет, и тут, конечно, была чистая платоника, дружба и взаимная симпатия между двумя писателями. Сверстник Флобера Шарль Бодлер относился к Жорж Санд скептически, считая, что ей «свойственна известная плавность стиля, столь дорогая сердцу буржуя…» Да, она была писательницей противоположного Флоберу стиля, но, несмотря на это, Флобер после знакомства с ней в 1857 году испытывал к ней явную симпатию и большое уважение.
«Это я — таинственное существо? — спрашивал Флобер в письме к Жорж Санд в сентябре 1866 года. — Полно, дорогой маэстро. Я считаю себя отвратительно пошлым и временами страшно досадую на буржуа, который сидит во мне…»
«Дорогой маэстро» — прелестное обращение. Они переписывались в течение 10 лет — с 1866 по 1876 год — до смерти Жорж Санд. Основная тема переписки: творчество и, если выражаться высокопарно, лаборатория мастерства. «У Вас поток идей течет непрерывно, как река, у меня же как маленький ручеек…» — не то сообщал, не то жаловался Флобер.
Это были два антипода: Флобер — трудный, склонный к уединению гений, опередивший свое время, Жорж Санд — плодовитая и популярная писательница.
«Вы пишете на века, — рассуждала Жорж Санд в письме к Флоберу, — а меня, думаю, совсем позабудут или крепко очернят уже через полвека. Таков естественный конец истории. Ведь я пытаюсь влиять скорее на моих современников… заставляя их разделить мое представление о добродетели и поэтичности».
Флобер — Жорж Санд: «Вы одна и грустите; то же самое происходит со мной здесь (в Круассе. — Ю.Б.). Откуда берутся приступы мрачного настроения, которые по временам овладевают нами? Они набегают как морской прибой, чувствуешь себя так, словно утопаешь, хочется бежать. Я в таких случаях ложусь на спину, бездельничаю, и волна отливает…»
Флобер и Жорж Санд частенько писали о своем самочувствии, о настроении, о каких-то житейских делах, но все же основное в их переписке было творчество, проблема вечного искусства, Флобер считал, что «любой буржуа может обладать и отзывчивостью, и утонченностью, другими величайшими достоинствами, но при этом не быть творцом». Жорж Санд возражала: «Вы забываете, что есть нечто, что выше творчества, мудрость, и любое творчество есть не что иное, как выражение мудрости».
«Ах, мой дорогой мэтр! — отвечал Флобер. — Если Вы только научитесь ненавидеть! Именно ненависти Вам не достает. Ведь своими прекрасными загадочными очами Вы видите мир сквозь золотистую дымку…»
А что, собственно, говоря, надо ненавидеть? Объектами ненависти у Флобера были избирательное право и христианство. «Неокатолицизм, с одной стороны, и социализм, с другой, оглупили Францию, — возмущался Флобер. — Все теперь сводится либо к непорочному зачатию, либо к завтракам для рабочих». И в другом письме: «Я ненавижу демократию… потому что она основана на морали и Евангелии, а ведь они — что бы там ни говорили — сама аморальность, поскольку возвышают милосердие в ущерб справедливости…»
Для Флобера справедливость — больная тема, ибо весь он во власти несправедливого отношения к его творчеству. У Жорж Санд иная позиция, и она пишет: «Я никогда не умела отделять справедливость, о которой Вы говорите, от любви… Тот, кто отрицает любовь, отрицает саму истину и справедливость».
А потом грянули исторические события: унизительное поражение Франции в войне с Пруссией и разгул насилия в период Парижской Коммуны, — все это не могло не отразиться во взглядах Флобера и Жорж Санд.
«Пройдет немалого времени, прежде чем мы снова двинемся вперед, — пророчествовал Флобер. — Возможно, возродятся расовые войны, и через столетия мы увидим, как миллионы людей убивают друг друга?»
Через 34 года после смерти Флобера разразилась кровопролитная Первая мировая война…
Возражая против яростной нетерпимости Флобера, Жорж Санд писала ему: «Вы слишком любите литературу. Она убьет Вас, а Вы так и не сможете уничтожить человеческую глупость. Эту несчастную, дорогую мне глупость, к которой я отношусь по-матерински. Ведь она подобна младенчеству».
Флобер не согласился: «Не уверяйте меня, что „глупость свята, как младенец“. Ведь у глупости нет производительной силы. Дозвольте мне по-прежнему верить в то, что мертвые ничего не ищут, а покоятся в мире. На земле достаточно мук, пусть же и нам дадут отдохнуть в могиле».
Очень мрачным был господин Флобер. Очень мрачным. Читал его переписку с Жорж Санд, как бы сам участвуешь в интеллектуальной оргии, затеянной двумя титанами литературы. Однако, как отметил английский критик, налицо парадокс: мрачная раздраженность Флобера не только не угнетает, а, наоборот, бодрит нас, а мягкая доброжелательность Жорж Санд успокаивает…
Ну что ж, успокоившись, перейдем к следующей главке.
Флобер и Тургенев
Флоберу понравился Иван Тургенев, этот высоченного роста русский барин, русоволосый, всем своим обликом излучающий добродушие и печаль. Флоберу исполнилось 47 лет и он пригласил Тургенева к себе в гости: «Наконец-то мы хоть немного побудем вместе, дорогой друг! Советую вам ехать утренним поездом, который прибывает в Руан в 0.40. Там будет ждать карета, которая доставит вас в Круассе за 20 минут».
Флобер и Тургенев к этому времени знакомы уже лет пять. Они встречались в Париже на «Обеде освистанных авторов», на «Обедах пяти» и на «Обедах Флобера», где постоянно велись горячие споры по проблемам литературы. Знакомство перешло в дружбу, о которой американский писатель Генри Джеймс писал так:
«Между ними было некоторое сходство. Оба — высокие, массивные мужчины, хотя русский был несколько выше нормандца. Оба отличались большой честностью и искренностью и обладали прекрасно развитым чувством юмора. Они горячо привязались друг к другу, но мне казалось, что в отношениях Тургенева к Флоберу заметно было сочувствие к судьбе друга, удивляться этому не приходилось, у Флобера было больше неуспехов, чем удач. Громадный труд не дал ожидаемых результатов… Его усилия были поистине героическими, но за исключением „Мадам Бовари“ он сам скорее „топил“ свои произведения, чем способствовал их успеху… Флобер был слишком холоден, хотя изо всех сил старался воспламениться, и не найдете в его повестях ничего подобного страсти Елены к Инсарову, чистоте Лизы, скорби стариков Базаровых. А между тем Флобер во что бы то ни стало хотел быть патетическим… Было нечто трогательное в этом сильном человеке, который не мог вполне выразить самого себя».
Переписка Тургенева и Флобера 1863–1880 годов была опубликована во Франции под заголовком «Нормандец и москвич», в ней выражено восхищение друг другом. Флобер восхищался тургеневскими «Записками охотника», Тургенев — «Мадам Бовари» и сетовал на то, что повстречал французского романиста «так поздно» в своей жизни.
Оба классика были разными людьми, но, может быть, эти разности и притягивали их друг к другу. Тургенев был рассеян, склонен к тихой грусти, скептичен, немного ленив и в то же время активно жизнелюбив, изъяснялся он на изумительном французском языке, каким пользовались, по свидетельству Ипполита Тэна, в салонах XVIII века. Личная жизнь Тургенева известна: «на краю чужого гнезда» в семействе Полины и Луи Виардо.
Нормандец (Флобер — житель Нормандии) был одинок, эгоцентричен, подвержен приступам ипохондрии — словом, представлял собой законченный тип «артистической натуры». Дом в Круассе, по свидетельству Генри Джеймса, он превратил в жилище литературного поденщика. Здесь он трудился «как помешанный», «как 36 миллионов негров», «как целое племя чернокожих невольников», здесь оттачивал художественное совершенство своих произведений.
Флобер трудно сходился с людьми, Тургенев явился редким исключением — с ним «нормандец» любил беседовать, читал ему свои рукописи, изливал душу, «для меня вы — единственный Человек, которого я считаю действительно достойным так называться», — писал Флобер Тургеневу в марте 1873 года. «Никогда ни к кому не тянуло меня так, как к вам. Общество моего милого Тургенева благотворно для моего сердца», — писал Флобер в 1878 году. И подобных признаний в 250 письмах, написанных Флобером Тургеневу, очень много.
Но, увы, Тургенев тяжел на подъем, он только обещает приехать в Круассе — «нам есть что рассказать друг другу, от чего затрясутся стены комнаты!» Флобер в предвкушении потирает руки, смотрит на стены — они не трясутся, и Тургенева как не было, так и нет. Но тем не менее Тургенев, бывая в разных уголках Европы, регулярно присылает Флоберу вырезки из статей, где упоминаются книги Флобера.
В своих посланиях Тургенев дает Флоберу всякие советы (русские обожают советовать!), например ходить пешком: «Я знаю, вы не любите ходить пешком, но нужно, чтобы вы принуждали себя к этому». В ответ следует письмо Флобера: «Знаете ли вы, что я сломал ногу ровно через пять минут после того, как прочел письмо, в котором вы рекомендуете мне совершать пешие прогулки? Разве это не забавно?»
Тургенев чувствовал, что его французского друга гнетет тоска, и в своих письмах старался передать частицу покоя и тепла, другими словами, утешал. Тургенев постоянно делал вид, что здоровье его совершенно не занимает, и когда говорил о надвигающейся собственной старости, то делал это с изрядной долей самоиронии: «Я стал похож на перезревшую грушу или разношенный башмак». Возможно, Тургенев так делал специально, подлаживаясь под пессимизм своего французского друга и желая дать ему почувствовать, что тот не одинок в своих бедах. Тургенев умел хорошо сочувствовать, тем более что у него было отменное лекарство от собственной тоски — приехать в Россию и «бродить по аллеям старого парка в Спасском-Лутовинове и вздыхать полной грудью сельские запахи».
У Флобера такой отдушины нет. На него природа действовала угнетающе. По совету врачей он отправлялся в горы в Швейцарию, но возвращался с еще более расстроенной нервной системой. «Я не принадлежу к числу любителей природы, — признавался Флобер Тургеневу. — Я говорю ей:
— Ты прекрасна — недавно я вышел из тебя и вскоре вновь возвращусь в твое лоно. Оставь же меня в покое, мне нужны другие увлечения».
Эти «увлечения», согласно переписке, нескончаемые беседы со своими персонажами: святым Антонием, служанкой Фелисате из романа «Простая душа» («моя добрая подружка»), с забавными чудаками Буваром и Пекюше… Книги для Флобера были выше всяких гор и любой природы.
Если собственные книги порождали у него порой тоску, то некоторые произведения других авторов доставляли ему наслаждение. После того как он прочел присланный ему Тургеневым роман Толстого «Война и мир», его буквально взорвало: «Расскажите мне об этом писателе! Это его первая книга? Как хотите, а это богатырь! Превосходно, действительно, превосходно!»
Тургенев чаще посылает в Круассе подарки, чем является сам.
«Здесь, в Круассе, непрерывные дожди; люди утопают, — сообщает Флобер Тургеневу в письме от 8 ноября 1876 года. — Но так как я не выхожу из дому, мне наплевать, да к тому же ведь у меня имеется ваш халат!!! Дважды в день благословляю вас за этот подарок: утром, поднимаясь с постели, и вечером около 5–6 часов, когда я облекаюсь в него, чтобы „посумерничать“ на диване.
Пожалуй, нет надежды увидеть вас у моих пенат до нового года…
Целую вас, дорогой старинушка».
И «старинушка» старел, и Флобер был не в форме. «Чувствую себя в полной прострации от усталости. Бувар и Пекюше мучают меня, и настал час положить всему этому конец. Не то конец придет ко мне», — сообщал Флобер Тургеневу.
6 мая 1880 года Тургенев отравил пиьмо в Круассе, которое заканчивалось словами: «Обнимаю и скоро увижу вас…»
Не увидел и не обнял. Ибо 8 мая Гюстав Флобер скончался от кровоизлияния в мозг. Дружба в письмах иссякла. А 3 сентября 1883 года в Бужевале, под Парижем, умер и Иван Сергеевич Тургенев.
По следам Флобера
Рожденная фантазией Флобера мадам Бовари вошла в мировую галерею великих женских образов: Джульетта, леди Макбет, Дульцинея Тобосская, Джен Эйр, Евгения Гранде, Анна Каренина, ибсеновская Нора, Настасья Филипповна, Скарлетт О’Хара…
В большую книгу афоризмов вошли высказывания Флобера:
«Художник должен присутствовать в своем произведении, как Бог во вселенной: быть вездесущим и невидимым».
«Женщины слишком доверяют мужчинам вообще и слишком доверяют им в частности».
Флоберовский сюжет «Саламбо» лег в основу оперы Мусоргского и балета Арендса под тем же названием «Саламбо».
Что касается литературных влияний Флобера на других писателей, то их было немало, многие использовали в своих героинях прием Флобера, приговорившего Эмму Бовари к банальности. Спустя 120 лет, в 1968 году, англичанин Джон Фаулз создал «Мадам Бовари» на свой лад, написав роман, тоже ставший знаменитым, — «Женщина французского лейтенанта». Ее героиню Сару Дудраф и Эмму Бовари роднят не только возраст, эпоха и фасон платья, но и многое другое. Но есть и отличие: Сара в отличие от Эммы не губительница, а проводник Жизни, хотя, возможно, поворот заключен и в мужчине, ибо старая истина: мужчина находит в женщине то, что ищет. Если сравнивать оба романа, то нюансы заключены в акцентах: Флобер призывает жить без иллюзии, а Фаулз зовет претерпеть жизнь, постоянно очищая ее от наслоений ложных смыслов, пошлости, привычки, — по крайней мере так считает молодой критик Гела Гринева.
От литературы в кино.
«Мадам Бовари» четырежды была экранизирована в кино. В 1934 году фильм по роману Флобера снял французский режиссер Жан Ренуар. В 1937 году к Флоберовскому роману обратился немецкий режиссер Герхардт Лампрехт. В его картине роль Эммы великолепно сыграла Пола Негри, немецкая и американская киноактриса, полька по национальности. В 1949 году вышла в США лента режиссера Винсента Миннелли (отца Лайзы Миннелли). И последняя экранизация — фильм Клода Шаброля «Мадам Бовари» с Изабель Юппер в главной роли. Юппер сыграла Бовари многозначно и впечатляюще, недвусмысленно показывая зрителям, что ад находится в нас самих.
Любопытно вспомнить, как в предисловии к изданному у нас однотомнику Флобера в 1947 году было отмечено, что «творчество Флобера в значительной мере носит критический характер, а острота флоберовской „буржуафобии“ — одна из положительных сторон его литературного наследия».
А мы-то все думали, что главное…
Вот и Максим Горький ошибался в своем признании «О том, как я учился писать» (1928): «Помню, — „простое сердце Флобера я читал в троицын день, вечером, сидя на крыше сарая, куда залез, чтобы спрятаться от празднично настроенных людей. Я был совершенно изумлен рассказом, точно оглох, ослеп, — шумный весенний праздник заслонила передо мной фигура обыкновеннейшей бабы, кухарки, которая не совершила никаких подвигов, никаких преступлений. Трудно было понять, почему простые, знакомые мне слова, уложенные человеком в рассказ о „неинтересной“ жизни кухарки, — так взволновали меня? В этом был скрыт непостижимый фокус, и, — я не выдумываю, — несколько раз, машинально, как дикарь, я рассматривал страницы на свет, точно пытаясь найти между строк разгадку фокуса“.
Вот что значит великий стилист Флобер! А вот Максим Горький стилистом не был. Бунин был превосходным, а вот Горький — нет. Но не будем отвлекаться.
Лично мне повезло: я побывал на родине Флобера в Руане. Это произошло 15 мая 2005, и этот день был для меня примечательным. Автобусная остановка „La Flaubert“, цветочная лавка „Сад Эммы“, магазин „Видео Бовари“, „Галереи Бовари“ и так далее, но все же главное в Руане — Жанна д’Арк, здесь ее сожгли, и все туристы фотографируются около фанерной Орлеанской девы. Устав бродить по Руану, мы заглянули в летний ресторан, который осенял памятник Флоберу. Небольшой, но весьма живой: Флобер изображен в расстегнутой куртке с бантом на шее, одна рука в кармане и весь он устремлен вперед, к каким-то неведомым далям. Народу много. Все сидят, пьют, жуют, болтают и, вроде, им нет никакого дела до Флобера. Ну, был когда-то такой писатель, ну, и что?!. Это как раз та новая генерация буржуа со старыми взглядами и манерами, которых так не любил писатель
Пустые. Напыщенные. Сосредоточенные только на самих себя.
Странно, но во время писания этого опуса (эссе?) меня преследовал незатейливый мотив старой песенки — ариэтки Александра Вертинского» и слова печальные-печальные:
- Я помню эту ночь. Вы плакали, малютка.
- Из Ваших синих подведенных глаз
- В бокал вина скатился вдруг алмаз…
- И много, много раз
- Я вспоминал давным-давно ушедшую минутку…
- На креслах в комнате белеют Ваши блузки.
- Вот Вы ушли, и день так пуст и сер.
- Грустит в углу Ваш попугай Флобер,
- Он говорит «jmais» и плачет по-французски.
Почему попугая некая актрисулька назвала Флобером, — знает только она. Может быть, это была очередная Эмма Бовари, мечтавшая о любви и счастье, а получившая только боль и печаль…
Писатель иронии и надежды
Иногда тянет сопоставить себя с кем-то из знаменитых писателей. Сравнить свой литературную судьбу с чужой. Найти нечто схожее и от этого испытать особое удовольствие: не я один…
К примеру, Анатоль Франс и моя скромная особа. Я, как и он, закоренелый книжник. Извлекатель книжной премудрости. Упорный книгочей. Уважающий книги собратьев по перу и любитель цитирования. Ну, и, конечно, ирония. Иронический взгляд на мировую историю, на человека и на все его проявления. Легкая усмешка и мягкий юмор. И осознание того, что:
«Неведение — неизбежное условие, я не скажу счастья, но самого существования, если бы мы знали все, мы не могли бы перенести и час жизни. Ощущения, которые делают нам ее приятной или, по меньшей мере, выносимой, рождаются из обмана и питаются иллюзиями».
Это — Анатоль Франс.
«Чем больше я думаю о человеческой жизни, тем более я уверен, что должно дать ей свидетелем и судьей Иронию и Сострадание, как египтяне призывали к своим мертвым богиню Изиду и богиню Нефтис. Ирония и Сострадание — хорошие советчицы: одна, улыбаясь, делает нам жизнь приятной, другая, плача, освящает ее. Ирония, которую я призываю, вовсе не жестока. Она не насмехается ни над любовью, ни над красотой. Она нежна и доброжелательна. Ее смех смягчает гнев, и она учит нас смеяться над злыми и глупцами, которых без нее мы могли бы по слабости ненавидеть».
И это опять Франс. Разве не замечательно сказано? Не проникновенно? То-то и оно.
У нас с Анатоль Франсом (как приятно звучит: у нас с Франсом)) много общего в подходах к жизни и в отношении к книгам. Только вот разница: он жил с детства среди книг (сын букиниста), а в моем доме книг практически не было, и я с детства-юности пасся в библиотеках. Особенно мне повезло, когда я учился в Плехановке (ныне Экономическая академия им. Плеханова) и работал в Доме Радио на Пятницкой, — и в институтской библиотеке и на Радио были довольно-таки фундаментальные собрания книг — раздолье и пиршество. Я много читал, вникал и выписывал понравившиеся мне отрывки и пассажи или отдельные высказывания и мысли. Горы исписанных тетрадок. И когда сегодня ко мне приходят корреспонденты брать интервью и спрашивают, откуда я все знаю и где беру материал, — я неизменно шутливо отвечаю: «Из тумбочки». А если серьезно, то это хранящиеся плоды давнего интереса, любознательности и желания узнать, как можно больше,
С Анатоль Франсом я познакомился поздно, в 22 года, в апреле 1954 года, когда запоем читал его «Сад Эпикура» и прочие рассказы и новеллы. Он поразил меня своей глубиной и одновременно легкостью изяществом и мудростью. И еще — совершенным литературным стилем. Отточенным. Точным. Элегантным.
Вот одна из выписок того времени, привожу ее спустя 54 года. Анатоль Франс — одна из сказок:
«Когда юный принц Земир вступил на персидский трон, он созвал ученых своего государства сказал им:
— Мой учитель объяснил мне, что короли, чтобы избежать ошибок, должны знать историю народов. Напишите же для меня всемирную историю, и позаботьтесь, чтобы она была полной.
Через двадцать лет ученые снова представились королю в сопровождении каравана из двадцати верблюдов, и каждый верблюд вез 500 томов.
Секретарь академии произнес краткую речь и передал королю 6000 томов.
Король был очень занят делами правления.
— Но, — сказал он, — я уже достиг середины жизни своей, и если я проживу даже до глубокой старости, я не успею прочесть столь пространную историю. Сократите ее.
Ученые проработали еще двадцать лет и пришли снова, в сопровождении трех верблюдов, везших 1500 томов.
— Вот наш труд; думаем, что мы не пропустили ничего существенного.
— Возможно. Но я уже стар. Сократите историю. И спешите.
Лишь через десять лет пришли они снова в сопровождении молодого слона, на котором было только 500 томов. Теперь они были очень сжаты.
— Правда. Но жизнь моя приходит к концу. Еще сократите!
Через пять лет явился снова секретарь. Он шел на костылях и вел на поводу ослика, на спине которого лежал толстый том.
— Спеши, — сказал офицер, — король при смерти.
— Мне придется умереть, не узнав историю людей, — проговорил король.
— Нет, — ответил старый ученый, — я изложу вам все в трех словах: рождались, страдали и умирали».
Такова сказка Анатоля Франса. А для меня далекий 1954 год был трудным: нищий студент, без особых перспектив на будущее, да еще рано женившийся и заимевший ребенка. Настроение тех дней, записанное в дневнике:
«Сегодня пасмурно и дождливо и на душе не все ясно, холодная равнодушная змея отравляет меня ядом размышлений и сомнений. Змея напоминает мне о моем положении студента, об экзаменах, о дырявом кошельке, об общественном мнении, которое порицает меня за то, что не стою крепко на своих ногах, о том, что завел семью и т. д. И этот внутренний голос совести, голос дьявола портит все…»
И далее в записи от 2 мая 1954 года:
«Но не надо казаться более слабым, чем ты есть. Смелее в будущее! И притом — с улыбкой! И, пожалуйста, уверенно шагайте через лужи и канавы, презирая их. Только нытики и пессимисты не дойдут до цели и погрязнут в мещанской тине покорности.
А ты, слезливая совесть, не ломайся и трагически не отпевай своего хозяина. Сентиментальная щепетильность не идет к моим надменным усам. Цыц, истерика! Все тверже и уверенней мой шаг. И как писал один мой знакомый:
- Ты будешь первым,
- Не сядь на мель.
- Чем тверже нервы,
- Тем ближе цель».
Вот так я писал в 22 года, под влиянием прочитанных книг (хотим мы этого или не хотим, но книги исподволь влияют на нас, формируют, корректируют, направляют… но это, правда, было тогда, когда росло читающее поколение, а нынешнее — смотрящее и исключительно визуальное… а мы были вербальным).
Однако, чтобы снять некий возникший пафос, вспомним один из афоризмов Анатоля Франса: «Никому не давайте своих книг, иначе вы их уже не увидите. В моей библиотеке остались лишь книги, которые я взял почитать у других».
От печки к Франсу
Франс — странная фамилия. Когда-то такими географическими фамилиями возмущался Василий Розанов, «мы скромные люди. А то Джек Лондон! Анатоль Франс. Ведь Франс это Франция. Хорош бы я был Василий Россия, да я стыдился бы нос показать».
Франс — псевдоним. Настоящее имя писателя Анатоль Франсуа Тибо. Родился он 16 апреля 1844 года в Париже. Начало биографии дадим по «литературным портретам» Андре Моруа. Француз о французе, писатель о писателе:
«В начале жизненного пути Франса — так же как у Стендаля, как у Бальзака — можно обнаружить немало обманутых надежд, связанных с порою детства и отрочества. Отец будущего писателя, книготорговец и издатель, был легитимистом и милитаристом, он испытал почтение перед своими богатыми клиентами. Мать Анатоля, женщина скромная, болезненная, набожная, обожала единственного сына и на первых порах приобщила его к своей ревностной католической вере, мальчик вырос в Париж; он почти все время проводит в книжной лавке, расположенной на берегу Сены, и совсем не знает природы; строй его чувств будет отмечен печатью урбанизма и книжности… В коллеже святого Станислава подросток получает классическое образование, слегка окрашенное богословием. Почти все его товарищи по коллежу принадлежали к знатным или богатым семьям, и мальчик страдал от сознания своей униженности. В самом Франсе было нечто от Пьеданьеля, подобно тому как в Стендале было нечто от Жюльена Сореля. Коллеж святого Станислава сделал его бунтарем на всю жизнь. Следует упомянуть также о юношеской любви Франса к актрисе „Комеди Франсэз“ Элизе Девойо, которую он обожал издалека. Это вынуждало юношу подавлять чувственность, и позднее в своих произведениях Франс рисовал образы актрис, капризных и сладострастных.
Первые влияния? Прежде всего — Мишле. Франс унаследует от него способность „ненавидеть сильно и страстно“. Он вообще будет развиваться „в направлении, противоположном тому, к которому его готовило полученное им воспитание“. Затем — Вольтер; ему Франс обязан своей иронией и чувством сострадания к людям. Анатоль Франс восторгается революцией, но не любит людей кровожадных: „Жестокость всегда остается жестокостью, кто бы к ней ни прибегал“. Гёте учит его спасительной гармонии, античности и культу богини Немезиды, которая олицетворяет собою не возмездие, а чувство меры и нелицеприятную справедливость. Дело в том, что этот юный бунтарь достаточно консервативен. Режим Второй империи смутно влечет его к себе. Грозная сила Парижской коммуны внушаете ему страх. Он боится и не приемлет яростных революционных взрывов, связанных с ними проявлений жестокости, он считает, что они неминуемо обречены на неудачу…»
А свой небольшой «литературный портрет» Андре Моруа заканчивает таким пассажем:
«В двух своих последних книгах — „Маленький Пьер“ и „Жизнь в цвету“ — Франс стремится описать „самого себя, но не такого, каким он был, а такого, каким он постепенно становился перед лицом старости и смерти“. У Пьера Нозьера был свой учитель, господин Дюбуа, подобно тому, как у Жака Турнеброша также был свой учитель. Но оба эти персонажа, вместе взятые, „в силу обретенного им единства раскрывают тайну их автора — тайну его двойственного существования“. Владевший им дух сомнения превратился в источник мудрости. Разумеется, существуют и всегда будут существовать фанатики и люди крайних взглядов. Анатоль Франс был другим. „Никем еще не опровергнуто, — заключает Жан Левайан (автор огромного исследования об Анатоле Франсе в 900 страниц. — Ю.Б.), — что чувство меры также служит непременным условием для спасения человека“. Таков же и мой вывод, о великая Немезида!»
Ну, что ж, спасибо, г-н Моруа, спасибо, г-н Левайан, вы дали почти готовый портрет Анатоля Франса. Осталось кое-что добавить, добавления касаются прежде всего книг, написанных Франсом. Но сначала два мнения.
Максим Горький: «Анатоль Франс для меня — владыка мысли, он родил, воспитывал ее, умел эффектно одеть словом, элегантно и грациозно выводил в свет…»
Юрий Нагибин: «Только русские писатели до конца серьезны (у нас невозможен Анатоль Франс в качестве национального гения), ибо слова не бросаются на ветер, слово предполагает давление, в каждом — зерно поступка, стон души и начало жеста…»
О-ля-ля! — как говорят французы.
Как писатель Анатоль Франс начинал с журналистики: писал заметки в библиографические каталоги, статьи в энциклопедии и справочники, рецензии, то есть писал о книгах, перед которыми у него был настоящий пиетет, «книги приносят счастье лишь тому, кто испытывает наслаждение, лаская их, — утверждал Франс. — Я с первого взгляда узнаю настоящего библиофила потому, как он дотрагивается до книги». Любовь к книгам и сделала его писателем да таким, который «непрочь засунуть вселенную в книжный шкаф».
Свою первую книгу, посвященную поэту Альфреду да Виньи, Франс написал в 24 года, книга вышла в 1868 году. После чего книги Франса стали появляться одна за другой: сборник «Золотые поэмы», поэма «Коринфская свадьба», повесть «Тощий кот». Известность Франсу принес роман «Преступление Сильвестра Боннара» (1881), дневник старого ученого-филолога, влюбленного в старину и книги, наивного и беспомощного в практической жизни. В этой книге Франс обнажает фальшь буржуазных законов, несправедливость установленных социальных порядков. Пошлости и убожеству верхов он противопоставляет наслаждение духовными ценностями и чувственными радостями.
Далее увидели свет роман «Таис», сборник «Литературная жизнь» (более 170 статей, ранее опубликованных в газете «Время»), сборник афоризмов «Сад Эпикура», «Саламандра», «Суждения господина Жерома Куэньяра». В последних двух действует герой аббат Куаньяр, мудрец и бродяга, любящий жизнь во всех ее проявлениях и относящий ко всему с большой дозой иронии, много различных новелл — «Валтасар», «Перламутровый ларец», «Клио» и другие. «Современная история» — сатирическое обозрение Франции конца XIX века. Подлинных высот сатиры Франс добился в романах «Остров пингвинов» и «Восстание ангелов».
Нельзя забыть и исторический роман «Боги жаждут» (1912) о французской революции. В нем Франс утверждает пессимистическую идею о вечной неизменности мира и, соответственно, об обреченности всякой революции. Другой исторический труд Франса — «Жизнь Жанны д’Арк». Еще романы — «Под городскими вязами» и «Ивовый манекен», герой которых господин Бержере смотрит на происходящее с позиции иронического наблюдателя. Он говорит так, что сразу и не понимаешь: говорит ли он серьезно, или шутит. Все это дало повод критикам обозначить подобное поведение, как «эффект Бержере», когда главный герой Франса созерцает мир и держится всегда лишь «на периферии событий».
Однако «на периферии событий» оставаться было невозможно, когда разразилась Первая мировая война. Как гуманист, Франс был раздавлен. «Думают, что умирают за родину, на деле умирают за промышленников», — с печалью констатировал писатель, «меня просто покидает разум; и больше всего меня убивает не злоба, людей, а их глупость», Франс жаждал гармонии, а увидел в мире жестокую бойню.
Не все оказалось благополучным и на личном фронте. Его связывала многолетняя дружба с мадам да Кайаве, которая с ним познакомилась, когда он был еще несмелым, неловким, занимался литературными, поделками, она заставила работать его по-настоящему, убедила заняться делом Дрейфуса, сделала знаменитым. Властная, слишком хорошо понимающая свои заслуги (муза-тиран), она в конце концов стала невыносимой, что и привело Франса к разрыву с ней, — так утверждает Ян Парандовский в своей книге «Алхимия слова». В 1910 году мадам де Кайаве умирает, и Франс испытывает потрясение от ее утраты, переосмысливая свои давние связи с ней.
Кстати говоря, Франс — один из немногих писателей-мужчин, относящийся ко всем нюансам женского существования очень внимательно. Он умел глубоко проникнуть в женский внутренний мир, и от этого все его литературные героини — Таис, Элоди, госпожа дез Обель, Атенаис, Роза Тевенен — не манекены в юбках, а живые, трепетные, вибрирующие существа. И каждая любит — мужа, сына, духовного наставника, Бога или любовника… и часто Бога, как любовника; любовника, как мужа… или сына… И при автор Франс не осуждает женщин. Он их понимает.
В начале XX века Анатоль Франс сблизился с социалистами, и социализм виделся ему как единственный положительной идеал будущего. Он горячо приветствовал русскую революцию 1905–1907 годов и стал даже председателем основанного им Общества друзей русского народа и присоединенных к России народов. Выступал на митингах и собраниях в защиту русской революции. Поражение русской революции было ударом для писателя.
В июле 1913 года Анатоль Франс приехал в Москву, — о, эта загадочная русская душа! — ему было жгуче интересно посмотреть на этот неведомый ему мир. Франс остановился в гостинице «Националь» и тотчас по прибытии, несмотря на усталость… «посетил Кремль, где побывал и в Гранавитой палате, и во дворцах, и в старинных соборах, осмотрел Царь-колокол и Царь-пушку…» — отмечал газетный репортер. Страстный книголюб, Франс много ходил по лавкам московских букинистов. Критик Абрам Эфрос, встретивший его в известной книжной лавке Старицына в Леонтьевском переулке, рассказывал, что «Анатоль Франс уверенными движениями перебирал книжные внутренности и вытягивал томики и брошюры… В своих черных перчатках он напоминал хирурга». В интервью газете «Голос Москвы» Франс сказал, что «Москва — это сердце России».
После Москвы Франс отправился в Петербург и ознакомился с богатствами Эрмитажа. Его сотрудников он поразил своими комментариями, словно он не раз бывал здесь. По поводу русской литературы Франс сказал, что очень жалеет, что не владеет русским языком и не может прочесть Пушкина, Лермонтова, Толстого и Тургенева в подлиннике.
1917 год Франс встретил восторженно. Он стал одним из первых друзей и защитников молодой Советской республики. В своем приветствии к 5-й годовщине русской революции Франс писал: «Она посеяла семена, которые при благоприятном стечении обстоятельств обильно взойдут по всей России и, быть может, когда-нибудь оплодотворят Европу».
Ему так хотелось. Ему так верилось. И, конечно, он ошибся. Он не знал многих ужасающих подробностей русской революции, даже не мог предположить, что Россию накроет кровавая волна насилия и установится жесткий режим диктатуры. Из знаменитой формулы французской революции: «Свобода, равенство и братство — или смерть», — в новой России уверенно торжествовала именно смерть. Франс не признавал никаких абсолютов, ни непререкаемых истин, а именно это вовсю торжествовало в советской России!
В 1896 году Анатоль Франс был выбран во Французскую академию. Примечательно, что он до этого высмеивал и Академию, и академиков, а вот с удовольствием надел на себя академическую мантию. В 1921 году он получил Нобелевскую премию. Во Франции издано полное собрание сочинений Франса в 25 томах. Много издавался Франс и у нас, ибо, как отмечал нарком Луначарский, Франс эволюционировал от иронии к надежде, и от скептицизма пришел к идеям коммунизма. Это, конечно, не соответствует книгам и взглядам Франса. Но нам так хотелось…
Многие советские писатели пытались подражать Анатолю Франсу, в частности Лидия Сейфуллина. Она попыталась писать, как Франс, «по-культурному»: «Потела я года — даже больше, сочиняла, ну просто прелесть: пейзажи, завязка, все как у людей. Прочитала на публике — и провалилась. Дышит вежливо аудитория, но пейзаж мой до нее не доходит. Ужасное положение, когда кругом дышат вежливо» (1927, по дневнику К. Чуковского).
Нет, под Франса нельзя. Надо быть просто Франсом.
Последние 10 лет жизни Анатоль Франс провел вдали от Парижа в Сен-Сир-сюр-Луар, в предместье города Тур, в небольшой усадьбе «Ла Бешеллери», откуда изредка наезжал в Париж, на Лазурный берег и за границу. Жил Франс в старинном особяке среди венецианских зеркал, итальянской мебели, античных скульптур, картин и множества других, предметов искусства. Но главное — это башня-библиотека, в ней Франс проводил многие часы, среди книг, которых были тысячи и тысячи. Полки с ними уходили под самый потолок и, чтобы достать их, писателю приходилось пользоваться высокой передвижной лестницей. Массивный стол, за которым он работал, был постоянно завален грудами газет и журналов: писатель хотел быть в курсе всех мировых событий. В свой 80-летний юбилей Франс выступил по проблеме мира: «Мы должны обеспечить мир — прежде всего…»
Анатоль Франс умер 12 октября 1924 года, на 81-м году жизни, в здравом уме и твердой памяти.
Послесловие
Франс умер и что?.. Его стали активно развенчивать на родине. Особенно усердствовали сюрреалисты, выпустившие брошюру под название «Труп», а их лидер Анри Бретон обозвал даже Франса полицейским. Бесновался и Поль Элюар. Критики Франса были модернистами, и им была чужда классичность Анатоля Франса. Они были молоды и полны всяких революционных замыслов, а Франс был стариком и отчетливо понимал, чем все кончается.
«Молодость прекрасна тем, что она может восхищаться, не понимая, — говорил Франс. — Позже является желание постигнуть известные соотношения вещей, а это уже большое неудобство».
Ирония Франса была для многих как кость в горле, многие его высказывание вызывали возмущение, типа «Создать мир легче, чем понять его» или другое — «Случай — псевдоним Бога, когда он не хочет подписываться своим собственным именем» и т. д.
И уж совсем возмутительное: «будущее укрыто даже от тех, кто его делает» (не слышится ли в этом черномырдинское: «хотели, как лучше, а вышло, как всегда»?). Служители церкви считали Франса атеистом и подрывателем общественных устоев. Ватикан в 1922 году попросту наложил запрет на все произведения Франса — «Ватикан жаждет?!»
Но Анатоль Франс пережил многих критиков. Кстати, вспомним и Анну Ахматову. 2 октября 1955 года Лидия Чуковская записала свой разговор с Анной Андреевной, которая в то время переводила Франса на русский и сетовала:
— Идет с подозрительной легкостью. Перевела в один день 13 страниц. Кончится это каким-нибудь скандалом.
— А вы не любите Франса?
— Нет, что вы! Показная эрудиция, все это выписки, когда-то мне нравились «Боги жаждут» — посмотрела недавно — да это сырой материал настриженный ножницами и еле соединенный!
Анна Ахматова судила частенько излишне строго и наотмашь. А вот другая поэтесса, прошедшая семь кругов ада в ГУЛАГе, Анна Баркова посвятила Франсу стихи:
- Отношусь к литературе сухо,
- С ВАППом правоверным не дружу,
- И поддержку горестному духу
- В Анатоле Франсе нахожу.
- Боги жаждут… Будем терпеливо
- Ждать, пока насытятся они.
- Беспощадно топчут ветви сливы
- Красные до крови наши дни.
- Все пройдет. Разбитое корыто
- Пред собой увидим мы опять,
- Может быть, случайно будем сыты,
- Может быть, придется голодать.
- Угостили нас пустым орешком.
- Погибали мы за явный вздор.
- Так оценим мудрую усмешку
- И ничем не замутненный взор.
- Не хочу глотать все без разбору
- Цензором одобренную снедь.
- Лишь великий Франс — моя опора.
- Он поможет выждать и стерпеть.
Что добавить? «Тоска поэтов — золоченая тоска, — утверждал Франс. — Нe жалейте их слишком: те, кто умеет петь, умеют скрашивать свое отчаяние; нет еще такого волшебства, как волшебство слова.
Поэты, подобно детям, утешают себя образами».
Лично я себя утешаю афоризмом Анатоля Франса: «Случай — вообще Бог». И «нам не дано предугадать…» Что будет? Как будет? Как сложится? «Непроницаемым туманом сокрыта истина от нас» — это Державин, а может, Карамзин. Иногда в этих книжных знаниях можно и утонуть. Свои критические статьи Франс называл «приключениями собственной души в мире книг!»
И финальный вздох: да здравствует великий скептик и ироник Анатоль Франс!
«Ирония — последняя стадия разочарования». Печально, но верно. Ибо мир не способен нас очаровать. В этом убеждают нас книги Анатоля Франса.
Поставил точку. Задумался. Нет, так не пойдет! Концовка какая-то упадническая, поищем еще у Франса: «Не следует предаваться сожалением о прошлом, ни жаловаться на перемены, которые нам в тягость, ибо перемена есть самое условие жизни».
И уж самое последнее:
«Жить — значит действовать».
Послушайтесь старика Франса.
«Венера в мехах» на площади Ленина
И змеи окрутили
Мой ум и дух высокий
Распяли на кресте.
И в вихре снежной пыли
Я верен черноокой
Змеиной красоте.
Александр Блок. 1907
Как изменилось время, вернее, не время, а мир, в котором мы жили. Все годы советской власти нам усиленно вбивали в голову, что «человек — это звучит гордо» и «человек создан для счастья, как птица для полета», и вообще что «мы рождены, чтоб сказку сделать былью». Нам откровенно лгали, что только на тлетворном Западе могут процветать насилие, преступность, коррупция, проституция и прочие человеческие пороки. А мир социализма — это солнечный и благородный мир, где человек человеку — товарищ и брат. И кто-то верил и, увы, продолжает верить в эту социальную идиллию, в гармонию человеческих отношений.
Слово «садизм» пугало — это там возможно, но только не у нас! Понятие «мазохизм» отталкивало своей непонятностью. И вот все это сразу обрушилось на бедного российского гражданина: отрицаемые советской пропагандой человеческие пороки и язвы (так называемые «пережитки капитализма») вылезли наружу, и все вокруг закрутилось в страшном вальсе вражды, ненависти и кровавого насилия.
Но не будем касаться всех аспектов зла (оно многолико). Поговорим только об одном, о неведомом прежде мазохизме. Что это такое и с чем это едят? Термин «мазохизм», введенный венским психиатром Краффт-Эбингом, появился как следствие творчества австрийского писателя Леопольда фон Захер-Мазоха. Хотя, конечно, желание быть объектом насилия и получать от этого удовольствие известно с давних времен, а Захер-Мазох просто облек эту модель человеческого поведения в литературный образ и «освятил» его своим именем.
Леопольд фон Захер-Мазох родился 27 января 1836 года в Лемберге (так тогда назывался Львов), в семье еврейских выходцев из Испании, бежавших в средние века с Иберийского полуострова от преследований. Печальная участь предков подтолкнула молодого Захер-Мазоха к изучению истории. Он получил образование в университетах Праги и Граца, был удостоен ученой степени и стал преподавать историю. Однако в дальнейшем интерес к литературе пересилил любовь к истории, и Захер-Мазох, отказавшись от профессуры, вступил на путь профессионального литератора.
Сначала он пишет романтически окрашенные новеллы, рисующие быт и нравы угнетенных народностей Австро-Венгерской монархии (сборники «Галицийские рассказы», «Еврейские рассказы» и т. д.). Затем из-под его пера появляются романы. Один из первых, «Венера в мехах» — роман эротический, выйдя в 1870 году, он принес писателю всемирную славу. Появление его было поистине громом среди ясного неба. Маркиз де Сад находился под запретом. Литература в основном была стыдливой и лицемерно-ханжеской, со многими умолчаниями относительно сексуальных тем, и вдруг Леопольд Захер-Мазох решил воспроизвести на страницах своего романа особые отношения между мужчиной и женщиной. О подобном, естественно, знали — знали, что так иногда бывает, но говорить об этом, то есть о мазохизме, публично было не принято.
Так что же такого ужасного изобразил Захер-Мазох в своем романе «Венера в мехах»? Он просто аналитически домыслил эпизод из своего детства, когда в десятилетнем возрасте был влюблен в свою дальнюю родственницу, гордую и надменную графиню в соболиных мехах (то есть в роскошной шубе). Графине — 40 лет, она зрелая красавица, и маленький Леопольд тихо от нее млел, и об этом он впоследствии рассказал в заметках «Воспоминания о детстве и размышления о романе».
Вышло так, что графиня «застукала» бедного мальчика, когда она в спальне принимала любовника, а Леопольд сунул туда свой нос. Графиня, рассердившись, хлыстом отстегала своего юного воздыхателя, и это событие запечатлелось в его душе, «словно выжженное каленым железом». Его били, а он получал восторг от ударов. Как отметил писатель, он открыл «таинственную близость жестокости и сладострастия»: удар хлыста от обожаемой женщины причинял ему боль и наслаждение одновременно — он испытал тот самый пресловутый мазохизм в его чистейшем виде.
Итак, жестокость и любовь, боль и наслаждение — все это органично вписывается в рамки извечной войны полов, извечной вражды между мужчиной и женщиной, борьбы за господство друг над другом. Вспоминается чисто русская поговорка: бьет — значит, любит.
Вот это первое детское мазохистское ощущение писатель положил в основу романа «Венера в мехах». Правда, он его подкрепил и взрослым опытом, заключив с двумя дамами странный договор. Один из них, с госпожой Фанни фон Пистор, он заключил 8 декабря 1869 года. Договор сроком на шесть месяцев ставил Захер-Мазоха в положение раба. Но в это положение он поставил себя добровольно, ему страстно хотелось испытать все прелести мазохизма на собственной шкуре. В переносном и в буквальном смысле этого слова. Ему хотелось стать рабом и безропотно поклоняться хозяйке. Госпоже.
В договоре отмечалось: «…при каждом его проступке, упущении и оскорблении величества госпожи (Фанни фон Пистор) она может наказывать своего раба (Леопольда Захер-Мазоха), как ей заблагорассудится. Словом, ее подданный должен повиноваться своей госпоже с рабским покорством, принимать изъявления ее милости как восхитительный дар, не предъявлять никаких притязаний на ее любовь, никаких прав в качестве ее возлюбленного. Со своей стороны Фанни фон Пистор обещает по возможности чаще носить меха, особенно тогда, когда она выказывает жестокость…»
Оригинально, да? В Европе, в конце XIX века — и такие отношения. Госпожи и раба. С одной стороны — право проявлять жестокость. С другой — полнейшая покорность и… благодарность.
Такой же примерно договор Захер-Мазох заключил с Авророй фон Рюмелин, которой тоже было дозволено проявлять «величайшую жестокость».
Приобретя необходимый мазохистский «опыт» с этими дамами, Леопольд Захер-Мазох благополучно завершил свой роман. В нем шаг за шагом описана история некоего богатого галицийского дворянина Северина фон Кузимского и 24-летней вдовы Ванды фон Дунаев. Северин упросил (буквально упросил) влюбленную в него Ванду воспринимать его не как возлюбленного, а лишь как безропотного раба Григория. Северин в романе говорит: «Перед мужчиной один только выбор — быть либо тираном, либо рабом». Тираном Северин быть не хочет, значит, остается быть рабом, тем более что именно рабства и наказаний жаждет его плоть…
И вот Ванда, — продолжаем пересказывать роман «Венера в мехах», — сначала отнекивается от этого сексуального эксперимента, но постепенно осваивается в нем и находит даже некоторое удовольствие; образовалась классическая садо-мазохистская парочка. Она стегает Северина (или раба Григория) хлыстом, а он, корчась от боли, испытывает при этом блаженное удовольствие. Такой вот эксцентрический сценарий. И еще в нем предусмотрена маленькая деталь: меха. Меха возбуждают Северина. Меха и хлыст — символы высшей степени эротического наслаждения. Известно, что сексуальным стимулятором может быть все что угодно. Пушкин вожделел к женской ножке. Кого-то возбуждают чулки, различные предметы нижнего женского белья. Чилийский поэт Пабло Неруда по всему свету таскал с собою чемодан с трусиками любимых им женщин. Для него это была реликвия. Символ сладостных любовных побед. Так что ни в коем случае не надо удивляться причудам Леопольда Захер-Мазоха. У него в главных эротических фетишах ходили меха.
Да и вообще ничему не надо удивляться. Сотрудники отдела сексологии института Минздрава России получают самые разнообразные письма-исповеди. Вот одно из таких писем: «Мне 29 лет, и, сколько я себя помню, всегда испытывал желание, чтобы меня унижали, физически издевались надо мной. Я встречался с девушками, любил, был любим, но мне всегда хотелось, чтобы они издевались, но сказать об этом не решался. Хочу быть рабом женщины 18–45 лет, желающей физически и морально издеваться надо мной».
Это вам не вымышленный герой романа «Венера в мехах», а конкретный человек. Так сказать, живой россиянин. Но механизм желания один и тот же: стать рабом, ощущать себя мазохистом. В этом контексте следует читать и такие строки Александра Блока:
- Ты смела! Ты еще будь бесстрашней!
- Я — не муж, не жених твой, не друг!
- Так вонзай же, мой ангел вчерашний,
- В сердце — острый французский каблук!
Любопытно, что литературоведы, приводя эти строчки, обычно критикуют Блока за то, что ему-де изменило чувство стиля, мол, фи! — французский каблук, это, мол, совсем не лирика. Но тем не менее в этих строках Александр Блок абсолютно точен: он, может быть, интуитивно передал желание мазохиста быть ущемленным, почувствовать боль, пострадать и через страдание получить порцию наслаждения. Удовольствие, если выражаться в терминах философии, как трансцендентальный принцип устройства человеческой души.
Возвращаясь к роману «Венера в мехах» и ее автору, поставлю вопрос: а был ли Леопольд Захер-Мазох сам мазохистом? Старая-престарая история: правомерно ли отождествлять героев литературных произведений с их создателями? По одним сведениям, Захер-Мазох не отличался в повседневной жизни особыми сексуальными отклонениями. Возможно, невероятные желания гнездились в его писательской голове и обретали форму определенных фантазий — так сказать, для творческих целей, но выхода «в жизнь» он все же им не давал. Попутно выскажу крамольную мысль: каждый человек — потенциальный Раскольников, но убивают старуху процентщицу лишь единицы, те, которые преступают моральный закон, отбрасывая евангельскую заповедь «не убий». Так обстоит дело и с сексуальными извращениями. Фантазировать на эту тему могут многие, осуществлять на практике — опять же единицы.
Что касается Леопольда Захер-Мазоха, то внешне он был вполне респектабельный господин. Собирал книги. Обожал кошек («Женщина, которая носит меха, не что иное, как большая кошка», — утверждал он). Довольно красив. «Весь в черном, тонкий, с бледным лицом, лишенным растительности, с острым профилем…» Таким впервые увидела его будущая супруга, а в целом «Захер-Мазох произвел на меня впечатление молодого богослова».
Еще одно свидетельство: «Захер-Мазох очаровывал всех женщин, и все они бегали за ним. У него бывали самые изящные, самые красивые и интересные женщины, но ни одной из них он не сумел внушить глубокого чувства».
Что-то не получалось с женщинами у Захер-Мазоха. Вернее, он не желал ровных бюргерских отношений. Ему хотелось принципиально иного, и в конце концов он нашел это «иное», заключив договор с двумя вышеупомянутыми дамами.
Одна из них — Аврора фон Рюмелин — впоследствии стала его женой. Это произошло в октябре 1873 года. Леопольд Захер-Мазох был в роковом пушкинском возрасте: 37 лет. Аврора была значительно моложе его. Она со школьной скамьи знала и почитала писателя Захер-Мазоха, более того, мечтала о том, чтобы быть с ним вместе. «Я воображала себя женой писателя в изящном доме, окруженной прелестными детьми», — вспоминала она потом. А вначале писала своему кумиру письма весьма необычного содержания:
«Доктор! Во мне бушует демон! Я не знаю, любовь или ненависть заставляет меня жаждать видеть Вас у моих ног изнывающим от желания и боли. Я хотела бы видеть Вас умирающим от страсти, — о, как дрожит мое сердце, пока я пишу это, от нетерпения…»
Расчет был верный: Аврора играла в его игру. И вот она уже превращается в Ванду фон Дунаев. Фантазия обратилась в явь, литература обернулась жизнью. Они поженились. По одной из версий, брак их был ничем не примечательным (ну, как у многих: вначале любовь, потом дети). Захер-Мазох оказался образцовым отцом. Оба — Леопольд и Аврора — занимались литературой. Аврора оказалась весьма способной к литературным упражнениям и взяла себе псевдоним: Ванда фон Дунаев. В Лейпциге, куда перебрались супруги, они основали литературный журнал. Затем жизнь в Париже. Снова интенсивная работа, обилие публикаций. Леопольд Захер-Мазох работал до последних дней. Он умер 9 марта 1895 года, в возрасте 59 лет, в немецком городе Линдхейме.
Вдова после смерти писателя опубликовала мемуары «История моей жизни». В них она нарисовала совсем иной образ мужа. Трудно сказать, что было на самом деле в их союзе, какие тайные страсти обуревали Леопольда Захер-Мазоха, а что представляет собой литературный вымысел. Но в воспоминаниях Авроры-Ванды Леопольд Захер-Мазох представлен истинным и махровым мазохистом, который провозгласил: «Любовь — это рыцарское служение, это песнь трубадура, это цепи раба».
Вдова писала, как муж заставлял ее бить его хлыстом. «Не проходило дня, чтобы я не била моего мужа… Вначале я испытывала необычайное отвращение, но мало-помалу привыкла, хотя всегда исполняла это против воли». Но хлыст — это еще не все. Захер-Мазох якобы заставлял ее встречаться с другими мужчинами и для этого самолично давал объявления в газетах. На этих организованных им самим рандеву он прятался в кустах и испытывал мазохистское наслаждение оттого, что его любимую жену обнимает другой. Погружаясь в бездну страданий, он получал от этого свое удовольствие. Поступал в духе своих романов. А Аврора, согласно мемуарам, все это терпела, выполняла эротические причуды своего мужа и продолжала любить его беззаветно. Ни один мужчина, по ее уверению, не смог сравниться с Захер-Мазохом.
Верить этим откровениям или нет? Был ли Леопольд Захер-Мазох в жизни мазохистом? Вопрос остается открытым.
А теперь вернемся к тому, с чего мы начали. К рассуждениям о человеке. Садизм и мазохизм — лишь некоторые составляющие сложной человеческой натуры. Гомо сапиенс — набор противоречий. Вспомните, как в гётевском «Фаусте» Мефистофель говорит, подхихикивая, Господу:
- Божок вселенной, человек таков,
- Каким и был он испокон веков.
- Он лучше б жил чуть-чуть, не озари
- Его Ты Божьей искрой изнутри.
- Он эту искру разумом зовет
- И с этой искрой скот скотом живет.
- Прошу простить, но по своим приемам
- Он кажется каким-то насекомым.
Увы, XX век принес полное разочарование в человеческой природе. Великий режиссер Федерико Феллини говорил: «В нашей духовной жизни есть вертикаль, ведущая от животного к ангелу. Мы колеблемся то туда, то обратно. Каждый день и каждую минуту мы рискуем сорваться, скатиться к животному…» Таких дней и минут в XX веке было предостаточно, и это не только две мировые бойни.
Ну и где выход? В идеалах? Да. Леонид Лиходеев остроумно отмечал: «Люди задыхаются без идеалов. Без идеалов они начинают хрюкать».
Предвижу крик: «Были идеалы!» Да, были, но какие? Марксистско-ленинские? Партийно-советские? Коммунистические? Да, такие существовали, но они были основаны на… мазохизме. Да-да, не удивляйтесь, на мазохизме, но не сексуальном, а социальном. Вчитаемся еще раз в роман «Венера в мехах», героиня, она же госпожа, заключает:
«В моих руках вы — слепое орудие, которое беспрекословно выполняет все мои приказы… перед вами нет у меня никаких долгов, никаких обязательств… Мне позволена величайшая жестокость, и, даже если я вас изувечу, вы должны снести это безо всяких жалоб. Вы должны работать на меня, как раб, и, если я утопаю в роскоши, а вас заставляю прозябать, терпеть лишения и попираю ногами, вы должны безропотно целовать ногу, попирающую вас…»
Многие люди по натуре рабы. Они были рабами. Они хотят ими остаться. Так что «Венера в мехах» — это не только роман об эротике.
Два культовых человека — маркиз де Сад и Леопольд Захер-Мазох — заострили внимание общества на двух человеческих склонностях — к садизму и мазохизму. Две стороны одной и той же медали. Садизм палача и мазохизм жертвы сосуществуют вместе. Любое насилие — это проявление садистического начала в человеке. Последовавшие за де Садом и Захер-Мазохом писатели, ученые и философы, пытаясь проникнуть в природу насилия, неожиданно пришли к ее апологии. Проблематика насилия лежит в основании «философской рефлексии» Мишеля Фуко, Жиля Делеза, Жака Дерриды, Жоржа Батая и других таких последователей. Есть подобные интеллектуальные радикалы и в России. XX век стал веком страшных тоталитарных режимов, веком крови и насилия. XXI век принял эту эстафету и понесся дальше, увлеченный новым видом преступления — международным терроризмом. Вперед ко вселенской катастрофе?!..
А теперь о России. В недавние советские времена партийно-государственная номенклатура купалась в роскоши, а народу доставались крохи с барского стола. Государству дозволялось все: нещадно эксплуатировать и выжимать из своих граждан (почти рабов) кровь и пот. А еще плюс жестокость. Чуть поднял голову, пикнул — и все! Для этого был создан громадный репрессивный аппарат. Следственные пытки. Изоляторы, тюрьмы. Печально знаменитый ГУЛАГ. Психушки для инакомыслящих. Но всего этого было мало. Государство требовало, чтобы его любили, клялись ему в любви и верности! Помните эти массовые демонстрации на праздниках, портреты и транспаранты, крики радости и восторга? Разве это не социальный мазохизм?
Боль и наслаждение. Радость преодоления искусственно создаваемых трудностей. Унижение и счастье. Все было перемешано в том ушедшем от нас мире. Но разве он ушел окончательно? К сожалению, болезнь социального мазохизма еще не прошла, да и пройдет ли когда-либо?
Распался Советский Союз. Исчезла всесильная власть КПСС. В стране новые времена, новые властители, новая «вертикаль власти». На словах — свобода и рынок. На деле — беспредел сильных мира сего. И как реакция на него — жажда железного порядка. И не нужна ни демократия, ни свобода, ни права личности. Суть желаний людской массы: дайте минимум жизненных благ, но чтобы при этом страна была сильной и чтобы во всем мире ее боялись. Зачем «экономическое чудо», главное — имперское величие. И все с радостью ложатся под власть и требуют: бейте нас! насилуйте нас! Господи, как больно и как сладко!..
Зигмунд Фрейд утверждал: мазохизм составляет национальную черту русского характера. Мазохистско-садистский менталитет.
Можно сказать так: мы — идущие вместе с Захер-Мазохом. Вот только украинцы немного подвели: никак не хотят переименовывать улицу Коперника во Львове, где родился в доме № 22 Захер-Мазох, в улицу имени писателя. Украинские националисты резко против, считая, что Захер-Мазох писал на немецком, большую часть жизни прожил в Австрии, да к тому же в его жилах текла еврейская кровь… Короче, геть! Не нужен. Но геть не геть, а куда денешься от мазохизма: он и на Украине, только с национальной спецификой.
Чуден мазохизм при любой погоде…
«В поисках утраченного времени»
«Потом мы заговорили о Прусте, и она час целый излагала мне содержание романа „Альбертина скрылась“. Покончив с Альбертиной, Анна Андреевна вскочила и накинула черный халат (он порван по шву, от подмышки до колена)…»
Лидия Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. 20 июля 1939 год
Анна Ахматова обожала Марселя Пруста. Она считала, что вся мировая литература XX века держится на трех китах: на Прусте, Джойсе и Кафке. Так что Пруст — один из трех основополагающих китов. Но кит этот очень странный. Писателя Пруста знают почти все, но никто не читал всех его книг до конца.
Обозреватель английской газеты «Гардиан» Стивен Мосс писал в начале 2000 года: «Мы знаем, как его манера описывать время, проводя связь между прошлым и настоящим, и прослеживать работу ума навсегда изменила искусство сочинения романа; мы знаем, что его барочный стиль письма, эти бесконечные лирические рассуждения со сменяющими друг друга метафорами, переходящими со страницы на страницу и теряющимися в складках его безграничного воображения, подобны волнам, набегающим на берег под низким ноябрьским небом. Мы знаем, что его манера письма уникальна, что она завораживает, берет нас в плен. И все же мы не читаем его. Вернее, пытаемся читать и чаще всего капитулируем. Возможно, теперь все изменится. Пруст сегодня в большой моде. Задача лишь в том, чтобы найти время на чтение».
Де Боттон, автор книги «Как Пруст может изменить вашу жизнь», пишет: «Начался новый век, и кто-то, наверное, говорит себе: „Я наконец одолею Пруста. В прошлом веке мне это не удалось. Но теперь можно начать сначала“».
«Грустно, что для чтения Пруста надо или сильно заболеть, или сломать ногу», — признавался брат писателя Роберт Пруст.
«Я сам, — продолжает Стивен Мосс, — несколько раз пытался прочесть эпопею Пруста, но не далеко продвинулся. А в середине декабря, став жертвой лихорадки вокруг нового тысячелетия, снова взялся за чтение Пруста. Теперь я уже прочитал больше, чем когда-либо раньше, и с удовольствием продолжаю читать. Я все еще на опушке леса, но намереваюсь пройти внутрь его по этим странным петляющим тропинкам. Мне не только нравится само это путешествие как таковое. Меня также радует сознание того, что я получу своего рода литературное отпущение грехов…»
Эти строки точно соответствуют и моему подходу к Прусту, и ощущению от его книг: тонкое и ароматное послевкусие, хочется не двигаться дальше, а остановиться и предаться наслаждению. Сюжет — ничто. Стиль письма — вот главное, вот что магнетизирует и завораживает. «Обретенное время» Пруста — манящий горизонт для каждого читателя. И это при том, что Марсель Пруст остается не только великим, но и самым трудночитаемым писателем XX века.
Разобраться с его творчеством действительно нелегко. Рассказать о его жизненном пути значительно проще: факты и события известны, они изложены в многочисленных биографиях.
Итак, начнем…