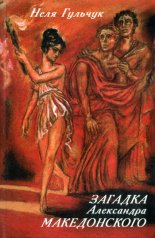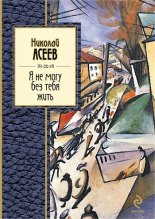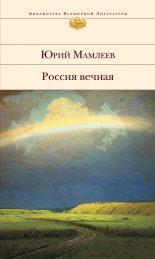Знаменитые писатели Запада. 55 портретов Безелянский Юрий
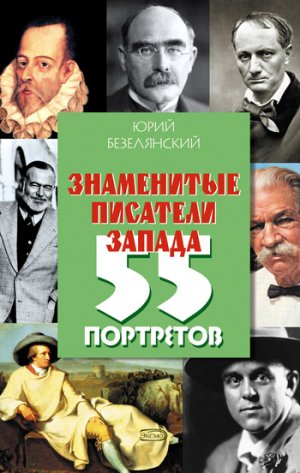
Начало начал
Марсель Пруст родился 10 июля 1871 года в пригороде Парижа — Отее. Отец — Адриеи Пруст (1834–1903), известный врач-гигиенист, специалист по инфекционным болезням Востока, член Медицинской академии. Мать Марселя — Жанна (1849–1905), происходила из богатого еврейского рода Вейль. В 1873 году семья перебралась в Париж, где прошла большая часть жизни писателя.
Как отмечает Андре Моруа в своей работе «Марсель Пруст», мать его, Жанна Вейль, была, по-видимому, женщиной образованной, с душой нежной и тонкой и для сына своего навсегда осталась воплощением совершенства. Именно от нее перенял он отвращение ко лжи, совестливость, а главное — бесконечную доброту. Андре Берж разыскал в каком-то старом альбоме вопросник — один из тех, которыми девушки той эпохи изводили молодых людей; Прусту было четырнадцать лет, когда он отвечал на него:
— Как Вы представляете себе несчастье?
— Разлучиться с мамой.
— Что для Вас страшнее всего? — спрашивают дальше.
— Люди, не понимающие, что такое добро, — отвечает подросток, — и не знающие радостей нежного чувства.
Отвращение к людям, не любящим «радостей нежного чувства», сохранилось у него на всю жизнь. Боязнь причинить огорчение навсегда оставалась для него движущим инстинктом. Рейнальдо Ан, бывший, вероятно, его лучшим другом, рассказывает, как Пруст, выходя из кафе, раздавал чаевые; расплатившись с официантом, обслужившим его, и заметив в углу другого официанта, который ничем не был ему полезен, он бросался к нему и так же, как первому, предлагал бессмысленно огромные чаевые, говоря при этом: «Ему, наверное, было бы очень обидно остаться незамеченным».
Наконец, уже собравшись садиться в машину, он внезапно возвращался в кафе. «Кажется, — говорил он, — мы забыли попрощаться с официантом; это неделикатно!»
Деликатный… «Слово это играло в его словаре и его поступках важную роль…» — заключает Андре Моруа.
Деликатный и болезненный. Пруста с девяти лет преследовала астма, ее приступы мучили его и во многом обусловили восприятие и образ жизни. Физиология давила на него. Не случайно тема болезни проходит через все его творчество, начиная с первой книги «Наслаждения и дни».
И тем не менее Пруст закончил престижный лицей Кондорсе и два года служил добровольцем в пехотном полку, расквартированном в Орлеане. По возвращении в Париж поступает в Высшую школу политических наук, однако ни политическую, ни торговую карьеру, как хотел отец, Пруст не сделал, его увлекла стихия парижских салонов. Именно там он прошел своеобразный университет светской жизни, посещая эту «ярмарку тщеславия», там нашел многих своих будущих персонажей.
Как выглядел Марсель Пруст? Один из его лицейских друзей Даниэль Галеви отмечал «огромные восточного типа глаза, большой белый воротник и развевающийся галстук», что напоминало всем образ «беспокойного и беспокоящего архангела», вызывая гамму противоречивых чувств: с одной стороны, восхищение и любовь, с другой — удивление, неловкость и ощущение «несоизмеримости» с ним.
О «притягательной загадочности» Пруста времен лицея вспоминал и Робер Дрейфус. Он отмечал «утонченную, неисчерпаемую» любезность Пруста, которая воспринималась окружающими как нечто утомительное. Он был сотворен «словно бы из иной субстанции». Иная «субстанция» — это душевная конституция, какой, увы, мало кто обладает.
Другой наперсник юности, Леон Пьер-Кэн, таким нарисовал портрет Марселя: «Широко открытые темные сверкающие глаза, необыкновенно мягкий взгляд, еще более мягкий, слегка задыхающийся голос, чрезвычайно изысканная манера одеваться, широкая шелковая манишка, роза или орхидея в петлице сюртука, цилиндр с плоскими краями, который во время визитов клали тогда рядом с креслом; позднее, по мере того как болезнь его развивалась, а близкие отношения позволяли ему одеваться, как он хотел, он все чаще стал появляться в салонах, даже по вечерам, в меховом пальто, которое не снимал ни летом, ни зимой, ибо постоянно мерз».
Многие годы Марсель Пруст провел как рафинированный и богатый денди, нигде не работая по найму и служа только искусству, наслаждаясь чужими произведениями и создавая свои.
В письме к Даниэлю Галеви он писал в 1888 году: «Я не являюсь декадентом. В этом веке я особенно люблю Мюссе, старика Гюго, Мишле, Ренана, Сюлли-Прюдома, Леконта де Лиля, Галеви, Тэна, Бэка, Франса. Мне доставляет большое удовольствие Банвиль, Эредиа и своеобразная идеальная антология, составленная мною из фрагментов творчества поэтов, которых я в целом не принимаю: „Цветы“ Малларме, „Песни“ Поля Верлена и т. д. и т. д.»
В круг его интересов входили и многие другие имена: Бальзак, Шатобриан, Жорж Санд, Бодлер, Лев Толстой, Федор Достоевский, Джордж Рёскин, а также философы Шопенгауэр, Ницше Бергсон и другие.
Затворничество
В 1903 году скончался отец Пруста, в 1905 году — мать. Эти две потери в корне изменили его жизнь.
«Угрызения ли совести по отношению к матери, так верившей в него, но не дождавшейся результатов его работы, заставили его тогда стать настоящим затворником, или дело было только в болезни? А может, болезнь и упреки совести были только предлогом, которым воспользовалась жившая в нем бессознательная потребность написать произведение, уже почти созданное воображением? Трудно сказать. Во всяком случае, именно с этого момента начинается та самая ставшая легендой жизнь Пруста, о которой его друзья сберегли для нас воспоминания». Так пишет Андре Моруа.
Потеря близких одновременно означала и свободу устроить жизнь по-новому, не оглядываясь и не боясь никого. В 1906 году Марсель Пруст переезжает на бульвар Османа, в дом 102, и заставляет обить стены пробкой, чтобы шум и городская суета не мешали его сосредоточенной работе, погружению в свои воспоминания. Он живет при постоянно закрытых окнах, дабы запах каштанов, болезненный для него, не проникал внутрь. По распоряжению Пруста все предметы дезинфицируются. Сам он носит вязаные шерстяные фуфайки, которые, перед тем как надеть, обязательно греет у огня.
Друзья называют его «солнцем полуночи», поскольку всю ночь Пруст проводит при искусственном освещении в окружении бесчисленных записных книжек, тетрадок, книг и фотографий. Пруст заполняет двадцать больших тетрадей, составляющих главную его книгу. Он выходит лишь ночью и только по необходимости, чтобы найти или уточнить какую-то деталь для своего произведения. Чаще всего он отправляется в ресторан «Риц» и расспрашивает официантов и метрдотеля о разговорах посетителей. Это исключительно литературные вылазки. Так он пишет с 1910 по 1922 год свой шедевр «В поисках утраченного времени». Произведение состоит из семи томов общим объемом в пять тысяч страниц — это около полутора миллионов слов. В книге (это по существу одна книга) действуют сотни персонажей, время действия с 1840 по 1916 год.
Однажды, в апреле 1955 года, Анна Ахматова разразилась монологом по поводу Эрнеста Хемингуэя в присутствии своей постоянной слушательницы Лидии Чуковской, заметив при этом: «В „Прощай, оружие!“ говорится про кого-то „у него даже был где-то отец“. Полная противоположность Прусту: у Пруста все герои окутаны тетками, дядями, папами, мамами, родственниками, кухарками…»
Это так. «В поисках утраченного времени» — это гигантская семейная и социальная фреска, отражающая угасание французского дворянства на рубеже XIX–XX веков, крах его как класса и приход на смену ему власти «денежного мешка» — буржуазии. Голубая кровь Сен-Жерменского предместья больше не в почете. Аристократы выходят из моды. И впереди всех французов ждут окопы Вердена — общество накануне Первой мировой войны. В своем многотомном романе Пруст выступает как подлинный летописец быта деградирующего класса (позднее в этой роли выступил и наш Бунин, живописуя угасание помещичьего быта).
Первую книгу своей эпопеи Марсель Пруст предложил издательству «Нувель ревю франсез». Ему отказали, не вникая особенно в текст, так как у автора не было, по существу, никакого «положения» в литературе, зато было отрицательное «реноме» завсегдатая светских салонов. После первого отказа последовали другие. И только в 1913 году Прусту удалось опубликовать свой первый том, «В сторону Свана», у издателя Бернара Грассе, и то исключительно за свой счет.
Второй том, «Под сенью девушек в цвету», появился на свет в 1919 году и принес Прусту весьма престижную Гонкуровскую премию. Читающая публика вдруг заметила нового писателя и оценила его по достоинству. Последовали переводы на другие языки. Забрезжила мировая слава. Но она пришла с большим запозданием: осенью 1922 года Марсель Пруст скончался.
Последние годы
Как жил Пруст в последние годы? Многие друзья считали его мнимым больным, но он был действительно болен. К тому же сжигал себя кошмарным режимом (ночью — работа, сон — днем), снотворными и иными лекарствами и напряженной работой. Он все время вносил дополнения, вставлял в рукопись все новые и новые куски, правил корректуры и постоянно находился в атмосфере творческого экстаза. Экзальтация истощала его, и тогда он неизменно впадал в депрессию.
В 1919 году Пруст потерял свою квартиру на бульваре Осман и переселился в убогую меблированную квартирку, весьма напоминающую аскетическую келью какого-то писателя-мистика. За ним ухаживала молодая женщина Селеста Альбаре. Нет-нет, ничего такого, Пруст был ориентирован совсем не на женщин, но об этом чуть позже. Селеста прибирала в комнатах, насколько это представлялось возможным, и готовила хозяину еду. Основным питанием — если это можно назвать питанием — для писателя были кофе с молоком да еще липовый отвар. Пруст работал ночами, до семи утра, при этом не ложилась спать и верная служанка. А потом он принимал веронал и спал до трех часов пополудни.
Бывший красавец с орхидеей в петлице с каждым месяцем все более терял свой лоск и изящество. Один из современников так описывает позднего Пруста: «Я увидел человека крупного, тучного, с высоко поднятыми плечами, затянутого в длинное пальто. Он не снял его, словно больной, который боится простуды. Поражало его необычайное лицо: голубоватые плоть залежавшейся дичи, большие глаза египетской танцовщицы; запавшие, обведенные широкими полумесяцами тени; волосы прямые, черные, подстриженные плохо и давно; усы запущенные, черные. У него вид и улыбка гадалки. Несмотря на свои усы, он похож на шестидесятилетнюю еврейскую даму со следами былой красоты. Молодой, старый, больной и женоподобный…»
Убийственная характеристика. И кто виноват в таком падении?..
- Удушливый вечер бессмысленно пуст,
- Вот так же, в мученьях дойдя до предела,
- Вот так же, как я, умирающий Пруст
- Писал, задыхаясь… —
складывал строки в эмиграции Георгий Иванов. И далее по-русски, наотмашь:
- …Какое мне дело
- До Пруста и смерти его? Надоело!
- Я знать не хочу ничего, никого!
Георгий Иванов бился в Париже за кусок хлеба, а Марсель Пруст лихорадочно торопился завершить свою книгу-симфонию. Он вовремя успел написать слово «конец», так как заболел воспалением легких. Отказавшись от помощи врачей, он обрек себя на быструю гибель. Может быть, Пруст просто торопился выйти за таинственный круг жизни?
В свои последние часы писатель пытался диктовать сделанные им дополнения и поправки к месту в его книге, где описана смерть Бергота — коллеги-писателя, созданного его воображением. Рассказ о смерти Бергота заканчивается следующими словами:
«Он умер. Умер навсегда? Кто может сказать? …Мысль о том, что Бергот умер не навсегда, не лишена правдоподобия.
Его похоронили, но всю эту ночь похорон в освещенных витринах его книги, разложенные по трое, бодрствовали, как ангелы с распростертыми крыльями, и для того, кто ушел, казалось, были символом воскрешения…»
Марсель Пруст умер 18 ноября 1922 года. Он прожил 51 год, 4 месяца и 8 дней. И отправился в бесконечный путь к своему любимому Свану.
Пороки г-на Пруста
Пить, когда никакой жажды нет, и во всякое время заниматься любовью только этим мы отличаемся от других животных.
Пьер Бомарше
В книге Пруста «У Германтов» можно прочесть следующее: «Конечно, разумнее жертвовать жизнью ради женщин, чем ради почтовых марок, старых табакерок, даже чем ради картин и статуй. Но только на примере этих коллекций мы должны были бы понять, что хорошо иметь не одну, а „многих женщин“…»
Но вот сам Пруст не тяготел, не вожделел к женщинам. Он был «голубым», врожденным или сформировавшимся позднее, кто знает. Не он первый. Не он последний. Список знаменитых геев довольно обширен: Сократ, Александр Македонский, святой Августин, Петроний, Микеланджело, Леонардо да Винчи, Шекспир… Среди поздних писателей — Артюр Рембо, Уолт Уитмен, Андре Жид, Пазолини, Мишель Фуко… И отечественные — Чайковский, Дягилев, Нижинский, Нуриев…
В этом ряду и Марсель Пруст. Развитая его матерью жажда ласки и нежности привела маленького Марселя к мастурбации. Однажды за этим сладостным занятием его застал отец, который как врач понял, что юношу съедает сексуальная лихорадка. Чтобы утихомирить плоть, отец дал сыну 10 франков на бордель, куда и отправился младший Пруст. Но вскоре выяснилось, что будущего писателя привлекали больше юноши, чем юные и зрелые женщины. Своему другу Жану Бизе, сыну известного композитора, Марсель Пруст признавался: «Я очень нуждаюсь в твоей дружбе… Мое единственное утешение — это любить и быть любимым».
Еще одно свидетельство, более чем откровенное. В письме к Даниэлю Галеви Пруст пишет: «Есть молодые люди, которые любят других мальчиков, всегда хотят видеть их (как я Бизе), плачут и страдают вдали от них. Они не хотят ничего другого, кроме как целовать их и сидеть у них на коленях. Они любят их тело, ласкают глазами, называют „дорогой“ и „мой ангел“, пишут им страстные письма, но ни за что на свете не занялись бы педерастией. Однако зачастую любовь их увлекает, и они совместно мастурбируют. Но не смейся над ними. В конце концов это же влюбленные. И я не знаю, почему их любовь недостойна обычной любви».
По причудливой ассоциации вспоминается Михаил Кузмин, голубой поэт Серебряного века:
- Нагой Амур широкими крылами
- В ленивом мёде неба распластался…
Но вернемся к Прусту. Став взрослым и посещая светские салоны (особенно выделялся среди них салон князя Робера де Монтескье), он получил широкие возможности удовлетворять свои гомосексуальные наклонности. Хотя при этом действовал крайне осторожно, боясь, что слух о его нетрадиционных связях дойдет до обожаемой матери.
Среди любовников Пруста был композитор Рейнальдо Ан, сын писателя Альфонса Доде — Люсьен Доде, завитой и напомаженный светский фат. Были и другие мужские привязанности. А когда Пруст потерял родителей и стал свободным от родительского надзора, то тут писатель перестал стесняться и дал волю своей пагубной страсти. В доме на бульваре Османа у него постоянно жили молодые любовники. Пруст представлял их в качестве своих друзей или секретарей, а одного из них — молодого уроженца Монако Альфреда Агостинелли он определил в водители (у Пруста для того времени был редкостной марки автомобиль). Со временем Альфред Агостинелли привел в дом Пруста свою возлюбленную Анну (он был бисексуал), на что писатель никак не возражал, более того, приобщил Анну к издательским делам, и она покорно переписывала рукопись «По направлению к Свану». Идиллическая связь: любовь втроем, в которой дележом была не женщина, а мужчина — Альфред. Пруст его очень любил, и когда тот захотел стать летчиком, купил ему аэроплан. Что делать? Когда любишь, то готовься выполнить любые прихоти любимого. Однако новое увлечение Альфреда Агостинелли недолго его радовало. Совершая свой второй полет над Средиземным морем, тот погиб: вместе с своим аэропланом рухнул в воду и вошел в историю как один из пионеров воздушных катастроф.
Пруст очень переживал гибель Альфреда и обессмертил его образ в романе «Под сенью девушек в цвету». Все, что касается героини Альбертины, является зеркальным отображением той сложной любовной драмы, которую переживал Пруст с шофером и летчиком Альфредом.
Еще одна глубокая привязанность Пруста — молодой бретонец Альбер де Кузье. И снова Прусту пришлось раскошеливаться на своего любовника: писатель финансировал проект первого в Париже публичного дома для гомосексуалистов, который затеял Кузье, — «Отеля Мариньи». Более того, Пруст передал в бордель доставшуюся ему от родителей старинную мебель. Сам часто посещая «Отель Мариньи», Пруст со сладострастием (и, может, с некоторым садистическим удовольствием) наблюдал, как на фамильных диванах, кушетках и креслах кувыркаются посетители борделя — мальчики и мужчины. И опять же — месть детству? — Он частенько приносил с собой семейные альбомы и показывал всем идиллически благопристойные фотографии матери и ее подруг. Неизвестно, горько ли он при этом усмехался или наивно погружался в печаль воспоминаний.
Частенько Пруст снимал в борделе мальчика, просил его раздеться и заняться самоудовлетворением. При этом писатель лежал в постели и под простыней занимался тем же. Это было каким-то особым вариантом «голубой» любви.
Но не порицайте, достопочтимый читатель, господина Пруста. У всех нас есть свои слабости, все мы грешим по-своему — таков уж род человеческий. В конце концов в истории и в памяти остаются не прегрешения тех или иных персон и личностей, а похвально известные их дела, поступки и творения. Поэтому оставим сексуальные причуды Марселя Пруста, вспомним то, что он оставил нам в наследство. В Национальной библиотеке Франции хранится грандиозный архив писателя — 8 тысяч страниц рукописей, все машинописные экземпляры и все гранки с обширной правкой — тщательно систематизированные, реставрированные и микрофильмированные. Эх, нам бы так!..
Но это не все. Издательство «Галлимар» выпускает два специальных периодических издания — «Прустовские исследования» и «Тетради Марселя Пруста». Другое издательство, «Плон» выпускает том за томом «Переписку Марселя Пруста» (издано уже более 20 томов).
В юбилейные даты проводится множество семинаров, симпозиумов, коллоквиумов, лекций, книжных и художественных выставок — Марсель Пруст обожал живопись и проникновенно писал о ней. О Прусте вышла и продолжает выходить многочисленная литература, в центре внимания которой не греховные слабости Пруста как человека, а его взгляды и восприятие мира.
Глоток литературоведения
Литературоведческий анализ творчества Марселя Пруста не входит в мою задачу. Я не литературовед и уж совсем не прустовед. Поэтому сделаем всего лишь небольшой глоток из огромного и изящного сосуда под названием «Марсель Пруст».
Во-первых, присоединимся к словам одного из издателей Пруста, который сказал, что созданная писателем эпопея «заключает в себе всю классическую литературу и начинает литературу будущего».
Во-вторых, приведем отрывок самого писателя из книги «Против Сент-Бёва»:
«Все мы пред романистом — как рабы пред императором: одно его слово, и мы свободны. Благодаря ему мы переходим в иное состояние, влезаем в шкуру генерала, ткача, певицы, сельского помещика, познаем деревенскую и походную жизнь, игру и охоту, ненависть и любовь. Благодаря ему становимся Наполеоном, Савонаролой, крестьянином и сверх того — состояние, которое мы могли бы так никогда и не познать, — самим собой. Он — глас толпы, одиночества, старого священника, скульптора, ребенка, лошади, нашей души. Благодаря ему мы превращаемся в настоящих Прометеев, поочередно примеряющих все формы существования. Меняя их, мы ощущаем, что для нашего существа, обретшего такую ловкость и силу, формы эти не более чем игра, жалкая либо забавная личина, лишенная какой бы то ни было реальности. Наши невзгоды или успехи на мгновение перестают нас тиранить, мы играем ими, равно как невзгодами и успехами других. Вот отчего, перевернув последнюю страницу прекрасного романа, пусть даже грустного, мы чувствуем себя такими счастливыми».
Все это предоставлял своим читателям и Марсель Пруст. Но не только это.
В своей эпопее Пруст учит вспоминать. Воспоминание как вторая жизнь. Воспоминания далекого прошлого через непосредственные ощущения (через запах пирожного «Мадлен» восстанавливаются картины детства). Как отмечает шведский писатель Ларе Юлленстен, величайшее открытие Пруста — «галлюцинаторные, вкусовые и обонятельные рефлексии».
Справедливо и мнение о Прусте советского наркома Луначарского, который был знатоком западной литературы: «Богатство его воспоминаний — это и есть его произведение. Его власть здесь действительно огромна. Это мир, который он может приостанавливать, комбинировать, раскрывать во всех деталях, чудовищно преувеличивать, класть под микроскоп, видоизменять, если это нужно. Здесь он бог, ограниченный только своим богатством, волшебной реки своей памяти…»
Наш современник, молодой критик Глеб Шульпяков отмечает: «Жар-птица настоящего времени, за которой охотились модернисты, — это ведь так просто: Джойс пишет 700-страничный „Улисс“ для того, чтобы поймать в мельчайших подробностях один-единственный и крайне заурядный день. Пруст блуждает во временах — с тем, чтобы объяснить то, что видят его глаза в настоящий момент. Отсюда та пространственность цикла, которая напоминает картину или — лучше — готический витраж: мы видим его целиком в божественном полумраке, но все же вольны изучать, переводя взгляд с одного участка на другой, — и порядок чередования будет так же непредсказуем…» («Независимая газета», 26 ноября 1997 года).
Еще один опыт, завещанный нам Прустом: не возноситься слишком высоко. В работе «Марсель Пруст» Андре Моруа пишет:
«Пруст наблюдает своих героев со страстным и вместе с тем холодным любопытством натуралиста, наблюдающего насекомых. С той высоты, на какую возносится его изумительный ум, видно, как человек занимает отведенное ему место в природе, — место чувственного животного, одного из многих. Даже его растительное начало озаряется ярким светом. „Девушки в цвету“ — это более чем образ, это непременный период в короткой жизни человеческого растения. Восхищаясь их свежестью, Пруст уже различает в них неприметные симптомы, предвещающие плод, зрелость, а затем и семя и усыхание: „Как на каком-то растении, чьи цветы созревают в разное время, я увидел их в образе старых женщин на этом пляже в Бальбеке — увидел же жесткие семена, те дряблые клубни, в которые подруги мои превратятся однажды“».
Марсель Пруст срывает романтические покровы и с таких извечных чувств, как Любовь, Ревность, Ненависть, Равнодушие, которые составляют нашу эмоциональную жизнь. Пруст анатомирует все эти состояния. Мы влюбляемся отнюдь не в какое-то определенное существо, но в существо, волею случая оказавшееся перед нами в момент, когда мы испытываем необъяснимую в том потребность, утверждает Пруст. Любовь наша блуждает в поисках существа, на котором сможет остановиться. Комедия уже готова в нас полностью. Не хватает лишь актрисы на главную роль. Она непременно появится, и при этом облик ее сможет меняться как в театре, где роль, исполняемую основным актером, могут впоследствии играть дублеры…
Безжалостный Пруст развенчивает не только любовь, но и понятие счастья. Счастья, утверждает Пруст, в реальности нет, оно в нашем воображении. Изменится игра воображения — и счастье рассеется, исчезнет, как пыль.
Пруст и Флобер едины в том, что единственно реальный мир — это мир искусства и что подлинным является лишь тот рай, который утрачен. «Может ли рядовой человек исповедовать эту философию?» — задает вопрос Андре Моруа и сам на него отвечает: «Конечно же, нет».
Но у творцов, естественно, все по-другому. «Истинное искусство — это искусство, которое улавливает реальность удаляющейся от нас жизни…» — говорит Пруст в романе «У Германтов».
Писатель доказал, что произведение искусства — это найденное время, борьба с небытием и бесследностью…
«Все эти дни я читал „Свана“, — записывал в своем дневнике художник Константин Сомов. — Наслаждался и потел, и голова трещала, когда надо было добираться в его бесконечных извилинах и скобках до конечного смысла его мысли. Он — Пруст — великолепен и мучителен…»
Однако не всем он по душе. Исаак Бабель как-то сказал о нем: «Большой писатель. А скучно…»
Это Бабель, а что же говорить о массовом читателе, который не в состоянии одолеть мучительно неторопливое, подробнейшее повествование, стилистически сложное, метафорически насыщенное, где одна фраза порой растягивается на целую страницу. В «круговети расплывчатых впечатлений» (слова самого Пруста) читатель теряет голову и откладывает книгу. Да и мечта романиста «обежать весь мир в погоне за умчавшимся днем с его быстротечной прелестью» не всех привлекает. Куда лучше что-то конкретное и осязаемое — попить пивко «Клинское» или сжевать какой-нибудь «сникерс». Выпил, съел — как в известном рекламном слогане — «и порядок!».
И все же Пруст — это затягивает
Скучно. Тягомотно. Неинтересно. Но в то же время крайне заманчиво. Интригующе. Остро.
Одному из переводчиков Пруста, Николаю Любимову, кто-то из его знакомых написал следующее:
- Коля, Пруста дай прочесть!
- Окажи такую честь!
- От Марселя-то, от Пруста
- Ошалела наша Русь-то.
- Ходишь нынче без Пруста,
- Словно ж… без хвоста.
- Коля, Пруста дай прочесть!
- Окажи такую честь!
- Даже бабы, будь им пусто,
- День и ночь читают Пруста.
- Только ляжешь к ней в постель,
- Глядь — а там уже Марсель.
- Коля, Пруста дай прочесть,
- Окажи такую честь!
Николай Любимов (1912–1992) — знаменитый переводчик с французского. Переводил Рабле, Бомарше, Мериме, Флобера, Метерлинка и многих других классиков. Свое переводческое мастерство Любимов применил и к текучей неуловимости стиля Марселя Пруста.
Первый том Пруста в переводе Николая Любимова вышел в 1973 году, второй — в 1976, в 1980 году — третий. Переводы давались нелегко, тяжело приходилось преодолевать и издательские барьеры. К примеру, том «Содом и Гоморра» вышел в урезанном, искалеченном виде. Николай Любимов скончался, едва закончив перевод «Беглянки», так и не увидев ее вышедшей из печати и, главное, не успев перевести последний роман цикла — «Обретенное время».
Первым же переводчиком Марселя Пруста был Адриан Франковский в середине 30-х годов. Франковский умер от голода в блокадном Ленинграде 13 февраля 1942 года (20 лет спустя после смерти самого Пруста). Перевод им романа «Пленница» долгое время считался безвозвратно потерянным. В 1940 году основной машинописный экземпляр перевода, гранки и набор были уничтожены соответствующими органами (искусствоведами в штатском) по идеологическим причинам. Второй — и последний — рукописный экземпляр перевода «Беглянки» чудом уцелел. Его спасла известный филолог-германист Раиса Френкель. В 70-е годы роман был заявлен в «Литературных памятниках», но из издательских планов выпал: официальным властям Пруст был неугоден. И вот наконец перевод Франковского увидел свет, и знатоки французского получили прекрасную возможность сравнивать, чей перевод лучше и ближе к оригиналу: Любимова или Франковского.
В последнее время издатели накинулись на Пруста как на кассового автора. Как язвительно заметил Феликс Штирнер, «целый век Россия любит Пруста на вдохе. Целый век вместе с Марселем жует липовые „мадленки“, зябнет в тени цветущих деревьев и бесконечно теряет время». И грустный итог: «Пруста ждали — и дождались. Измазанного и коммерчески поспешного. Формула „время — деньги“ применительно к „Обретенному времени“ выглядит глупо и пошло».
Известное дело, Россия — страна крайностей: или не любим и не издаем, или любим безоглядно и издаем без разбора — в погоне за деньгами, разумеется. Пруст и деньги — что может быть нелепее! Позволительно скаламбурить: Пруст хорош, когда ты пуст. А коли богат деньжатами, то тебе нужен не Пруст, а «мерседес» и казино.
На Западе положение другое. Там изобилие, роскошь, богатство — не помеха интересу к творчеству и персоне Марселя Пруста. Можно даже сказать, что существует некая «прустомания»: множество изданий его книг и биографий о нем. Есть даже сайт в Интернете «Пруст сказал». Пруст охватил столько разных тем, чувств и проблем, что его эпопея — это подлинная Всемирная паутина. Выходят в свет специальные книги о нем — «Пруст: возвращенные рецепты изысканной кухни», «Прогулки Пруста», «Гербарий Пруста» и другие.
Не отстает и кинематограф, хотя, казалось бы, язык Пруста, как и Кафки, не поддается переложению на киноязык. И тем не менее в 1984 году вышел на экраны фильма Фолькера Шлендорфа «Любовь Свана». В роли Свана выступил Джереми Айронс, в роли Одетты — Орнелла Мути. В фильме снимались Ален Делон, Фанни Ардан и другие актеры. Картина получилась одновременно удачной и неудачной: удачной потому, что позволила приобщиться к Прусту миллионам телезрителей, неудачной — потому что невозможно передать на экране авторскую изощреннейшую цепь ассоциаций и воспоминаний и воспроизвести работу человеческой памяти, которая стоически борется с забвением, пытается отыскать утраченное время и вновь обрести его.
В 1999 году другой режиссер — чилиец Рауль Руис снял ленту по роману «В поисках утраченного времени» и тоже только слегка вскрыл многослойный пласт книги.
В Лондоне с успехом прошла тематическая выставка 16 художников, посвященная Марселю Прусту. Многие специалисты сходятся на том, что в писательской манере Пруста было что-то от кубизма. Он без конца описывал один и тот же вид, используя разные образы и смотря, к примеру, на шпиль церкви в Комбре под разными ракурсами. Это кубистский прием, и Пруст бессознательно пользовался им — так считают знатоки.
Кто-то подметил еще одну специфическую черту Пруста — писатель с таким умением и сладострастием подглядывает и подслушивает за всем происходящим вокруг него, что невольно напоминает профессионального шпиона. Забавно, не правда ли? Пруст как художник-кубист и как профессиональный соглядатай.
А вот шутовская забава в честь Пруста: ежегодно в Сан-Франциско проводятся «поминки» по писателю. Облаченные в смокинги мужчины с нафабренными, как у Пруста, усами слушают камерную музыку и потягивают шампанское. Пруста, который черпал вдохновение, макая в чай бисквит (и подробнейшим образом описал этот процесс и испытываемые им чувства), наверное, позабавила бы шутка устроителей одного из вечеров в Сан-Франциско: в зале гости увидели скульптуру Пруста во весь рост, сделанную из бисквита и марципанов.
Парадоксы бессмертия: одиночество, тоска и страдания писателя превращаются в бисквиты и марципаны. Можно изготовить и Пруста в шоколаде. Это уже совсем легко, просто и вкусно. Хотя неизвестно, как относится ко всему этому Пруст, наблюдая за земными утехами с олимпийских небес. Может быть, он огорчен. А может, тихо радуется и потирает руки: «Я всегда говорил, что люди — это только насекомые, падкие на сладкое».
И финальный аккорд. Весной 2000 года мне довелось снова побывать в Париже — о, сладостный город! Так как денег у русских (не «новых») туристов всегда в обрез, я решил продать свою книгу «Клуб 1932» и отправился в русский книжный магазин на бульвар Бомарше. Там почему-то не оказалось скупщика, и мне предложили, оценив мою книгу в 80 франков (евро еще не ввели), поменять ее на любую книгу в пределах этой суммы. И тут я увидел темно-зеленный том «По направлению к Свану» петербургского издательства «Амфора» — ценою ровно в 80 франков. «Вот эту!» — не раздумывая сказал я.
Выйдя на улицу, я долго не мог прийти в себя: каков обмен — я и Пруст! По одной цене! Мое авторское честолюбие играло победный марш. Приятно было хоть таким образом побыть рядом с Прустом. Произошел этот исторический для меня обмен 14 апреля 2000 года.
Доктор Фаустус мировой литературы
Кто такой писатель? Тот, чья жизнь — символ. Я свято верю в то, что мне достаточно рассказать о себе, чтобы заговорила эпоха, заговорило человечество, и без этой веры я отказался бы от всякого творчества.
Томас Манн. Дневники
Итак, Томас Манн. Классик XX века, сумевший существенно раздвинуть рамки романа и насытить его новым содержанием. Томас Манн вслед за Достоевским показал бездны, о которых не ведал гуманизм прошлого. Он проложил путь учению Фрейда на страницы литературы, ведя в своих романах захватывающий диалог рационального с бессознательным. Но при этом писатель никогда не забывал, что у весов две чаши, истина не посередине, а в равновесии. Он и называл себя так — «человек равновесия».
Литературовед Игорь Эбаноидзе, занимающийся творчеством Томаса Манна, рассказывает: «Еще в школе я стал читать „Доктора Фаустуса“, далеко не все, наверное, понимая или понимая очень по-своему. Но поразило меня тогда безгранично бережное отношение Манна к внутренней жизни человека — как раз то свойство его художнического мира, которое Станислав Лем счел анахронизмом для двадцатого века. А потом я прочел „Волшебную гору“, буквально „проглотил“ два тома…»
Директор архива писателя (Цюрих, дом на углу Шёнбер-гассе и Доктор-Фауст-гассе) в благодарственной речи по случаю вручения ему в 1993 году премии Томаса Манна, объясняя, почему он посвятил свою жизнь творчеству этого писателя, сформулировал семь тезисов. Вот первые два из них:
«1. Универсальность Томаса Манна. Читая его, имеешь дело со всей мировой литературой — от Ветхого и Нового Заветов, от Гомера, Вергилия, Данте… до Джойса и Пруста…
2. Интеллектуальность Томаса Манна, его способность прояснять человеческие ситуации… Он хочет видеть сразу во многих перспективах, одновременно со всех сторон… Но этот художник познания хочет видеть также и то, что стоит за вещами, за человеком, — старается видеть насквозь. А для этого сквозного видения мало рациональности, оно связано также и с ненавистью, и с любовью…»
Томас Манн родился 6 июня 1875 года в Любеке, он — младший брат писателя Генриха Манна и отец писателя Клауса Манна (на всякий случай, чтобы не было путаницы среди литературных неофитов). Еще в гимназии Томас Манн начал писать стихи. Попробовал чиновничьего хлеба: был служащим страховой компании. Свой первый рассказ «Падшая» опубликовал в 1894 году.
Широкую известность принес ему роман «Будденброки» (1901) с подзаголовком «Упадок одной семьи». Российское телевидение показывало экранизацию романа, а многие и просто читали его, поэтому нет смысла пересказывать сюжет и идеи, заложенные в нем. Отметим, что за «Будденброки» писатель в 1929 году был удостоен Нобелевской премии.
Последующие сочинения Томаса Манна органично вошли в классику мировой литературы: «Тонио Крёгер» (1914), «Признания авантюриста Феликса Круля» (1922), четырехчастевый роман-эпопея «Иосиф и его братья», над которым Манн работал с 1926 по 1942 год, «Волшебная гора» (1924), «Доктор Фаустус» (1947) и другие. И, конечно, известнейшая новелла «Смерть в Венеции» (1913), по которой режиссер Висконти поставил прекрасный фильм. Новелла лирична и философична одновременно.
Для нас важно и то, что Томас Манн любил русскую литературу и однажды назвал ее даже «святой». Он написал несколько статей о творчестве русских писателей, в частности, о Льве Толстом, которого называл гигантом, и Чехове. «Все творчество Чехова, — отмечал Манн, — отказ от эпической монументальности, и тем не менее оно охватывает необъятную Россию во всей ее первозданности и безотрадной противоестественности дореволюционных порядков…»
К своей известности Томас Манн относился весьма сдержанно: «Прижизненная слава — вещь очень сомнительная; мудро поступит тот, кто не позволит ей ни ослепить, ни даже взволновать себя. Никто из нас не знает, как и в каком ранге предстанет он перед потомством, перед временем».
Главное для Манна было писательство, литературный процесс, который доставлял ему наслаждение. «Искусство, — говорил он, — самый прекрасный, самый строгий, самый радостный и благой символ извечного, неподвластного рассудку стремления человека к добру, к истине и совершенству…»
О, если бы к добру, истине и совершенству стремились все люди на земле! Увы и увы!..
11 февраля 1933 года Томас Манн отправился с женой из Мюнхена в лекционную поездку. Ему предстояло прочесть в Амстердаме, Брюсселе и Париже известный доклад «Страдание и величие Рихарда Вагнера». На родину писатель уже не вернулся.
Обстановка в Германии изменилась почти в одночасье. К власти пришли фашисты, и тут же была развернута травля писателя: ему припомнили прошлые антифашистские высказывания, обвинили его в «пацифистских эксцессах», в «духовной измене родине» и прочих смертельных грехах. Возвращаться домой было опасно, и Томас Манн превратился в писателя-эмигранта: сначала осел во Франции, позднее переехал в Швейцарию.
В Швейцарии, в Лугано, в отеле «Вилла Кастаньола», 27 марта 1933 года он записывает в дневнике:
«Бесконечный, неисчерпаемый разговор о преступном, омерзительном безумии, о садистских патологических типах властителей, которые доходят до сумасшедшего бесстыдства ради достижения абсолютной, не подверженной критике власти… Две возможности их падения: экономическая катастрофа либо внешнеэкономическое столкновение. Душой жаждешь этого, готовый к любой жертве, к любым последствиям. Никакой крах не кажется слишком большой ценой за крах этих гнуснейших выродков…»
Обратите внимание: это написано в конце марта 1933 года, задолго до варварского нашествия на страны Европы, до Освенцима, Лидице, Орадура и Дахау, до «похода на Восток» и прочих злодеяний фашистской клики. Нутром художника Томас Манн распознал звериную поступь фашизма и охарактеризовал его как «преступное, омерзительное безумие».
Еще одна запись. 8 ноября 1933 года:
«Вечером читал… речь фюрера о культуре. Поразительно. Этот человек, представитель мелкого среднего класса с неполным средним образованием, ударившийся в философствование, — явление поистине курьезное. Нет сомнения, что ему, в отличие от типов вроде Геринга или Рема, есть дело не только до войны, но и до „германской культуры“. Мысли, которые он выстраивает, беспомощно, без конца повторяясь, все время соскальзывая в сторону и совершенно убогим языком, — мысли беспомощно пыжащегося школяра. Это было бы даже трогательно, если бы не свидетельствовало о столь ужасающей нескромности. Никогда еще власть имущие, мировые деятели, занявшиеся политикой, не изображали из себя таким образом учителей народа и всего человечества. Ни Наполеон, ни Бисмарк этого не делали…»
Фашизм и культура — вещи несовместимые. Когда после войны сын Томаса Манна Клаус вернулся в Мюнхен, он нашел дом отца обезображенным: его использовали для спаривания тевтонских самцов с нордическими самками, чтобы получить чистую арийскую нацию. В необузданной страсти нацисты сломали и испортили почти все.
Томаса Манна больше волновал даже не дом, а дневники (сокровенные записи, не предназначенные для чужих глаз), которые там остались. Дневники должен был вывезти из Мюнхена шофер писателя Ханс Хольцнер, но он отнес чемодан с дневниковыми тетрадями прямехонько в «коричневый дом» — мюнхенскую штаб-квартиру нацистской партии. Выяснилось, что Ханс Хольцнер давно являлся нацистским агентом и осуществлял за писателем слежку. В конечном счете дневники все же вернулись к Томасу Манну, чему он был бесконечно рад.
Несколько лет писатель провел в Соединенных Штатах. Там его тоже подстерегала напасть: по свидетельству журнала «Шпигель», Федеральное бюро расследований внимательно следило за политическими взглядами писателя. И в роли осведомительницы якобы выступала его дочь Эрика. По утверждению профессора Штефана, между 1940 и 1951 годами она передавала ФБР сведения о немецкой эмигрантской колонии в Штатах и о политической позиции отца. Так ли это было на самом деле или нет? Не будем гадать. По крайней мере слежка, если она и была, никак не отразилась на судьбе Томаса Манна. Последние годы своей жизни он провел в Швейцарии и скончался в Цюрихе 12 августа 1955 года в возрасте 80 лет.
12 августа 1975 года, в 20-ю годовщину его смерти, были вскрыты согласно завещанию четыре больших пакета, хранившихся в его цюрихском архиве. В них находились дневники: тридцать две тетради, более пяти тысяч довольно плотно исписанных страниц.
Большую часть своих дневников и записных книжек Томас Манн уничтожил. Он регулярно вел дневник с ранней молодости, но потомкам оставил лишь небольшую часть, относящуюся к годам перелома, эмиграции. Сохранились записи с 1918 по 1919 год и с 1933 до смерти в 1955 году.
Когда дневники были опубликованы, то читатели изумились, что гений (каковым себя считал Манн, невзирая на периодические приступы сомнения в себе) способен ежевечерне делать такие по-человечески обыкновенные, даже слишком обыкновенные записи. Равнозначно мыслям на политические и исторические темы в дневниках описываются приобретение башмаков, посещение парикмахера, прогулки, обеды, чаепития. Семье и друзьям отведена роль статистов, цель в самоотражении, выявлении самого себя. Наблюдения Манна постоянно направлены на его самочувствие, как физическое, так и душевное.
Вот, к примеру, запись от 18 марта 1933 года:
«…В постели рассказ Лескова… Спал сегодня до половины шестого. По пробуждении возрастающее возбуждение и упадок духа, состояние кризисное, с восьми под наблюдением К. Ужасная эксцитация, растерянность, дрожь мышц, озноб и страх утратить разум. При ласковом внимании К. и от таблетки люминала и компресса постепенное успокоение. Смог выпить чаю и съесть яйцо. Сигарета…»
Томасу Манну идет 58-й год. Но в данном случае дело даже не в возрасте. Это его натура.
Бросается в глаза аполитичность Томаса Манна, он не хотел быть бойцом и не бросался в гущу политических схваток. Лишь чрезвычайные обстоятельства (такие, как приход к власти нацистов) заставляли его занимать определенную позицию. Не случайно еще в 1918 году он написал «Записки аполитичного». В них он признавался, что относится к демократии с той же неприязнью, что и к писателям, вмешивающимся в политику. В пику своему брату Генриху он называл последних литераторами-цивилизаторами (как тут не вспомнить некоторых наших литераторов, с головой окунувшихся в пучину политики).
И все же «когда грянул гром», Томас Манн решительно поднял свой голос против чумы фашизма. «Страдая Германией» — так назвал впоследствии писатель свой сборник антифашистской публицистики, работая над которым он не раз обращался к дневниковым записям.
«Я не мог бы жить, не мог бы работать, я бы задохся, если бы хоть изредка, как говорят старики, не „изливал душу“, если бы время от времени не выражал прямо и недвусмысленно своего отношения ко всем гнусным речам и гнусным делам, которые наводнили Германию…»
Но все это только «изредка», а в основном записи писателя вертятся вокруг собственного самочувствия. В письме к Агнесс Майер (16 июля 1941 года) он жаловался, что в течение нескольких недель «пребывал в очень плохом и подавленном состоянии… Врач что-то предпринял для повышения моего кровяного давления… и я чувствую себя здоровяком. Вот как зависим мы, жалкие существа, от маленьких изменений в химии нашего тела. Измените в человеке функционирование нескольких желез, „внутреннюю секрецию“, и вы поставите его вверх ногами как личность. Есть тут что-то позорное и возмутительное».
Прибавим к этому рассуждение Нафты, одного из героев «Волшебной горы»: «…Человеку присуща болезнь, она-то и делает его человеком… в той мере, в какой он болен, в той мере он и человек… гений болезни неизмеримо человечнее гения здоровья…»
Что ж, это так: гениальность есть некий вывих, отклонение от нормы.
Томас Манн в своих дневниках предстает писателем с высшей степенью откровенности. В январе 1919 года он, прочитав вслух жене «Песнь о детке», записал в дневнике: «Она была очень растрогана, не одобрив лишь описание самого интимного. Самое же интимное одновременно является и самым общностным, самым человечным. Кстати, мне такие сомнения совершенно незнакомы».
Спустя годы, 7 июля 1941 года, он пишет Агнесс Майер: «…Тяжкая жизнь? Я художник, то есть человек, который хочет развлекаться, — и не надо по этому поводу напускать на себя торжественный вид. Правда, — и это опять цитата из „Иосифа“, — все дело в уровне развлечения: чем он выше, тем больше поглощает тебя это занятие. В искусстве имеешь дело с абсолютным, а это тебе не игрушки. Но все-таки, оказывается, это игрушки, и я никогда не забуду нетерпеливых слов Гёте: „Когда занимаешься искусством, о страдании не может быть речи“».
Таким был Томас Манн, писатель и мыслитель, помогающий нам, его читателям, далеко не писателям и не мыслителям, брести по неизведанным лабиринтам жизни — по крайней мере, без отчаяния и пессимизма. Утешение (одновременно с пониманием и разумением всех сложностей жизни) всегда можно почерпнуть у Томаса Манна, у Иосифа и его братьев. Недаром близкие называли писателя не иначе как «великий чародей».
«Ну а личная жизнь Томаса Манна?» — непременно спросит кто-то из дотошных. Она на удивление скромна и небогата. В этом смысле Томас Манн — явная противоположность таким писателям, как Александры Дюма — отец и сын, Мопассан, Гюго, Байрон и другие корифеи пера, которые в своей жизни сочетали творчество с увлечением женщинами, писание книг у них перемежалось с любовными приключениями, а творческое вдохновение вполне уживалось с сердечными драмами, более того, в них они черпали силы для литературной работы.
Томас Манн стоит не в этом ряду.
«Я не доверяю наслаждению, — признавался он, — не доверяю счастью, считаю их непродуктивными. Я думаю, что сегодня нельзя быть слугой двух господ — наслаждения и искусства, что для этого мы недостаточно сильны и совершенны. Я не думаю, что сегодня можно быть бонвиваном и в то же время художником. Надо выбирать одно из двух, и моя совесть выбирает работу».
Как художник Манн был страстным и неравнодушным; как человек — уравновешенным и спокойным. Избрав свой путь, он не разбрасывался чувствами, берег эмоциональные выбросы исключительно для литературы. У него была одна-единственная жена Катя, урожденная Прингсгейм (1883–1980), которая была моложе его на 8 лет.
С ней Томас Манн прожил долгую и счастливую жизнь, 11 февраля — день своей свадьбы — они отмечали неизменно и трогательно.
Как произошло знакомство? Чинно и благородно. 28-летний Томас Манн пишет брату Генриху из Мюнхена 27 февраля 1904 года:
«…Я введен в светское общество к Берштейнам, к Прингсгеймам. Прингсгеймы — впечатление, которым я переполнен. Тиргартен с высокой культурой. Отец — университетский профессор с золотым портсигаром, мать — красавица в ленбаховском вкусе, младший сын — музыкант, его сестра-близнец Катя (ее зовут Катя) — чудо, нечто неописуемо редкое, драгоценное существо, которое самим фактом своего бытия может заменить культурную деятельность 15 писателей и 30 живописцев… В этих людях нет и намека на еврейское происхождение, не чувствуешь ничего, кроме культуры…
Возможность возникла передо мною и приводит меня в трепет. Я не могу думать ни о чем другом. Болван-чурбан упал с лестницы и все-таки получил в жены принцессу. А я, черт побери, я больше, чем болван-чурбан! Дело тут ужасно сложное, настолько, что я многое отдал бы за то, чтобы устно обсудить его с тобой в каком-нибудь тихом уголке. Сразу скажу: не стоит спрашивать, будет ли это моим „счастьем“. Разве я стремлюсь к счастью? Я стремлюсь к жизни и тем самым, наверно, „к своему творчеству“. Далее, я не боюсь богатства…»
Незадолго перед свадьбой, 23 декабря 1904 года, Томас Манн пишет очередное письмо старшему брату, в который раз пытаясь объяснить, что такое счастье лично для него:
«…Я не облегчил себе жизнь. Счастье, мое счастье — оно в слишком высокой степени переживание, волнение, познание, мука, оно слишком далеко от покоя и слишком сродни страданию, чтобы долго быть опасным для моего художничества… Жизнь, жизнь! Она остается тягостью. И поэтому она со временем еще, наверно, даст мне повод для нескольких хороших книг…
Последняя половина периода сватовства — сплошная психологическая нагрузка. Обручение — тоже не шутка, поверь мне. Изнурительные усилия войти в новую семью, приспособиться (насколько удается). Светские обязанности, сотни новых людей, надо показывать себя, надо вести себя…»
И наконец 11 февраля 1905 года свадьба. Томасу Манну идет 30-й год. Он женился на богатой невесте и испытывает все тяготы богатого дома (для него это действительно тяготы): «Я сейчас живу с Катей на широкую ногу, с „ленчами“ и „дине“, а по вечерам смокинг и лакеи в ливреях, забегающие вперед и отворяющие тебе двери… Кстати, это не хвастовство счастьем! У меня, вопреки уверениям отовсюду насчет гигиенической пользы брака, не всегда в порядке желудок, а потому и не всегда чиста совесть при этой сказочной жизни, и я нередко мечтаю о чуть большей доле монастырской тишины и… духовности. Если бы я непосредственно перед свадьбой не успел чего-то закончить, а именно „Фьоренцы“, у меня было бы, наверно, очень скверно на душе…»
Да, любовь, да, брак, но главное все же — творчество!..
У Кати проблемы с тяжелыми родами, у Томаса Манна — острый приступ нервной диспепсии, из-за которого ему прописан массаж. В письме брату он пишет 6 декабря 1905 года:
«Катя снова на ногах… Она кормит маленькую, которой это идет на пользу. Иногда, просыпаясь утром с размягченным после массажа телом и окрепшим желудком, слыша, как плачет ребенок, и чувствуя желание работать, я испытываю такое пронзительное ощущение счастья, какого у меня не было уже двадцать лет…»
Плач ребенка и желание работать — в этом весь Томас Манн. В дневниках писателя то и дело встречается упоминание о жене, он сокращенно обозначает ее буквой «К». «К», как правило, выступает в роли заботливой жены и матери его детей.
В семье Манн выделим двух детей: Эрику (1903–1969) и Клауса (1906–1949). Эрика — артистка, впоследствии журналистка и писательница. Клаус стал писателем под влиянием отца. И, как Лев Львович Толстой, сын Льва Николаевича, вечно мучился напоминанием о том, что в литературе он как бы изначально и навек только сын своего отца. Клаус Манн написал несколько значительных книг («Мефисто», «Поворотный пункт» и другие), в которых отразил историю интеллигента между двумя мировыми войнами, то есть человека, которому решающие годы жизни пришлось провести в социальном и духовном вакууме. Сам Клаус Манн окунулся в гущу политической борьбы (не в пример отцу), но не вынес всех ее драматических противоречий.
Но «старик» выдержал. Опять же спасительная сила духа. Неукротимый дух и любовь к искусству делали его настоящим Фаустом. И последняя цитата из дневников, которой вполне можно подвести черту под его богатым творчеством и скудной личной, частной жизнью:
«Искусство и там, где речь идет лично о художнике, означает повышенную насыщенность жизни. Оно счастливит глубже, пожирает быстрее. На лице того, кто ему служит, оно оставляет следы воображаемых или духовных авантюр; даже при внешнем монастырском образе жизни оно порождает такую избалованность, переутонченность, усталость, нервозное любопытство, какие едва ли может породить жизнь самая бурная, полная страстей и наслаждения».
Так что конфликты, авантюры, страсти, любовь, рок — все это, уважаемые читатели, ищите не в жизни Томаса Манна, а в его книгах.
На этом можно, конечно, поставить точку. Но, пожалуй, необходимо бросить пару темных пятен на излишне светлый портрет Томаса Манна. Добродетель никогда не гуляет в одиночку, всегда за ней тянутся какие-то черные тени. Что касается Манна, то это его гомосексуализм и антисемитизм, хотя, разумеется, это никаким образом не портит Томаса Манна как великолепного творца и художника.
Как пишет Евгений Беркович в статье «Томас Манн: между двух полюсов»: «Буквально накануне помолвки с Катей у Томаса закончился долгий, почти пятилетний роман с художником и виолончелистом Паулем Эренбергом, ставшим прототипом скрипача Руди Швердфегера в романе „Доктор Фаустус“.
Нельзя забывать, что в то время однополая любовь однозначно осуждалась обществом. С женитьбой на Кате Прингсхайм Томас Манн выбрал судьбу добропорядочного гражданина. Однако глубоко спрятанное влечение к молодым голубоглазом юношам, прорывающееся в его дневниках, до старости жило в примерном муже и отце шестерых детей».
Если внимательно читать «Волшебную гору», то легко предположить что герои романа Томаса Манна — утонченный Ганс Касторп и воинственный Иоахим Цимсен — являются для автора волнующими и притягательными образами, к ним писатель испытывает физическое влечение.
Что касается второго «греха» Манна — его антисемитизма, — то он, очевидно, связан с его провинциальностью: Любек не Берлин. К евреям Манн относился двояко. То, что он категорически осуждал в евреях, он ненавидел в себе самом. То, чем он гордился в себе, он превозносил в евреях. Один из его идейных противников Теодор-Лессинг в связи с этим назвал Манна «засахаренным марципаном из Любека». И ирония: жена — еврейка. Пожалуй, об этом он лишь однажды обмолвился брату в письме: «Это своебразная, хорошенькая и эгоистически вежливая маленькая евреечка».
Другая еврейка в жизни Томаса Манна — Ида Герц, которая была страстной поклонницей писателя, вела его библиотеку и архив, собирала все, что относилась к жизни и творчеству ее кумира, и пополняла на протяжении десятилетий сначала в Германии, потом в Лондоне, куда она эмигрировала, ставший грандиозным архив Манна. Ида Герц боготворила Манна, несмотря на все обиды и унижения с его стороны. Она умерла в 1984 году в 90-летнем возрасте.
Подводя итог, можно сказать, что антисемитизм Томаса Манна был все же мягким и никаким не оголтелым, но тем не менее фашисты зачисли Манна в свои враги и назвали его «бесспорно, большим другом евреев».
И, наконец, последняя точка. Великий Томас Манн трудной дорогой шел к идеалу и добру, и он взобрался на эту трудную «Волшебную гору». А мы все копошимся и боимся к ней даже подойти.
Исследователь человеческой души
Литературная мода, как и любая мода, меняется. В первой половине XX столетия среди европейских авторов возвышался Стефан Цвейг, а во второй половине столетия на первый план вышли Кафка, Беккет, Музиль, Сартр. Цвейг оказался немного задвинутым, впрочем, как и Андре Моруа. Цвейг и Моруа, признаюсь, мои кумиры в жанре исторических портретов. Им я не столько подражаю, сколько ими восхищаюсь: блистательнее стилисты, исследователи человеческой души, Томики Стефана Цвейга попались мне еще в школьные годы и покорили сразу, я испытал от его новелл некий «амок», — так это было необычно, интригующе и остро.
В своем творчестве Цвейг неутомимо исследовал психологию и дух человека, измерял, подобно Достоевскому (кстати, это его любимый писатель), глубины и пропасти души. Как историка, Цвейга интересовали разные звездные часы человечества и «роковые мгновения», герои и злодеи. При этом Цвейг оставался мягким моралистом. Тончайшим психологом. Рафинированным популяризатором. Он умел захватить читателя с первой страницы и не отпускать его до конца, водя по интригующим тронам человеческой судьбы. Цвейг уверен, что «судьба неизменно оказывается богаче выдумкою, чем любой роман», — вот почему его больше привлекали исторические биографии, а не художественные обманы. Заглядывая в чужие истории, Цвейг больше понимает своё собственное существование. Цвейговские параллели всегда поучительны и интересны.
В новелле о поэте Фон Клейсте Цвейг отмечает: «Всякое страдание становится осмысленным, если ему дана благодать творчества. Тогда он становится высшей магией жизни. Ибо только тот, кто раздвоен, знает тоску по единству. Только гонимый достигает беспредельности…»
Цвейг любил не только покопаться в биографиях знаменитостей, но и вывернуть их наизнанку, чтобы обнажились скрепы и швы человеческого характера. Вот, к примеру, ключевая Фраза по поводу министра полиции Жозефа Фуше: «Из всякой должности человек может сделать то, что ему хочется». Фуше хотелось власти и денег, и он этого добился. Но операция заглядывания вовнутрь не применима к самому писателю. Цвейг был чрезвычайно скрытным человеком. Не любил говорить о себе и о своей работе. Написанная им автобиография «Вчерашний мир» по сути не является автобиографией. В ней много о других литераторах, о своем поколении, о времени, и минимум личных сведений! Всё скрыто и все плотно занавешено. В этом смысле «Вчерашний мир» — молчаливая книга. Поэтому попробуем нарисовать хотя бы приблизительный портрет Стефана Цвейга и бегло проследовать по вехам его жизни.
Стефан Цвейг родился 28 ноября 1881 года в Вене, в богатой еврейской семье. Отец Морис Цвейг — фабрикант, преуспевающий буржуа, хорошо воспитанный и испытывающий тягу к культуре. Мать Ида Бреттауэр, дочь банкира, красавица и модница, женщина с большими претензиями и амбициями. Своими сыновьями Стефаном и Альфредом она занималась мало, отдав их на откуп гувернанткам. Дети росли ухоженными красавчиками, в богатстве и роскоши. Летом с родителями они отправлялись на курорт в Мариенбад или в Австрийские Альпы. Внешне всё замечательно, а внутри высокомерие и деспотизм матери давит на чувствительного Стефана. Вот почему он как только поступает в Венский институт, то сразу покидает родительский дом и живет самостоятельно. Хватит гнета, советов и назиданий! Да здравствует либерти! Да здравствует свобода!.. «Ненависть ко всему авторитарному сопровождала меня всю жизнь», — признается позднее Цвейг.
Годы учебы — годы увлечения литературой и театром. К чтению Стефан приобщился с детства. Вместе с чтением возникла и другая страсть — собирательство. Уже в юности Цвейг стал коллекционировать рукописи, автографы великих людей, клавиры композиторов. Он мог часами вглядываться в буквы, написанные Гёте, и нотные значки Бетховена, стремясь разгадать тайный шифр гения. Ну и, конечно, стихи. Новеллист и биограф знаменитых людей, Цвейг начал свою литературную деятельность как поэт. Свои первые стихи он опубликовал в 17 лет в журнале «Дойче Дихтунг»…
В 1901 году, в издательстве «Шустер унд Леффлер» вышел первый стихотворный сборник «Серебряные струны». Один из рецензентов откликнулся так: «Тихая, величественная красота льется из этих строк молодого венского поэта. Просветленность, какую редко встретишь в первых книгах начинающих авторов. Благозвучие и богатство образов!» Действительно, у Цвейга легкие и летучие строки, в которых даже чувство тоски и меланхолии лишены тяжести. Не случайно, что несколько стихотворений Цвейга были положены на музыку.
Итак, в Вене появился новый модный поэт. Но сам Цвейг сомневался в своем поэтическом призвании и уехал в Берлин продолжать образование, а заодно и знакомиться с жизнью берлинской богемы. Знакомство с бельгийским поэтом Эмилем Верхарном подтолкнуло Цвейга к переводческой и издательской деятельности: он стал переводить и издавать Верхарна. Вплоть до 30 лет Цвейг вел кочевую и насыщенную жизнь, разъезжая по городам и странам — Париж, Брюссель, Остенде, Брюгге, Лондон, Мадрас, Калькутта, Венеция… Путешествия и общение, а иногда и дружба со знаменитыми творцами — Верденом, Роденом, Ромен Ролланом, Фрейдом, Рильке… И накопление знаний. И вскоре Цвейг становится знатоком европейской и мировой культуры, человеком энциклопедических знаний, д’Аламбером и Дидро своего времени.
Стихи забыты, Цвейг полностью переключается на прозу. В 1916 году он пишет антивоенную драму «Иеремия». В середине 1920-х годов создает свои самые известные сборники новелл: «Амок» (1922) и «Смятение чувств» (1929). Это — «Страх», «Улица в лунном свете», «Лепорелла», «Закат одного сердца», «Фантастическая ночь», «Мендель — букинист» и другие новеллы с фрейдовскими мотивами, вплетенными в «венский импрессионизм» да еще сдобренные французским символизмом. Основная тема — сострадание к человеку, зажатому «железным веком», да к тому же опутанному своими неврозами и комплексами. Те же блоковские метания: «Ночь, улица, фонарь, аптека…»
В 1929 году появляется первая цвейговская беллетризованная биография «Жозеф Фуше», посвященная одному из министров наполеоновской Франции. Этот жанр увлек Цвейга, и он создает замечательные исторические портреты: «Мария Антуанетта» (1932), «Триумф и трагедия Эразма Роттердамского» (1934), «Мария Стюарт» (1935), «Кастелио против Кальвина» (1936), «Магеллан» (1938), «Америго, или История одной исторической ошибки» (опубликована в 1944).
Еще книги о Верхарне, Ромен Роллане. «Три певца своей жизни — Казанова, Стендаль, Толстой», и другие. Осталась незаконченной биография Бальзака, над которой Цвейг работал около 30 лет.
Одному из своих коллег по перу Цвейг говорил: «История жизни выдающихся людей — это история сложных душевных конструкций… в конце концов, история Франции девятнадцатого века без разведки таких личностей как Фуше или Тьер, была бы неполной. Меня интересуют пути, по которым шли те или иные люди, создавая гениальные ценности, вроде Стендаля и Толстого, или поражая мир преступлениям вроде Фуше…»
Цвейг изучал своих великих предшественников тщательно и любовно, пытаясь разгадать их поступки и движения души, при этом он не любил победителей, ему ближе были проигравшие в борьбе, аутсайдеры или безумцы. Одна из его книг — о Ницше, Клейсте и Гельдерлине — так и называется «Борьба с безумием».
Среди победителей был, пожалуй, один — Джакомо Казанова. О нем Цвейг писал: «Робкие юноши напрасно будут перелистывать его 16-томное „Искусство любви“, чтобы вырвать у мастера тайну его побед: искусству соблазна так же нельзя научиться из книг, как советской России». Цвейг писал: «… Так, в вашей! России Зиновьев, Каменев, ветераны революции, первые соратники Ленина расстреляны, как бешеные собаки, — повторяется то, что сделал Кальвин, когда отправил на костер Сервета из-за различия в толковании Священного Писания. Вечно та же техника, как у Гитлера, как у Робеспьера: идейные разногласия именуются „заговором“; разве не было достаточно применить ссылку? Она была бы даже более суровым наказанием, чем „миграция, которая /см. Троцкий/ медленно грызет, убивает, доводит до бессилия… Я понимаю, как Вы должны были страдать в эти месяцы, при Вашем сострадании к побежденным и угнетенным, при Вашем отвращении к лжи, при Вашей жажде справедливости“». Эти строки писались Цвейгом после расстрела оппозиционеров в СССР.
Конечно, политика волновала Цвейга, но главное для него было все же писательство. В книге «Люди и встречи» Владимир Лидин писал: «Цвейг вызвал меня телеграммой. Было портовое дождливое утро, когда приехал я в Гамбург. На пузырящейся от дождя воде Внутреннего Альстера плавали мокрые белые лебеди. Цвейг жил на маленькой улочке где-то возле Гостенваль-Ринга. Он жил один в большом Гамбурге. Он любил писать свои книги в чужих, незнакомых городах: слишком много людей знали его в Вене и Зальцбурге. Здесь, в квартирке какой-то вдовы, сдавшей ему на месяц жилище со всей обстановкой, его не знал никто. Цвейг писал в Гамбурге „Maрию Антуанетту“ — очередной психологический портрет одной из сложных исторических фигур…»
Каким был человеком Стефан Цвейг? Герман Кестен в очерке «Стефан Цвейг мой друг» писал: «Он был любимцем судьбы. А умер как философ. В последнем письме, обращаясь к миру, он еще раз сказал о том, что было целью его жизни. Он хотел быть человеком „позиции“. Он хотел построить „новую жизнь“. Его „главной радостью“ был „интеллектуальный ряд“. А „высшим благом“ он считал „личную свободу“. Себя он называл „слишком нетерпеливым“ …»
И далее Кестен отмечает, что Цвейг «был оригинальным, сложным человеком, интересным, любопытным и хитрым. Задумчивым и сентиментальным. Всегда готовым помочь и — холодным, насмешливым и полным противоречий. Большой буржуа по своим манерам и абсолютно не буржуазен по своим проявлениям. Комедиант и трудяга, всегда возбужден и полон психологических тонкостей. Легко волновался и быстро уставал. По-женски сентиментален и по-мальчишески легок на удовольствия. Он был словоохотливым и верным другом. Успех его был неизбежен. Он сам был настоящей сокровищницей литературных историй. Живой пессимист и зажигательный оптимист. Абсолютно лишенный самоиронии. По сути очень скромный человек, воспринимавший себя и весь мир слишком трагично…»
Это пристальный взгляд друга. Для многих других Цвейг был прост и без всяких психологических нюансов. «Ему хорошо наслаждаться жизнью. Он богат, имеет успех. Он любимчик судьбы» — такое распространенное мнение о писателе. Но не все богатые щедры и сострадательны. А именно таким был Цвейг, который всегда помогал своим коллегам: кому-то купить приличный костюм (как это было с Йозефом Ротом), кому-то дать деньги. Некоторым писателям Цвейг выплачивал ежемесячную ренту. Многим буквально спас жизнь. Он любил возиться с молодыми, и в Вене он собирал вокруг себя поэтов, выслушивал их, давал советы и угощал в модных кафе «Гринштайдль» и «Бетховен». На себя Цвейг тратил не так уж много, избегал роскоши, не приобрел даже автомобиля. Днем любил общаться с друзьями и знакомыми, а работать по ночам, когда ничего ему не мешало.
Многие воспоминания о нем варьируют высказывание Германа Гессе: «Стефан Цвейг — это человек дружбы». И все единодушно отмечают особую чувствительность писателя и его склонность к депрессиям, что и привело в конечном итоге к роковой развязке. Но прежде чем приступить к ней, вернемся к хронологии и к двум главным женщинам Цвейга.
На одном из музыкальных вечеров летом 1908 года 26-летний Степан Цвейг повстречал свою ровесницу Фредерику Мацию фок Винтерниц, замужнюю даму, католичку из еврейской семьи, женщину с притягательной внешностью. Они обменялись многозначительными взглядами. Через два года повторная встреча, в которой Фредерика уже знала, кто такой понравившийся ей незнакомец — она с упоением читала «Гимны жизни» Верлена в переводе Цвейга. Замужняя дама и мать прелестной девочки Сюзанны осмелилась написать письмо Цвейгу о том, что «звуки» его сонетов «преследуют» её. Они стали переписываться, перезваниваться, встречаться. Для Фредерики Стефан был особым мужчиной на фоне заурядного мужа-чиновника, но и Фредерика для Цвейга оказалась необычной женщиной, в ней он чувствовал родственную душу.
После одного из свиданий Цвейг записал в дневнике: «…Где-то в глубине души я понимаю, в чем разница между мужским и женским началом: у нас предвкушение наслаждения, поэтому такое изнеможение с его исполнением. У женщины наслаждение потом, поэтому без фантазий. Они живут прошедшим, мы — будущим. Быть может, поэтому у женщин и память лучше»… Забегая вперед, скажем, когда Цвейга не стало, Фредерика долгие годы жила памятью о нем.
Естественно, платонические отношения перешли в чувственные. Разумеется, была и разлука и было увлечение другой женщиной — модисткой Марцеллой, в Париже, где Цвейг предался буйной страсти, и о которой подробно исповедовался в письмах к Фредерике. Короче говоря, было много всего, прежде чем Цвейг и Фредерика соединили свои судьбы. После долгих колебаний Фредерика получила развод и, имея двух маленьких дочерей, стала женой Стефана Цвейга. Это был счастливый брак не только мужчины и женщины, но и двух творческих натур: Фредерика тоже оказалась способной писательницей. Самые счастливые годы прошли в старинном доме, который купил Цвейг в Зальцбурге, на горе Капуцинерберг. Дом XVII века с башней, который Фредерика прекрасно обуютила. На протяжении 25 лет Цвейг и Фредерика были практически неразлучны, а если и расставались на несколько дней, то непременно обменивались письмами: что делали, о чем думали… И в конце письма: «Целую тебя тысячу раз, твой Стефчи». Теплые, нежные, трепетные отношения…
В ноябре 1931 года Цвейгу исполняется 50 лет. Он на вершине литературной славы, материально обеспечен, у него любимая жена, — и именно на этом пике он попадает в яму жуткой депрессии. Своему другу Виктору Фляшеру он пишет: «Я не боюсь ничего — провала, забвения, утраты денег, даже смерти. Но я боюсь болезней, старости, и зависимости». Типичный кризис возраста. Боязнь старости (к примеру, старости очень боялся наш Маяковский). Именно в этот критический момент Фредерика несколько удаляется от Цвейга, увлеченная собственной литературной работой, и она находит «выход» — роковой выход! — пригласить в дом секретаря и машинистку для Стефана — 26-летнюю польскую еврейку Шарлотту Альтманн. Очень скромная и робкая, и к тому же вовсе некрасивая Лотта никак не виделась Фредерике соперницей — невзрачная мышка, да и только!.. Но жизнь богата на неожиданные, сюжетные ходы! Мышка заставила проснуться в стареющем писателе мужчину, и угасшая сексуальность Цвейга неожиданно зафонтанировала.
Роковой 1937 год: Стефан Цвейг покидает Фредерику и женится на Шарлотте Альтманн. В воспоминаниях Фредерики это выглядит так: «Однажды под дверью нашего дома я нашла письмо. Стефан и Лотта сообщали мне, что они поженились, церемония прошла тихо и скромно. Они просили простить их и не лишать моей дружбы.
Страх, что его верная помощница, страдалица, может попасть в концлагерь, подтолкнул его сделать этот шаг, — писал Стефан…»
Цвейг нисколько не порвал отношений с Фредерикой, и 12 мая 37-го писал ей: «Дорогая Фрици!.. В сердце у меня ничего кроме печали от этого разрыва, внешнего только, который вовсе не есть разрыв внутренний. А может быть, это лишь новая близость, ибо теперь нас так не мучают все мелочи и неприятности. Я знаю, тебе будет горько без меня. Но ты теряешь немногое. Я стал другим, устал от людей, и радует меня только работа…»
И знаменательные строчки: «Лучшие времена безвозвратно канули, и их мы пережили вместе…»
Крушение семьи совпало с мрачным нашествием фашизма на Европу. С 1934 года Цвейг жил преимущественно в Лондоне, а с 1940 — в Нью-Йорке. В 1942 году Цвейг и Лотта перебрались в Бразилию, в курортный городок Петрополис. И здесь Цвейг, вдали от любимой Европы, от друзей, окончательно сломался. Депрессия одолела его. Его письма Фредерике полны горечи: «Я продолжаю свою работу, но лишь в _ моих сил. Это всего лишь старая привычка без какого-либо творчества…»
И в последнем письме: «…Я устал от всего. У тебя есть дети. Ты должна исполнить свой долг… Я уверен, ты увидишь лучшие времена…» И о себе. «Знай, что я спокоен и счастлив». Письмо написано 22 февраля 1942 года. И в этот день, к ночи Стефан Цвейг и его вторая жена Лотта добровольно ушли из жизни, приняв большую дозу веронала. Утром их нашли спящими, а на письменном столе лежали прощальные письма.
Стефан Цвейг прожил 60 лет и 3 месяца. Его смерть невольно заставляет вспоминать героя одной из его книг — немецкого поэта-романтика Генриха фон Клейста, который закончил свою жизнь двойным убийством — убил (с ее согласия) случайную женщину Генриетту Фогель, затем себя. О Клейсте Цвейг написал: «Его прусские предки завещали ему прочное, почти слишком крепкое тело: не в плоти гнездился его рок, не в крови трепетал, а незримо витал и созревал в душе».
Очевидно, рок витал и над Стефаном Цвейгом. А депрессия была всего лишь его прикрытием. Мир оказался слишком жестким и неуютным для чувствительного Цвейга. Над гробом писателя президент Академии наук Бразилии Карнейро так сказал о последнем решении Цвейга: «…Из мира, не прельщавшего его ни деньгами, ни почестями, но который так и не стал частью мира, — а именно этого он всегда страстно желал и добивался, — из этого мира он бежал и нашел спасение в своей смерти».
Цвейга хоронили в Рио-де-Жанейро. Все магазины были закрыты. Проститься с писателем пришло все иудейское духовенство. Бразилия и весь мир скорбел.
- У последнего порога
- Жизнь сиянием залита,
- И ее так нежно, строго
- Не любил ты никогда.
Это строки одного из последних стихотворений Стефана Цвейга.
Просто «Улисс»
Ирландский писатель Джеймс Джойс написал безумную по сложности книгу «Улисс». Писать о ее авторе тоже довольно-таки безумная идея, не будучи профессиональным литературоведом, критиком и прочим спецом. Но хочется. Если есть в данной книге Кафка и Пруст, то обязательно должен быть Джойс, — три вершины мировой литературы XX века. И как говорил молодой Горький: «Безумству храбрых поем мы песню». Итак, культовый писатель Джойс.
Когда наша страна была читающей, то у просвещенных интеллигентов и книжных эстетов были два кумира: Джойс и Кафка. «Вы не читали Джойса?» — звучало, как приговор: тогда не о чем с вами разговаривать, в глухие советские времена хотелось поговорить о чем-то эдаком, о «потоке сознания», к примеру, — «это штука посильнее, чем „Фауст“ у Гёте!..»
Большинство читающих в СССР были приучены к сюжету и, главное, к производственному процессу, как закалялась сталь, как строить Днепрогэс, как осваивать целину и т. д. Героика, энтузиазм, служение родине (как в песне: «раньше думай о родине, а потом о себе…»). У Джойса ничего этого нет. Как выразился Умберто Эко: замкнутый лингвистический универсум и слепок лица автора, внутренний мир человека — его ничтожные поступки, мелкие мысли, сексуальные ощущения. Случайные ассоциации. Быстро исчезающая мимолетность. Все это как-то пугает и вместе с тем притягивает.
В 1934 году на Первом съезде советских писателей Карл Радек говорил: «Джойс именно потому, что он почти непереводим и неизвестен у нас, вызывает у части писателей нездоровый интерес… Куча навоза, в которой копошатся черви, заснятая кинематографическим аппаратом через микроскоп, — вот Джойс!..»
Умели в советскую идеологическую бытность бить по фейсу, то бишь по морде, — ничего не скажешь. Разумеется, после таких оценочных мордобитий трудно было увидеть напечатанным Джойса. Печатались лишь отрывки «Улисса», а полностью перевод в 30-е годы так и не увидел свет. Переводчик романа Игорь Романович был арестован и сгинул в лагерях. Другой, Валентин Стенич был расстрелян. Полностью перевод вышел лишь в 1989 году с предисловием академика Лихачева: Джойса, дескать, надо читать, потому что это — «явление культуры». Совсем недавно — в 1952 году БСЭ представляла Джойса исключительно как вождя европейского и американского декадентства. Но времена меняются, и вот — явление культуры…
Прошло еще два десятилетия, и лежит это «явление» на полках книжных магазинов и пылится. Не до Джойса. Одна часть населения России разживается «бабками», другая пытается выживать. Не до «Улисса». Слабая надежда, хоть эти странички прочтут и, может быть, что-то останется в памяти. Не до изысков.
Жизнь Джойса
Джеймс Августин Джойс родился 2 февраля 1882 года в Дублине. Отец писателя, налоговой инспектор, пока не спился, мог позволить обучать сына в первоклассной и дорогой школе, которой, кстати, управляли иезуиты. После разорения отца Джеймс в течение двух лет занимался дома самообразованием, а в 17 лет поступил в университетский колледж, которым тоже руководил орден иезуитов. Джойс даже подумывал о том, чтобы стать священником, но затем отказался от этой мысли, поскольку это повлекло бы за собой принятие обета безбрачия. А Джейс с 14 лет исправно посещал публичные дома.
Писать Джойс стал с 6 лет и всегда знал и верил в свою особую судьбу. Он много писал стихов, статей, эссе, пьесы, делал переводы. Потом стал работать над малой прозой, впоследствии объединил рассказы в сборник «Дублинцы». Примечательна судьба первого издания. Писатель вспоминал: «Когда же, наконец, книгу напечатали, нашелся некий добрый человек, который скупил в Дублине весь тираж и сжег его, устроив персональное аутодафе».