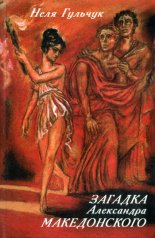99 имен Серебряного века Безелянский Юрий

Увы, спустя годы, изменил свое отношение и Корней Чуковский. «О Луначарском я всегда думал как о легкомысленном и талантливом пошляке и если решил написать о нем, то лишь потому, что он по контрасту с теперешним министром культуры — был образованный человек» (12 апреля 1965).
Несколько дней спустя: «Держу корректуру 2-го тома. Отвратителен Луначарский».
Так быстро забыл Корней Иванович все хорошее в Луначарском?.. Нетерпимо относился к наркому, точнее, к пьесам Анатолия Васильевича, которые Луначарский писал: «Я просто хотел забыться и уйти в царство чистых образов и чистых идей», — Марк Алданов. «Этот человек, живое воплощение бездарности в России, просматривает, разрешает, запрещает произведения Канта, Спинозы, Льва Толстого, отечески отмечает, что можно, чего нельзя. Пьесы г. Луначарского идут в государственных театрах, и, чтобы не лишиться куска хлеба, старики, знаменитые артисты, создававшие некогда „Власть тьмы“, играют дево-мальчиков со страусами, разучивают и декламируют „гррр-авау-пхоф-бх“ и „эй-ай-лью-лью“…»
Да, пьесы Луначарского, все эти «Идеи в масках», — не всем нравились и ныне забыты, так же как и его статьи, типа «Ленин и литературоведение», хотя специалисты иногда вспоминают «драмолетты» Луначарского («Королевский брадобрей», «Король-художник», «Освобожденный Дон Кихот» и т. д.). Вполне может быть, что в этих «драмолеттах» Луначарский пытался забыться, уйти от реальной действительности. В работе «От Спинозы до Маркса» (1925) он писал: «История совершается и еще долго будет совершаться среди крови и слез. Изменить это положение вещей никто не в состоянии».
Когда-то Луначарскому понравилась фраза Александра Скрябина: «Самая большая власть — власть обаяния, власть без насилия». Но куда там без насилия?! А раскулачивание крестьян, а аресты и ссылки, а засилье цензуры?.. «Гнилой либерал» Луначарский был против всего этого. Он был белой вороной в черной стае правителей, и с каждым годом все белее. Он чувствовал себя, по свидетельству современников, «полуопальным», «инородной фигурой».
В 1929–1933 годах он — формально председатель Ученого совета при ЦИК СССР, фактически «не у дел». Входит в состав советской делегации по разоружению при Лиге Наций и находится в длительных командировках за рубежом. В 1933 году назначен послом СССР в Испании. Будучи тяжело больным, скончался по дороге к месту назначения. Смерть прервала диктовку статьи о Марселе Прусте.
«Луначарский был болен, — вспоминает Владимир Лидин, — ему запрещено было, наверно, три четверти из стоявшего на столе, и, глядя на бутылки с вином и придвигая к себе стакан с молоком, он с грустной иронией сказал:
— А Луначарский пьет молоко…»
Он ощущал себя больным и старым: «Боже — как я стар. Как Пер Гюнт» (ноябрь 1930).
Менее чем за два года до смерти, в феврале 1932 года, Луначарский писал: «В сущности, как-никак, я живу на земле последние годы. Не подумай, что я собрался умирать. Нет, я очень охотно прожил бы еще (и, вероятно, проживу) лет до 65… Так вот: я очень счастлив думать, что мне осталось еще лет 9, в которые я буду иметь ясную голову, горячее сердце, жадные к миру глаза, уши, руки, желание творить, пить счастье и учить быть счастливым. Но не следует ли из этого все-таки, что надо стараться придать отныне своей жизни, так сказать, более торжественный характер? Именно характер теплого, ясного вечера, с пышным закатом, с благоухающими цветами в наполненном вечерними бликами и тенью садом?.. Читать только существенное, мудрое, прекрасное? Писать только большое, нужное?… Вообще жить так, чтобы каждый час пролетал на медленных и широких крыльях. Чтобы не уходил, а приобретался. Чтобы в час смерти оказаться не растратчиком, а обладателем такой богатой внутренней жизни, чтобы естественно выросло чувство: этому не может быть конца. Как ты думаешь?.. Я — натура довольно богатая и щедрая. Это не плохо. Но я недостаточно сосредоточен… Конечно, пути человека зависят не только от него. Есть неотвратимая судьба, случайность — тюхе, как называл это Гете. Но очень многое зависит от „даймона“, т. е. от своего собственного самого лучшего „я“… Я вовсе не хочу стать ни святым, ни педантом, ни замкнутым философом: наоборот, я хочу быть веселым мудрецом. Хочу быть золотым, как начало осени, а не голым и пустым, как конец ее жизни. Жизнь моя, в общем, была счастливой… Но я хочу быть еще счастливее в последние годы…»
Эти строки Луначарский писал жене, Наталье Розенель, 16 февраля 1932 года. И еще выдержка из письма (4 марта 1932): «Если сердце не будет слишком шалить — то я еще лет 10 проживу! Больше, пожалуй, не надо. Но жить хорошо… Любовь на первом плане. Благодаря тебе я богат любовью. Потом природа. Она все больше меня привлекает. Жаль, что я не был и в молодости спортивно развитым человеком. Все искусства. Великолепная вещь — человеческая мысль. Политика сейчас — горька…»
«Горька» — это сказано весьма осторожно.
Продолжал Луначарский и писать стихи. Вот одно из них, написанное в Женеве:
- И все теряет сразу цену:
- Чуть-чуть погрелся у костра,
- Пригубил вин пустую пену —
- И вот уйдешь… Куда? В Ничто,
- И за тобой пройдут другие.
- Душа жила пустой мечтой,
- И под конец, бедняк, не лги ей!..
Строящийся в СССР социализм — это «пустая мечта»? Стало быть, зря провозглашал: «Мы люди нового утра!»
Луначарский умер в Ментоне, в курортном городке на Лазурном берегу. В рождественскую ночь 25 декабря разбудил жену: «Будь готова. Возьми себя в руки. Тебе предстоит пережить большое горе». А врачу, предложившему ему ложку шампанского, сказал: «Шампанское я привык пить только в бокале. И причины изменять своим привычкам не вижу и сейчас».
Через несколько часов Анатолий Васильевич умер. Он прожил 58 лет. Обе жены Луначарского пережили его значительно: первая — Анна Малиновская (1883–1859) и вторая — Наталья Розенель (1902–1968). Первая была писательница, вторая — актриса. Луначарский познакомился с Розенель в 1922 году и ради нее оставил жену, с которой прожил 20 лет, и сына. И, сменив кремлевскую квартиру на апартаменты в Денежном переулке, в 47 лет начал новую жизнь. Вот уж поистине «Миноносец „Легкомысленный“», как назвал его когда-то Владимир Ильич. А можно сказать иначе: Луначарский не устоял перед красотой.
По воспоминаниям Александра Менакера, Розенель не блистала талантом, зато пленяла умом, воспитанностью и утонченностью. Она была образцом женской красоты 20-х годов. Один немецкий журнал назвал ее «самой красивой женщиной России». У нее были удивительно правильные черты лица, с легкой горбинкой нос (семейство Сац — никуда не денешься) и крошечная мушка на щеке. И русалочьи зеленые глаза… Вокруг Луначарского и его молодой жены ходило множество слухов, легенд, стихов. Популярны были строки Демьяна Бедного:
- Ценя в искусстве рублики,
- Нарком наш видит цель:
- Дарит лохмотья публике,
- А бархат — Розенель.
Гуляли подпольно и такие стихи:
- В бардаке с открытым воротом,
- Нализавшись вдоволь рома,
- Вот, идет с серпом и молотом
- Председатель Совнаркома.
- А за ним с лицом экстерна
- И с глазами из миндалин,
- Тащит знамя Коминтерна
- Наш хозяин Оська Сталин.
- Вот идет походкой барской
- И ступает на панель
- Анатолий Луначарский
- Вместе с лэди Розенель…
Далее про Калинина, Буденного, но это уже к теме Серебряного века никак не относится. Напоследок приведем строки самого Луначарского из его поэмы «Концерт» (у него было два хобби — бильярд и стихи), строки эти сегодня звучат как-то особенно актуально:
- Все продается. Пламя дум,
- Возвышенные чувства.
- Изволь продать —
- тили-бум-бум!
- И превращай в шурум-бурум
- Науку и искусство!..
РОЗАНОВ
Василий Васильевич
20. IV(2.V).1856, Ветлуга Костромской губернии — 23.I(5.II).1919, Сергиев Посад Московской губернии
Как определить Розанова? Кто он? Философ, религиозный мыслитель, писатель, публицист, эссеист — все это правильно, но как-то уж обще и расплывчато для Розанова. Его называли и оценивали все по-разному, учитывая его эксцентричность и противоречивость как в мыслях, так и в поведении. «Русский Ницше» — это как комплимент. Человек с «двоящимися мыслями» — это критика. «Шелудивая собака» — уже ругань, так, кстати, назвал Розанова Леонид Андреев. «Нравственно невменяемая личность» (Петр Струве). Розанов — это Распутин русской философии и публицистики. Он явился «метафизиком» мещанского духа, обывательщины, бытовщины, — такое определение можно найти в книге Кувакина «Религиозная философия в России» (1980). Совершенно прелестное определение Розанова: «Монтень с авоськой». Оно принадлежит Мерабу Мамардашвили.
А вот оценка Николая Бердяева: «В.В. Розанов один из самых необыкновенных, самых оригинальных людей, каких мне приходилось в жизни встречать. Это настоящий уникум. В нем были типические русские черты и вместе с тем он был ни на кого не похож. Мне всегда казалось, что он зародился в воображении Достоевского, и что в нем было что-то похожее на Федора Павловича Карамазова, ставшего писателем. По внешности, удивительной внешности, он походил на хитрого рыжего костромского мужичка. Говорил пришептывая и приплясывая. Самые поразительные мысли он иногда говорил на ухо приплевывая… Литературный дар его был изумителен, самый большой дар в русской прозе. Это настоящая магия слова…»
Художник Мстислав Добужинский о Розанове: «У него была любопытная наружность: огненно рыжий, всегда с торчащим хохолком на макушке, с маленькой бородкой и весьма хитрым взглядом поверх очков».
«Хитер нараспашку», — сказал о нем Андрей Белый. А вот что говорил о себе сам Василий Розанов — самооценка, разбросанная в разных его книгах:
«Я был рожден созерцателем».
«Грусть — моя вечная гостья. И как я люблю эту гостью».
«Я задыхаюсь в мысли. И как мне приятно жить в таком задыхании. Вот отчего жизнь моя сквозь тернии и слезы все-таки наслаждение».
- «Моя вечно пьяная душа…
- Она всегда пьяна, моя душа —
- И любопытна, и „не могу“, и „хочется“…
- И шатаются ноги…
- И голова без шапки. Одну калошу потерял. Вот моя душа».
Это из книги «Сахарна» с подписью в скобках: «бреду в редакцию». Розанов часто свои мысли — сам себе Эккерман — записывал на ходу: «за кофе», «за набивкой табаку», «преодолевая послеобеденный сон» и т. д.
Из письма к Борису Садовскому: «Гордости во мне никогда не было. Я весь смирный и тихий. Мне нужен: кусок хлеба, тепло, комната…» (декабрь 1917).
«Частная жизнь выше всего», — утверждал Розанов. «Привязанность к домашним щам, к лошади и жене — это древнее язычество, которому еще остался верен человек». Такую розановскую позицию советские критики считали конформизмом.
Еще один отзыв о нем: «Розанов был сам нежный тихий человек с таким сильным чувством трагического, что не понимал даже шуток, сатиры и т. п. Розанов мог быть, однако, очень злым» (Михаил Пришвин).
Александр Блок в письме к Андрею Белому: «Не попади под извозчика! А извозчик — В.В. Розанов — едет, едет — день и ночь с трясущейся рыженькой бороденкой…»
«Розанов боролся на два фронта, один фронт — ему была безбожная интеллигенция, другой — суеверие церковников» (Пришвин).
А теперь совсем немного биографических данных. Розанов родился шестым ребенком в многодетной православной семье бедного провинциального чиновника. В 14 лет остался круглым сиротой и опеку над ним взял старший брат Николай. Среднее образование получил в классических гимназиях Костромы, Симбирска и Нижнего Новгорода. «Гимназия была отвратительна», — вспоминал Розанов. За неуспеваемость во 2-м и 8-м классах оставался на повторный курс. Но, плохо учась в гимназии, много и плодотворно занимался самообразованием, осваивая мировую культуру. «Из всей действительности любил только книги», — еще одно признание Розанова.
В 26 лет, в 1882 году Розанов окончил историко-филологический факультет Московского университета со степенью кандидата. Ему предлагали остаться на кафедре, но он отказался от академической карьеры и уехал в Брянск, где стал учителем истории и географии. Потом учительствовал в Ельце, в городке Белый Смоленской губернии, — и так одиннадцать лет, одновременно занимаясь свободным философским сочинительством.
В 1886 году вышла его первая книга «О понимании: Опыт исследования природы, границ и внутреннего строения науки как цельного знания». В анкете 1909 года Розанов вспоминал о своей первой книге: «Сплошное рассуждение на 40 печатных листов, — летящее, легкое, воздушное, счастливое для меня, сам сознаю — умное: это, я думаю, вообще не часто в России. Встреть книга какой-нибудь привет, — я бы на всю жизнь остался „философом“. Но книга — ничего не вызвала. Тогда я перешел к критике, публицистике: но все это было „не то“. Т. е. это не настоящее мое: и когда я в философии никогда не позволил бы себе „дурачиться“, „шалить“, в других областях это я делаю… при постоянной, непрерывной серьезности, во мне есть много резвости и до известной степени „во мне застыл мальчик и никогда не переходил в зрелый возраст…“»
Еще будучи студентом, в 24 года, Розанов женился на бывшей любовнице Достоевского Аполлинарии Сусловой, которая была на 16 лет старше его. Хотел приобщиться к Достоевскому через Суслову? Ничего хорошего из этого брака не вышло. «Станешь умываться, снимешь очки, а она подойдет и по морде трах!» — вспоминал Розанов. Насмехалась «Суслиха» и над сочинительством молодого мужа. Она говорила, что он пишет какую-то глупую книгу, оскорбляла его при этом. В конечном счете «Поленька» бросила Розанова, причинив ему много боли и страдания. В дальнейшем Розанов женился на вдове Варваре Бутягиной, женщине некрасивой и дородной (она родила ему четырех дочерей и одного сына). «На ревнивых жен Розанову везло, — отмечала Зинаида Гиппиус. — Ну, та, первая подруга Достоевского, — вообще сумасшедшая старуха; ее и нельзя считать женой Розанова. Но настоящая, любящая и обожаемая „Варя“, мать его детей, женщина скромная, благородная и простая, — тоже ревновала его ужасно».
Но жены — частности. Вернемся к творчеству. В 1893 году Розанов переезжает в Петербург и служит в Департаменте железнодорожной отчетности. («Служба была так же отвратительна для меня, как и гимназия».) В мае 1899-го он оставляет службу и по приглашению Алексея Суворина становится постоянным сотрудником газеты «Новое время», где проработал до ее закрытия (октябрь 1917). «Материально я чрезвычайно многим обязан Суворину: ни разу он не навязал мне ни одной мысли, ни разу не внушил ни одной статьи, не делал и попытки к этому, ни шага», — вспоминал Розанов. Розанов писал в газету через день на самые разнообразные темы: школа, церковь, семья, брак, незаконнорожденные дети, народный быт, война и мир, русская жизнь и культура, литература. Розанова читали взахлеб и вскоре он получил «общерусскую известность».
Газетную работу Розанов чередовал с писанием книг, и они выходили регулярно: «Сумерки просвещения» (1899), «Природа и история» (1899), «Литературные очерки» (1900), «Религия и культура» (1900), «В мире неясного и нерешенного» (1902), «Семейный вопрос в России» (1905), «Около церковных стен» (1907) и другие.
В 1912 году вышла книга «Уединенное» — это уже был «чистый» Розанов, до того пребывавший в приложениях, дополнениях или комментариях к чему-либо; здесь он не только «шалил» и «дурачился», но и нарочито всех шокировал своим откровением и своими парадоксами. «Уединенное» вызвало взрыв негодования и осуждения в литературных кругах и среди читающей публики. Автора обвиняли в цинизме, имморализме, беспардонности и прочих смертных грехах. «Нельзя! Нельзя! — надрывалась Зинаида Гиппиус. — Не должно быть этой книги быть!»
Но Розанов не сдавался и продолжал гнуть свою линию: в том же 1912 году вышли «Опавшие листья» («Короб первый»), в 1915-м — «Короб второй и последний», затем — «Сахарна», «Мимолетное».
Все эти розановские книги удивляли, изумляли, обжигали и у многих вызывали чувство протеста, в них Розанов не только обнажил свою душу («моя душа сплетена из грязи, нежности и грусти»), но и высказался по всем животрепещущим проблемам России: они животрепетали тогда, они остаются злободневными и сегодня…
Россия и русский народ. Вот на выдержку только несколько «тряских фразочек» Розанова, по выражению Андрея Белого:
«Дана нам красота невиданная.
И богатство неслыханное. Это — Россия.
Но глупые дети все растратили. Это — русские».
«…Русь, сравнительно с Западом, прожила бесшумную историю: вместо крестовых походов — „хождение игумена Даниила во святой град Иерусалим“, вместо Колумба и Кортеса — странствования купца Коробейникова в Индию, вместо революций — „избрание Михаила на царство“… И все — тише, глаже. Без этих Альп… Все „Валдайские возвышенности“, едва заметные даже для усталой лошадки…»
«Все „казенное“ только формально существует. Не беда, что Россия в „фасадах“: а что фасады-то эти — пустые.
И Россия — ряд пустот.
„Пустое“ правительство — от мысли, от убеждения. Но не утешайтесь — пусты и университеты.
Пусто общество. Пустынно, воздушно.
Как старый дуб: корки, сучья, но внутри — пустоты и пустоты.
И вот в эти пустоты забираются инородцы; даже иностранцы забираются. Не в силе их натиска — дело, а в том, что нет сопротивления им».
В феврале 1918 года Розанов пишет в письме Петру Струве: «…Тайная моя мысль, — а в сущности 20-летняя мысль, что только инородцы — латыши, литовцы, финны, балты, евреи — умеют в России служить, умеют Россию любить и каким-то образом уважать, умеют привязываться к России, — опять — непостижимым образом. Верите ли, что как только отец проходит с сыном Русскую историю, толкует с ним „Русскую правду“, толкует попа Сильвестра и его „Домострой“, то уж знайте, что он или немец, или в корне рода его лежит упорядоченное немецкое начало. „Русский“ — это всегда „мечтатель“, т. е. Чичиков, или Ноздрев, или Собакевич на „общеевропейской подкладке“…»
Здесь нельзя обойти молчанием отношения Розанова к евреям, его густой антисемитизм, особенно проявившийся в «деле Бейлиса», когда, по существу, в одиночку Розанов противостоял всему демократическому лагерю. «Всю жизнь Розанова мучили евреи, — писала Зинаида Гиппиус. — Всю жизнь он ходил вокруг да около них, как завороженный, прилипал к ним — отлипал от них, притягивался — отталкивался…
Влюбленный, однажды, полушутя, в еврейку, говорил мне:
— Вот рука… а кровь у нее там какая? Вдруг — голубая? Лиловенькая, может быть? Ну, я знаю, что красная. А все-таки не такая, как у наших…»
Перед смертью Розанов покаялся за свое негативное отношение к евреям.
Когда к власти пришли большевики и закрыли газеты, в которых Розанов работал, он с семьей впал в нищету и уехал из Петрограда в подмосковный Сергиев Посад.
«Максимушка, спаси меня от последнего отчаяния, — писал Розанов Максиму Горькому в конце 1917 года. — Квартира не топлена и дров нету; дочки смотрят на последний кусочек сахару и около холодного самовара; жена лежит полупарализованная и смотрит тускло на меня. Испуганные детские глаза. И я глупый… Максимушка родной, как быть?.. Максимушка, я хватаюсь за твои руки… Я не понимаю, как жить, ни как быть. Гибну, гибну, гибну… У меня — не напечатанных на 50 000 книг… Максимушко, ну — милый, ну дорогой: воспользуйся, сделай что-то. Ну, что — я не знаю. Ведь я не талантлив. И с душой… Вот посылаю тебе отрывочек, для „Нивы“…»
В «Апокалипсисе нашего времени» (вышло 10 выпусков из 60 написанных) оценивал создавшуюся в России ситуацию после революции, как La Divina Commedia («Божественная комедия». — Итал.)
«С лязгом, скрипом, визгом опускается над Русскою Историей железный занавес.
— Представление окончилось.
Публика встала.
— Пора одевать шубы и возвращаться домой.
Оглянулись.
Но ни шуб, ни домов не оказалось».
А далее Розанов делает парадоксальный вывод: «Собственно нет никакого сомнения, что Россию убила литература».
Вы удивлены? Но вчитайтесь в аргументы Розанова: «После того, как были прокляты помещики у Гоголя и Гончарова („Обломов“), администрация у Щедрина („Господа Ташкентцы“), история („Истории одного города“), купцы у Островского, духовенство у Лескова („Мелочи архиерейской жизни“) и, наконец, самая семья у Тургенева („Отцы и дети“ Тургенева перешли в какую-то чахотку русской жизни»), русскому человеку не осталось ничего любить, кроме прибауток, песенок и сказочек. Отсюда и произошла революция. «Что же мне делать, что же мне наконец делать». «Все — вдребезги!!!»
По Розанову, Россия была в конечном счете именно такой, какой ее изображала русская литература: обреченной империей. Она и пала…
«Бегство Розанова в Сергиев Посад, — вспоминал Эрих Голлербах, — многие объясняли малодушным желанием „скрыться с горизонта“. Отчасти это верно. Василий Васильевич пережил состояние отчаянной паники. „Время такое, что надо скорей складывать чемоданы и — куда глаза глядят“, — говорил он. Но он вовсе не был трусом, о чем говорит издаваемый им самим „Апокалипсис“».
Осенью 1918 года, бродя по Москве, Розанов пришел в Кремль и заявил: «Покажите мне главу большевиков — Ленина или Троцкого. Ужасно интересуюсь. Я — монархист Розанов». Однако ни Ленина, ни Троцкого ему «не показали».
До Петербурга доходили слухи о бедствиях Розанова. «Окурки собирает… Болен… Странным стал… Жена почти не встает… И Вася, сын, умер… Не удивляло. Ничто, прежде ужасное, не удивляло: теперь казалось естественным, — записывала Зинаида Гиппиус. — У всех, кажется, все умерли; все, кажется, подбирают окурки… Удивляло, что кто-то не арестован, кто-то жив. Мысли и ощущения тогда сплетались вместе. Такое странное, непередаваемое время».
Между тем положение Розанова было отчаянным: жена была почти инвалидом, дочери не имели никаких практических навыков в добывании средств к существованию, о Василии Васильевиче и говорить не стоит: он был вне быта. Все это привело к тому, что в ноябре 1918 года у него случился инсульт, или как он продиктовал в своей «предсмертной воле»: «Я постигнут мозговым ударом». По воспоминаниям младшей дочери Надежды: «Он был весь слабый и худой до последней степени. Совсем ребенок. Капризничал, плакал, когда ему не давали папирос (боялись), умолял, кричал…»
И далее: «Ему хотелось друзей, он хотел быть окруженным ими. Тосковал, что не приходят, и боялся, когда уходят…»
В конце ноября 1918 года в петербургских кругах распространился слух о расстреле Розанова, этот слух докатился до Киева, где в газете «Русский голос» появилась гневная статья Ильи Эренбурга. Она малоизвестна, поэтому есть резон привести основные выдержки из нее:
«…Убить Розанова — как понять, как простить?.. О, если б можно было ненавидеть! Как часто и я с безмерной враждой открывал его притягивающие и страшные книги. Но его убили не как врага, не как еретика, не исступленные против его темного учения инаковерующие, а случайно, мимоходом… Что знали о нем даже вожди большевиков, даже эстет от Совдепии Луначарский? А, Розанов? Тот самый, который… „Нововременец“… Нельзя печататься с ним в одном журнале… И самые просвещенные добавляли: „Он любит парадоксы“. Разве могли они — не знающие, не любящие ни мира Господня, ни нашей России, понять его русскую, темную душу, шалую душу?…
О душе Розанова молятся, о незнаемой, но страшной и большой душе. Стройны и величавы готические соборы, и в торжественных нефах душа идет к творцу. А русские в своих церквах любят закоулки, затворы, тайники, часовенки, подземелье и кривые коридорчики. Уйдешь, и заблудишься. И душу Розанова, русскую душу, в которой сто тайников да триста приделов, напоминает Софийский собор. Темно, и вдруг ослепительным контрастом буйный луч играет на черном лике угодника, и снова ночь. Не таков ли был Розанов? Там, где зацветали Шартрский собор и Авиньонская базилика, не поймут его. Но мы, блуждая в киевской Софии или в Василии Блаженном, путаясь в заворотах, томясь тьмой и солнцем, чуя дьявольский елей в Алеше Карамазове и мученический венец в хихикающем Смердякове, — мы можем сказать о Розанове — он был наш.
Был похож Розанов на Россию. Был похож на Россию беспутную, гулящую и покаянную. На черное дело всегда готов, но и с неизменным русским „постскриптумом“ — я тоскую и каюсь, Господи, да будет воля Твоя!
Его книги порой жутко держать в комнате — не то общая баня, не то Страшный Суд, и хихикает он воистину страшно. Но все кощунство лишь от жажды крепко верить. Любовь к покою — только муки в уютном аду, все эти плевки и земные поклоны, критика христианства и записи на ночных туфлях — одна мысль, одна тоска, один бред об Отце. Наплюет на дух, но и обожествит плоть, и вот уж плоть-дух, и кто хихикал, кто молился — не поймешь.
Распад, развал, разгул духа — это Розанов, но это и Россия. В последние месяцы, в томлении и в нужде, всеми покинутый Розанов глядел на смерть отчизны. И в последний раз „зловеще хихикнул“ — „как пьяная баба, оступилась и померла Россия“. Смешно? А все-таки сие апокалипсис…»
Нет, Розанова не расстреляли, его убила… Россия. Развалился привычный мир, и философ оказался в муке и боли при крайней степени нужды. Ему пытались помочь (Горький прислал деньги), но было уже поздно.
17 января 1919 года появилось на свет «Письмо к друзьям». Вот его начало:
«Благородного Сашу Бенуа, скромного и прекрасного Пешкова, любимого Ремизова и его Серафиму Павловну, любимого Бориса Садовского, всех литераторов без исключения, Мережковского и Зину Мережковскую — ни на кого ни за что не имею дурного, всех только уважаю и чту.
Все огорчения, все ссоры считаю чепухой и вздором…»
И еще несколько прощальных писем надиктовывает Розанов, «Евреям»: «Благородную и великую еврейскую нацию я мысленно благословляю и прошу у нее прощения за все мои прегрешения и никогда ничего дурного ей не желаю и считаю первой в свете по назначению…»
23 января (5 февраля) 1919 года. Отец Павел Флоренский прочитал отходную, и Розанов тихо, незаметно умер. Он немного не дожил до 63 лет. Он умирал в холоде, его накрыли всеми шалями и шубами, а на голову надели нелепый розовый капор — последняя усмешка Рока. Зато гроб «попался ему изысканный: выкрашенный фиолетово-коричневой краской, вроде иконной чернели, как бывает иногда очень дорогой шоколад, с фиолетиной, и слегка украшенный крестиком из серебряного галуна…» (из письма Павла Флоренского — Михаилу Нестерову).
Похоронили Розанова без официальных речей, он этого очень не хотел: «Если кто будет говорить мне похвальное слово „над раскрытой могилою“, то я вылезу из гроба и дам пощечину». Его могила оказалась рядом с могилой Константина Леонтьева. Но ни та, ни другая не сохранились: в 20-е годы Черниговское кладбище было разорено.
В заключение краткого рассказа о Василии Розанове можно привести различные цитаты — о революции, о социализме, — но, пожалуй, более логично будет — о литературе. «Литературу я чувствую, как штаны», — эпатировал публику Розанов. Для него не было авторитетов, которым бы он не перекусывал горло.
«Чехов? — ничего особенного… Что Чехов? Глядел на жизнь, что видел, то и записал. Очень милый писатель, понравился, стал читать. Но он холодный, и ничего особенного. Успех его понимаю, только не одобряю».
Более 20 лет Розанов ругал Гоголя и даже презрительно называл Гоголишко. «Именно с Гоголя, — писал Розанов, — начинается в нашем обществе потеря чувства действительности, равно как от него же идет начало отвращения к ней».
В статье «Возле русской идеи» (1911) Розанов говорит, что все русские писатели — Тургенев, Толстой, Достоевский, Гончаров «возводят в перл нравственной красоты и духовного изящества слабого человека, безвольного человека, в сущности — ничтожного человека, еще страшнее и глубже — безжизненного человека, который не умеет ни бороться, ни жить, ни созидать, ни вообще что-либо делать: а, вот видите-ли, — великолепно умирает и терпит!!! Это такая ужасная психология!.. И, что страшно, она так правдива и из „натуры“, что голова кружится. От Татьяны, сказавшей:
- Но я другому отдана
- И буду век ему верна —
от этого ужасного слова, в сущности, всемирного слова всякого рабства, всякого „оруженосца“, „пажа“, отнюдь не рыцаря и не воина, не самостоятельного „я“, — через „бедных людей“ Достоевского (какой ужасный смысл в самом имени: Макар Девушкин) и его же „честного вора“ (аншлаг для всей Руси), через Платона Каратаева, через безвольных героев Тургенева, — проходит один стон вековечного раба: о том, откуда бы ему взять „господина“, взять „господство“ над собою… Это еще от новгородской Руси: „приходите володеть и княжити над нами…“
Инвективы Розанова понятны. А каковы рецепты? И что он сам? Вот характерный для него парадокс:
„Что делать?“ — спросил нетерпеливый петербургский юноша.
— Как что делать: если это лето — чистить ягоды и варить варенье; если зима — пить с этим вареньем чай».
«Делать нужно то, что было делаемо вчера».
«Мысль, что человек в самом деле делает историю, — вот самая яркая нелепость; он в ней живет, блуждает без всякого ведения — для чего, к чему».
И вообще — «душа озябла».
Это — Василий Розанов.
СОЛОВЬЕВ
Владимир Сергеевич
16(28).I.1853, Москва — 31.VII(13.VIII).1900, село Узкое под Москвой
Владимира Соловьева можно числить по двум разрядам: как философа и как поэта. Философ-поэт Серебряного века, оказавший огромное влияние на Блока, Белого, Брюсова, Вячеслава Иванова и других поэтов. Предтеча символизма. Именно Владимиру Соловьеву Россия обязана философским ренессансом в начале XX века. Он — философ масштаба Канта и Гегеля.
Можно продолжить панегирический ряд и дальше, но мы поступим иначе: сделаем смычку с предыдущим философом — с Розановым. Любопытно, как они уживались вместе? Эрих Голлербах в исследовании «Владимир Соловьев и Розанов» (1922) пишет именно об этом:
«…По дружному суждению представителей университетской философии — Розанов не философ, а дилетант философской мысли. В то время как университетски-образованному человеку совершенно „неприлично“ не знать Соловьева, Розанова знать не обязательно. Мы знаем, что мировоззрение Соловьева, при всей недоговоренности отдельных мыслей философа, представляет собою более или менее фактическую систему. В ней есть нечто определенное, устойчивое, статическое. Розанов, напротив, никакой системы не создал: он весь в непостоянстве, в догадках, в противоречиях. И в этом причина необычной динамичности его мысли: с ним хочется спорить, даже тогда, когда соглашаешься с ним. Он постоянно тревожит, дразнит, возбуждает вашу мысль».
Эта разница между Владимиром Соловьевым и Розановым была, по Голлербаху, причиной того, что «Розанов был Соловьеву интересен. Соловьев Розанову — едва ли».
Но тем не менее Розанов часто писал о Владимире Соловьеве, при этом стараясь его уколоть и всячески принизить: «танцор из кордебалета», «тапер на разбитых клавишах», «блудница, бесстыдно потрясающая богословием, „тать“, прокравшийся в церковь», «святотатец», и т. д. Интересно, что в ответ Соловьев не обижался на Розанова, а в письмах писал ему всегда «дорогой» и подписывался — «искренно Вас любящий». Что касается критических оценок, то Соловьев опровергал их всегда по существу, не оставляя и камешка от наветов Розанова.
Впоследствии Розанов глубоко сожалел о своем неправильном отношении к Соловьеву. В 1905 году, спустя 5 лет после кончины философа, он писал: «Теперь, когда я вынул тоненькую пачку телеграмм и писем Вл. Соловьева и перечел их — слезы наполнили мои глаза, и — безмерное сожаление. Верно мудры мы будем только после смерти, а при жизни удел наш — сплошная глупость, ошибки, непонимание, мелочность души или позорное легкомыслие. Чем я воспользовался от Соловьева, его знаний, его души? Ничем. Просто — прошел мимо, совершенно тупо, как мимо верстового столба. Отчего я с ним не заговорил „по душам“, хотя так много думал о нем до встречи, после встречи и после смерти. Думал о нем, когда не видел; а когда видел — совершенно ничего не думал и просто ходил мимо, погруженный во всякую житейскую дребедень…»
Из всех поздних характеристик Владимира Соловьева наиболее точное и яркое (так считал Алексей Лосев) принадлежит Розанову. В статье «На панихиде по Вл. Соловьеву» он уловил постоянную неустроенность, бездомность Соловьева, его вечные искания, которые ничем не кончались. «Вот уж был странник, в умственном, идейном и даже в чисто бытовом, так сказать, жилищном отношении! — восклицал Розанов. — Сын профессора, с большими правами на кафедру, он не получил „по независящим обстоятельствам“ этой кафедры; внук священника, посвятивший памяти деда „Оправдание добра“, он был крайне стеснен в своих желаниях печататься в академических духовных журналах; журналист, он нес религиозные и церковные идеи, едва ли встречая для них распахнутые двери в редакциях. Он пробирался в щелочку, садился пугливым гостем; готовым вот-вот вспорхнуть и улететь со своим двусмысленным смехом. Какой странный у него был этот смех, шумный и, может быть, маскирующий постоянную грусть…»
О противоречивости Владимира Соловьева писал и Василий Величко в своей работе «Владимир Соловьев. Жизнь и творения» (1902): в Соловьеве «уживались рядом и порою прерывали друг друга два совершенно противоположных строя мысли… Первый можно сравнить с вдохновенным пением священных гимнов… Второй — с ехидным смехом, в котором слышались иногда недобрые нотки, точно второй человек смеется над первым…».
Разве не смеялся он над собою, сочиняя ерническую эпитафию самому себе:
- Владимир Соловьев
- Лежит на месте этом.
- Был прежде философ,
- А после стал поэтом.
- Он душу потерял,
- Не говоря о теле;
- И душу дьявол взял,
- Собаки тело съели.
- Прохожий! научись
- Из этого примера,
- Сколь пагубна любовь
- И сколь полезна вера.
Но эпитафия — это потом; а сначала все же — рождение. Владимир Соловьев родился в семье знаменитого историка Сергея Соловьева, в которой не один Владимир был пишущим; брат Всеволод был романистом, сестра Поликсена — поэтессой (писала под псевдонимом Allegro). Племянник Владимира Соловьева — Сергей Соловьев тоже вступил на поэтическую стезю.
Владимир Соловьев родился семимесячным, чем впоследствии объяснял свою повышенную впечатлительность. «Начитавшись Житий Святых, мальчик воображал себя аскетом в пустыне, ночью сбрасывал с себя одеяло и мерз „во славу Божию“. Фантазия развивалась у него очень рано: он разыгрывал все, что ему читали: то он был русским крестьянином и погонял стул, напевая „Ну, тащися, сивка“, то испанским идальго, декламировавшим кастильские романсы» (В. Величко).
В юные годы ничто не выдавало во Владимире Соловьеве будущего религиозного мыслителя, «эсхатологического мистика». «Это был типичный нигилист 60-х годов, — свидетельствовал его приятель Лопатин. — …Еще в эпоху своего студенчества отличный знаток Дарвина, он всей душой верил, что теорией этого знаменитого натуралиста… положен конец… всякой теологии… Его общественные идеалы в то время носили резко социалистическую, даже коммунистическую окраску».
Сначала Владимир Соловьев учился на историко-филологическом факультете Московского университета, потом перешел на физико-математический. В момент окончания университета в 1873 году Соловьев поменял свои взгляды, отвернулся от Дарвина и повернулся к Гегелю, который стал его «первой любовью», второй — Шопенгауэр, а третья влюбленность была в Шеллинга. Получив университетский диплом, Владимир Соловьев поступил вольным слушателем в Духовную академию. Параллельно читал лекции в университете и на Высших женских курсах. К этому времени проявился и поэтический дар Владимира Соловьева.
В 1875–1876 годах состоялась первая поездка за рубеж. В поэме «Три свидания» (1898) он писал:
- Моей мечтой был Музей Британский,
- И он не обманул моей мечты.
Около четырех месяцев Владимир Соловьев занимался в Лондонской библиотеке, а затем отправился в Египет и там, в пустыне близ Каира, было ему видение. Явилась перед ним София, «Дева Радужных Ворот», Вечная Женственность, лучезарная подруга, о чем он поведал в своих стихах:
- Вся в лазури сегодня явилась
- Предо мною царица моя, —
- Сердце сладким восторгом забилось,
- И в лучах восходящего дня
- Тихим светом душа засветилась,
- А вдали, догорая, дымилось
- Злое пламя земного огня.
То ли это был чисто визионерский акт, то ли галлюцинация, то ли подлинное видение, а еще не надо забывать, что Соловьев увлекался спиритизмом и, соответственно, был готов ко всякого рода явлениям, он поверил в Божественную премудрость — Софию, и этот небесный идеал, эту Вечную Женственность воспевал всю жизнь. Любовь и мудрость как антитеза ала.
- Смерть и Время царят на земле, —
- Ты владыками их не зови;
- Все, кружась, исчезает во мгле,
- Неподвижно лишь Солнце любви.
Попутно скажем и о земной любви Владимира Соловьева. Она была весьма странной, наверное, в силу того, что у Соловьева было весьма слабо выражено мужское начало (или скажем по-другому: не буйствовала плоть). Отсюда его вялые любовные романы с Екатериной Романовой, с Софьей Хитрово и с родственницей убийцы поэта — Мартыновой. Можно вспомнить соловьевские стихи, посвященные любимым женщинам: «Газели пустынь ты стройнее и краше…», «Три дня тебя не видел, ангел мой…», «Тесно сердце — я вижу — твое для меня…» и т. д. Чувство бурлило только в стихах. И ничего другого. Весь Соловьев был растворен в творчестве, сосредоточен в мыслях. Он — популярнейший лектор. Его лекции «Чтения о богочеловечестве» имели шумный успех, вся образованная столица съезжалась «на Соловьева» (среди слушателей были и Достоевский, и Толстой). Чрезвычайно увлекалось Соловьевым студенчество, молодые писатели, курсистки создавали соловьевские кружки. Даже гимназистки, если им задавали сочинения на вольную тему, любили поразмышлять над Соловьевым.
Что привлекало в Соловьеве? Во-первых, его триада — добро, истина и красота. Во-вторых, он не отождествлял нравственность с религией. Нравственность, по Соловьеву, должна держаться на трех китах: 1. Стыд, совесть, страх Божий; 2. Сочувствие, жалость, милосердие; 3. Религиозное чувство, путь благочестия, благоговения. В-третьих, одинаково критически смотрел философ на христианство, как на западное, так и на восточное, признавая одновременно и заслуги каждой религии. Запад выпестовал идею индивидуальности, воплотившуюся в образе «богочеловека». Восток создал идею «человекобога», олицетворение универсализма. И Соловьев предлагал свести воедино, синтезировать оба христианских принципа. Вчерашний славянофил, Соловьев убеждал своих соотечественников в благости латинства, а католикам доказывал правоту православия.
Владимир Соловьев добивался объединения православной и католической церквей. Едет в Европу. Издает в Париже на французском труд «Россия и вселенская церковь». Но его не понимают и не хотят понять. Ортодоксальные паписты, как и православные иерархи, видят в Соловьеве только еретика. Так же считал, увы, и Лев Гумилев. Сам Соловьев понимал всю утопичность своих взглядов, что нашло отражение в его стихах: его теория, его дитя —
- В стране морозных вьюг,
- седых туманов
- Явилась ты на свет,
- И, бедное дитя,
- меж двух враждебных станов
- тебе приюта нет.
Возможно, вопрос объединения церквей и религий — вопрос весьма далекого будущего, ведь сам Владимир Соловьев утверждал: «Исторический процесс есть долгий и трудный переход от зверочеловечества к богочеловечеству…»
Не верил Соловьев в особое предназначение великих империй:
- Судьбою павшей Византии
- Мы научиться не хотим,
- И все твердят льстецы России:
- Ты — третий Рим, ты — третий Рим.
- Пускай так!
- Орудий Божьей кары
- Запас еще не источен.
- Готовит новые удары
- Рой пробудившихся племен.
- . . . . . . . .
- Стремятся в трепете и страхе,
- Кто мог завет любви забыть…
- И третий Рим лежит во прахе,
- А уж четвертому не быть.
Так писал Владимир Соловьев в стихотворении «Панмонголизм» (1894). И писал пророчески: пала царская империя, не стала «четвертым Римом» и советская. И суровое предупреждение:
- О Русь! Забудь былую славу:
- Орел двуглавый сокрушен,
- И желтым детям на забаву
- Даны клочки твоих знамен.
В своих стихах Владимир Соловьев не избегал острых политических тем. Его поэзия была разяще точна:
- Благонамеренный
- И грустный анекдот!
- Какие мерины
- Пасут теперь народ!
Написана эта эпиграмма 1 января 1885 года. А что, спустя 100 и более лет, изменились мерины? На мой взгляд, все те же…
Стихов Соловьева приводить дальше не будем. А философских взглядов накоротке не передашь, еще раз лишь отметим, что главный его труд — «Оправдание добра». В советское время начисто отвергали Соловьева, считая его «реакционным философом-мистиком, богословом, поэтом-символистом, стремившимся соединить философию с религиозным откровением» (Энциклопедический словарь, 1955). И, разумеется, никаких книг его не издавали, в то время как на Западе — в Брюсселе в 1977 году вышло собрание сочинений Владимира Соловьева в 16-ти томах, причем на русском языке.
А что у нас? Алексей Лосев написал книгу «Соловьев и его время», которой он отдал много лет своей жизни. Ее издали и последовал мгновенный разнос: приказ Госкомиздата № 254 от 16 июня 1983 года «О грубой ошибке издательства „Мысль“». За спиной этого постановления стоял идеолог страны Михаил Суслов. И снова нет Соловьева, как не было. Лишь в начале 2000 года вышел из печати первый том академического полного собрания сочинений философа. Предполагается издать 15 томов плюс 5 томов писем. Как видим, наследство немалое…
А теперь вернемся непосредственно к Владимиру Соловьеву. Это был действительно престранный человек. Не любил изобразительных искусств, музыки и театра, лишь страстно любил поэзию. Был равнодушен к еде. Но любил сладкое — шоколад, фрукты, ягоды. Был бессребреником. Получая подчас хорошие деньги от издания своих произведений, он оставался вечно без гроша, так как откликался на всякую просьбу о помощи. Его отличали две черты — безалаберность и странничество. Когда жил в Петербурге, то в его комнате мебель состояла из кухонного стола, двух табуреток и складной кровати. Пить чай ездил на Николаевский вокзал. Такого человека в семье и представить невозможно — все верно: ни семьи, ни детей. Зато душа грезила о всем человечестве, о его духовном и материальном освобождении. «У него было одно из тех лиц, мимо которых нельзя было пройти, не обратив на него внимания; останавливали на себе глубокие глаза его и длинные волнистые волосы, обрамлявшие высокий лоб», — вспоминал его товарищ по гимназии и друг последующих лет Цертелев.
Владимиру Соловьеву не сиделось на месте, он вел неустроенную жизнь странника. Охотно гостил у друзей, в частности в имении Софьи Хитрово «Пустеньке». И напряженно работал: поэзия, переводы, философские сочинения и даже шуточные пьесы — он был еще и ироник.
Александр Амфитеатров оставил воспоминания о своих встречах с Владимиром Соловьевым и в них проводил сравнения со Львом Толстым: «Он больше аристократ-ученый, тогда как Толстой больше демократический самоучка. Громадная, почти страшная энциклопедическая эрудиция Владимира Соловьева и привычка его к строгому научному тону резко подчеркивали эту разницу. В Соловьеве много Фауста, уклонявшегося из толпы…»
И далее Амфитеатров продолжает свою мысль:
«Фаусты поэтичны и загадочны. Поэтичен и загадочен для общества был и Соловьев. Трудно отрицать в нем некоторую мистическую двойственность духа и быта.
— Соловьев великий постник и трезвенник! — скажет один в обществе. А другой сейчас же возражает:
— Помилуйте, мы ужинали у Н., — и он отлично пил красное вино.
— Соловьев аскет и девственник.
— Однако иной раз он рассказывает препикантные истории и анекдоты.
— Удивил нас Соловьев, — говорит мне один московский литератор. — Разговорился вчера. Ума — палата. Блеск невероятный. Сам — апостол апостолом. Лицо вдохновенное, глаза сияют. Очаровал нас всех… Но… доказывал он, положим, что дважды два — четыре. Доказал. Поверили в него, как в Бога. И вдруг — словно что-то еще защелкнуло. Стал угрюмый, насмешливый, глаза унылые, злые. — А знаете ли, — говорит, — ведь дважды-то два не четыре, а пять? — Бог с вами, Владимир Сергеевич! Да вы же сами нам сейчас доказали… — Мало ли что „доказал“. Вы послушайте-ка… — И опять пошел говорить. Режет contra, как только что резал pro, — пожалуй, еще талантливее. Чувствуем, что это шутка, а жутко как-то. Логика острая, резкая, неумолимая, сарказмы страшные… Умолк, — мы только руками развели: видим действительно дважды два — не четыре, а пять. А он — то смеется, то словно его сейчас живым в гроб класть станут.
Соловьев был несомненно самым сильным диалектическим умом современной русской литературы. В споре он был непобедим и любил гимнастику спора; но выходки, подобные только что рассказанной, кроют свои причины глубже, чем только в пристрастии к гимнастике. Этому Фаусту послан был в плоть Мефистофель, с которым он непрестанно и неутомимо боролся. Соловьев верил, что этот дух сомнения, вносящий раздвоение в его натуру — самый настоящий бес из пекла, навязанный ему в искушение и погибель. Известно, что он был галлюциант и духовидец. Про преследования его бесами он рассказывал своим друзьям ужасные вещи, — совсем не рисуясь, а дрожа, обливаясь холодным потом, так тяжко приходилась ему иной раз эта борьба с призраками настроенного воображения…»
Не знаю, как вам, уважаемый читатель, а мне кажется, что судьба Владимира Соловьева сродни Гоголю: те же внутренние разногласия, противоречия, борьба, визионерство и страх. Ну, и, разумеется, такие люди долго не живут. Гоголь немного не дотянул до 43 лет. Владимир Соловьев прожил 47 лет.
В середине июля 1900 года Владимира Соловьева привезли в дом его друга князя Сергея Трубецкого. Двоюродная сестра жены князя Аполлинария Панютина оставила воспоминания о последних днях философа и поэта: «…Но всем нам ясно становилось, что болезнь его не простая мигрень, которой он иногда страдал, а нечто весьма серьезное…»
Врачей вызвать не удалось (отпускное время), и Владимир Соловьев «все лежал на диване, метался и жестоко страдал… бредил на греческом, латинском, французском и итальянском языках… но чаще всего его бред останавливался на евреях…».
В лекции о Владимире Соловьеве Александр Мень говорил: «За несколько лет до смерти он причащается у католического священника. Этим самым он хотел как-то показать, что он лично уже не признает разделения Церквей… Перед смертью Соловьев причастился, исповедовался. Умер в сознании. Он читал псалмы на еврейском языке, потому что любил всегда к своим молитвам прибавлять язык Христа, что это звучало как связь с христианской древней традицией…»
Доктора уже были бессильны. 30 июля началась агония, длилась почти сутки, и 31 к вечеру его не стало. Врачи нашли полнейшее истощение, сильнейший склероз артерий, цирроз печени и уремию. Целый прощальный букет. Чтобы не заканчивать на грустной ноте, приведем автопародию поэта-философа, написанную в апреле 1895 года:
- Нескладных виршей полк за полком
- Нам шлет Владимир Соловьев,
- И зашибает тихомолком
- Он гонорар набором слов.
- Вотще! Не проживешь стихами,
- Хоть как свинья будь плодовит!
- Торгуй, несчастный, сапогами
- И не мечтай, что ты пиит.
- Нам все равно — зима иль лето, —
- Но не стыдись седых волос,
- Не жди от старости расцвета
- И петь не смей, коль безголос!
А если серьезно, то, исходя из учения Соловьева, необходим еще один регулятор поведения — чувство стыда. «Я стыжусь, следовательно, существую», — говорил Владимир Соловьев, перефразируя Декарта. «Долой стыд» равнозначно «долой человечность». Стыд удерживает человека на стезе умеренности и порядочности.
Только вот вопросец в духе Розанова: а кто нынче стыдится? Кто? Даже фонарный столб потерял всякий стыд… Владимир Сергеевич, где вы?..
СТЕПУН
Федор Августович
6(18).II.1884, Москва — 23.II.1965, Мюнхен
Как странно (о, эти совпадения!), но следующий за Владимиром Соловьевым философ Федор Степун защитил в 1910 году в университете Гейдельберга докторскую диссертацию по историографии Владимира Соловьева. Пошел по его стопам? Не совсем. Пошел своей дорогой, хотя отсвет соловьевских идей долго еще поблескивал в творчестве Степуна.
Степун — религиозный философ, историософ, культуролог, социолог, теоретик искусства, писатель и публицист. В его жилах текла литовская, немецкая, французская, шведская и финская кровь, но этот этнический коктейль не мешал его «русскости», напротив, добавлял ей новые краски и оттенки. Детство будущего философа прошло в Калуге. После окончания московского реального училища Св. Михаила Степун оказался на распутье: он разрывался между философией и художественным творчеством. И все же философия взяла верх и Степун в течение 7 лет учился в знаменитом Гейдельбергском университете, где и защитил упомянутую выше докторскую диссертацию. В 1910 году в философском журнале «Логос» появилась статья Степуна «Трагедия творчества», которая вошла в сборник его основных философских работ «Жизнь и творчество» (Берлин, 1923).
По возвращении из Германии Степун принимает деятельное участие в «Логосе», ведет секцию по эстетике при московском издательстве «Мусагет» и становится членом «Бюро провинциальных лекторов», в качестве которого объездил почти всю Россию. «Как свободно и легко дышала в то время Россия, наслаждаясь своей медленно крепнущей свободой, как быстро росла и хорошела», — свидетельствовал Степун о своих разъездах.
Затем разразилась Первая мировая война, в которой принял участие Федор Степун, был тяжело ранен, но снова вернулся на фронт. Об этих событиях он написал философско-автобиографический роман «Записки прапорщика-артиллериста» (1918). На короткое время Степун вышел на авансцену политики, когда был избран представителем во Всероссийский Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, а затем назначен начальником политического управления военного Министерства Бориса Савинкова. Но это был всего лишь эпизод.
После Октября Степуна пытались призвать уже в Красную армию, но отстоял нарком Луначарский и по его ходатайству Степуна назначили заведующим репертуара и помощником режиссера в «Показательный театр Революции», из которого он вскоре был уволен за «явное непонимание сущности пролетарской культуры». Степун стоял твердо на том, что никакой пролетарской культуры «и быть не может; культура требует языка, а у пролетариата, как и у каждого класса, есть только терминология».
Оставаясь в Москве, где «сердце каждого человека билось не в груди, а в холодной руке невидимого чекиста», Степун читал лекции в ряде театральных студий, преподавал в Вольной Академии духовной культуры, составил сборник «Освальд Шпенглер и Закат Европы», в котором кроме Степуна приняли участие Бердяев и другие философы. Сборник попался на глаза Ленину, усмотревшему в нем «литературное прикрытие белогвардейской организации». Последовал мгновенный арест. На вопрос: «Каково ваше отношение к советской власти?» Степун ответил: «Как гражданин Советской федеративной республики, я отношусь к правительству и всем партиям безоговорочно лояльно; как философ и писатель, считаю, однако, большевизм тяжелым заболеванием народной души и не могу не желать ей скорого выздоровления».
За арестом последовала высылка из новой России. «Разрешалось взять: одно зимнее и одно летнее пальто, один костюм и по две штуки всякого белья. Вот и все. Даже нательные кресты надо было снимать с шеи…» (Ф. Степун. «Бывшее и несбывшееся»).
В ноябре 1922 года «в ветреный, сырой и мозглый день» Степун с другими учеными и общественными деятелями был отправлен в эмиграцию (кто на поезде, кто на пароходе). Первое пристанище — Берлин. И первая работа — в эмигрантском журнале «Современные записки», где он руководил литературно-художественным отделом. И еще один журнал — «Новый Град». Как христианский демократ, Степун в 20 — 30-е годы сосредоточился на проблеме исторической судьбы России и осмыслении феноменов революции и большевизма.
«Читая любую русскую историю, — писал Степун, — получаешь впечатление, что русский народ не столько завоевывал землю, сколько без боя забирал ее в плен. Эта военноплененная земля работала на русский народ, работала без того, чтобы он сам на ней по-настоящему работал…» Степун в своих статьях постоянно подчеркивал сложившийся в России стиль «бездуховного отношения к труду», а отсюда и «культурно-хозяйственная убогость» русской народной жизни. Марксизм, появившийся в России, привел страну к трагедии, так как произошла роковая встреча «просвещенско-рационалистической идеологии Карла Маркса с темной маетой русской народной души». Большевизм, по Степуну, явился результатом «ложного направления религиозной энергии русского народа, псевдоморфоза русской потребности верить», верить в чудо, не прилагая к этому никаких усилий. А в итоге — «задний ход» истории.
В статье «Религиозный смысл революции» Степун писал, что после свершения революции в России стали править бал «профессионалы революционного мастерства, самолюбивые спортсмены террористической борьбы, самозванные устроители народного счастья… все те заносчивые хирурги социально-политического дела, для которых страсть к операциям — все, а любовь к пациенту — ничто».
«Революция открывает простор метафизической тоске человека, погруженного в пучину обыденности, возносит низменное, сжигает возвышенное… — констатировал Степун. — Начинается погоня за химерами… Мечты о прекрасной даме разрушают семьи, прекрасные дамы оказываются проститутками, проститутки становятся уездными комиссаршами…» Далее Степун винит в происшедшем и интеллигенцию: «Дух разрушения осилил наше творчество, потому что наше творчество не было в достаточной степени духовно напряжено… корень революции… в обессилении национального творчества».
Важную долю вины за революцию Степун возлагал и на православную Церковь, которая оказалась глуха к земному устроению, общественно-политическим свободам, не подготовлена к расколу единого национального сознания.
Из творческого наследия Степуна упомянем религиозно-философский роман в письмах «Николай Переслегин» (Париж, 1929), мемуары «Бывшее и несбывшееся» (Нью-Йорк, 1956). В 1937 году Степуну пришлось худо: он был уволен из дрезденского Высшего технического училища без права печатного и устного выступления по причине, как иронически выразился сам Степун, «неисправимой русскости, жидофильства и склонности к религиозному мракобесию». Ни советскому, ни германскому тоталитарным государствам Степун был не нужен. Тоталитаризм и свободная мысль взаимно исключают друг друга.
В результате американской бомбардировки Дрездена в 1945 году Степун чудом остался жив, но потерял дом и все свое имущество. Перебрался в Мюнхен, где возглавил созданную специально для него кафедру истории русской культуры в Мюнхенском университете Людвига Максимилиана. В нем Степун преподавал до 1960 года и был одним из самых блестящих лекторов университета. К 80-летию Степуна правительство ФРГ наградило его высшим знаком отличия. Через год Федор Августович Степун скоропостижно скончался, возвращаясь с одной из своих публичных лекций. Можно считать это смертью «на боевом посту».
В статье, посвященной памяти Степуна, Штаммлер нарисовал такой внешний и психологический портрет: «Степун меня поразил: в нем было что-то львиное, при этом благосклонное, приветливое, открытое; глубокая серьезность соседствовала с милой шутливостью, глаз иногда прищуривался, лукаво подмигивал. Это был с головы до пят русский барин, но вместе с тем несомненно и ученый, одновременно и человек с некоторыми чертами театральности, — светский человек, офицер и хороший наездник».
Это взгляд с немецкой стороны, а вот взгляд своего «брата» эмигранта. Публицист Марк Вишняк отмечал: «Элемент игры и театра, импровизации, вдохновения и выдумки чувствовался во всем, о чем бы он ни говорил или писал».
Русским и немецким Степун владел с одинаковой артистической легкостью и изяществом, недаром он считался одним из лучших ораторов Германии. Но советской России такие ораторы были не только не нужны, они были опасны, ведь Степун заявлял: «Самозванные устроители народного счастья и являются в самом точном и ответственном смысле преступным элементом в революции».
И в заключение отрывок из письма Федора Степуна к Ольге Шор: «Думаю, что Россия со временем займет ведущее положение в мире. Считаю, что структурно и типологически Италия, Германия и Россия составляют единый фронт. Трагедия мира в том, что старая истина представлена сейчас исключительно мещанами, а новая — демонами, бесами и чертями. Думаю, что главное сейчас — религиозность, трезвенность и деловитость. Зло сейчас не столько во зле, сколько в утопизме… Наше время требует идей-сил, а не только идей-истин…» (8 января 1934).
СТРУВЕ
Петр Бернгардович
26.1(7.11).1870, Пермь — 26.11.1944, Париж
Чистая гипотетичность: что было бы с Россией, если бы ее повели вместо Ленина такие люди, как Плеханов, Мартов или Струве? Ответить нелегко, но ясно одно, что оппоненты Ленина были прежде всего гуманистами, а уж потом революционерами. Что касается Струве, его революционность была как кратковременная вспышка. Да и вообще, кем все-таки был Петр Бернгардович Струве?
Он пережил несколько фазисов: от «красного» Струве до «белого» Струве. Был он и легальным марксистом, и оппозиционером, и кадетом, и активным участником Белого движения, и государственником, и умеренным консерватором. Сам себя он причислял к течению либерального консерватизма, в которое входили и Пушкин, и Вяземский, и Тургенев…
Хорошо знавшая Струве, Ариадна Тыркова-Вильямс писала о нем, как о человеке, «для которого не было окончательных, застывших форм. Он все проверял, переворачивал, перекапывал. Начав с марксизма и материализма, он через радикализм и идеализм дошел до православия и монархизма. Немало образованных людей его поколения прошли через этот путь. Но Струве шел впереди. Он первый находил оправдание, объяснение, выражение для еще не оформленных изменений в общественных настроениях; он облекал их в слова, часто очень убедительные и острые, как лозунги».
Князь Святополк-Мирский назвал Струве мастером малой формы. И действительно, его короткие статьи «томов премногих тяжелей».
Ленин считал Струве ренегатом марксизма. Крупская подпела Ленину, заявив, что Струве оказался «чужим и враждебным партии человеком». В свою очередь, Струве сделал признание о Ленине, что «этот человек по своему складу ума совершенно мне чужд». «В сущности в лице Ульянова-Ленина и моем, — писал Струве, — столкнулись две непримиримые концепции — непримиримые как морально, так и политически и социально». Для Струве террор был неприемлем, для Ленина — обязательный инструмент захвата и удержания власти. Струве постоянно спорил с Лениным. Современники вспоминают, что, когда Струве писал передовые статьи для эмигрантской газеты «Возрождение», он всегда говорил, поблескивая глазами: «Опять поспорю с Лениным». Большевизм Струве характеризовал как «смесь интернационалистского яда со старой русской сивухой».
Однако без краткой биографии не обойтись и поэтому надо обязательно заметить, что Струве — старинный протестантский род из Шлезвиг-Гольштейна. Первым прославил его математик Якоб Струве, вторым — Вильгельм Струве, который в молодые годы оказался в России, где основал Пулковскую обсерваторию, был ее директором и приобрел славу одного из лучших астрономов Европы. Он был дедом Петра Струве, а отец, Бернгард Струве, губернаторствовал в Перми. Там и родился Петр шестым по счету сыном.
Образование Струве получил и в России, и в Германии. В Петербургском университете учился на естественном и юридическом факультетах. В 1890-е годы Струве — один из лидеров русского марксизма, организатор марксистских кружков и различных печатных изданий. В 1899 году под редакцией Струве выходит первый том «Капитала», и тогда же он пишет «Манифест российской социал-демократической партии».
В декабре 1894 года Струве знакомится с Лениным и вскоре определяет его как «думающую гильотину», как злобного и жестокого политика. В 1894 году вышла первая книга Струве «Критические заметки к вопросу об экономическом развитии России», которая заканчивалась нашумевшей фразой: «Признаем же нашу некультурность и пойдем на выучку к капитализму». Ровно через сто лет послушались Петра Бернгардовича и неохотно, но все же стали учиться у капиталистов.
«Критические заметки» Струве открыли эпоху легальной борьбы русских марксистов с народничеством и стали первым систематическим изложением в русской легальной печати основ марксизма. Петр Струве — страстный политический борец, но борьбу предпочитал в основном вести через печатное слово. На протяжении почти 40 лет (1897–1934) он редактировал различные издания: «Новое слово», «Начало», «Освобождение», «Полярная звезда», «Дума», «Культура и свобода», «Русская мысль», «Русская свобода» и эмиграционные — «Возрождение», возрожденная «Русская мысль», «Россия и славянство» и т. д.
Петр Струве постоянно учился, в 1908 году он сдал магистерский экзамен в Московском университете, в 1917 году в Киеве в университете Св. Владимира защитил докторскую диссертацию «Хозяйство и цена», летом 1917 года стал академиком Российской академии наук по отделу политэкономии, удостоился степени почетного доктора Кембриджского университета. Струве — самый крупный русский общественно-политический мыслитель. В сборнике «Вехи» помещает статью «Интеллигенция и революция», в которой осуждает «безрелигиозное отщепенство интеллигенции от государства».
И еще несколько эпизодов из жизни Петра Струве: в марте 1901 года он был среди протестующей петербургской интеллигенции, выступавшей против правительственных репрессий в отношении левого студенчества, и был избит казацкой нагайкой. Был депутатом второй Думы. Безоговорочно встал на сторону белых и вел кампанию по сбору средств в поддержку белых армий. Был близок с Деникиным и Врангелем. Ну, и, конечно, эмиграция. Жил в Праге, Берлине, Варшаве, Белграде. Входил во множество советов и объединений. Участвовал в съездах. Преподавал, читал лекции, писал, причем публицистику перемежал литературоведением (большой цикл работ о Пушкине). Придерживался идеи «революционной борьбы против коммунистической власти», выступал за интервенцию в СССР.
Анализируя историю России, Струве пришел к выводу, что «подготавливалась и творилась революция с двух концов — исторической монархией с ее ревнивым недопущением культурных и образованных элементов к властному участию в устроении государства, и интеллигенцией страны с ее близорукой борьбой против государства».
В дальнейшем Струве отошел от политической деятельности и сосредоточился на систематическом изложении своих взглядов, но рукопись книги «Система критической философии» погибла в годы войны. В мае 1941 года Струве был арестован гестапо, — и, ирония судьбы! — как «близкий к Ленину человек». В 1943 году Струве переезжает в Париж к сыну Глебу и занимается научной работой до самой смерти.
Петр Струве прожил долгую и яркую жизнь, но до сих пор не получил должного признания в России, а на Западе он весьма уважаемая и чтимая фигура. Американский публицист и историк Ричард Пайпс выпустил двухтомную биографию Струве. В ней отмечается, что на молодого Струве Иван Аксаков оказал влияние значительно большее, чем Герцен. Именно Иван Аксаков — это ключ к политической мысли Струве. Пайпс считает, что уникальное аксаковское консервативно-либерально-националистическое мировоззрение перешло к Струве как бы по наследству.
Ближайший друг Петра Бернгардовича Семен Франк нарисовал следующий портрет Струве: «Первое, что бросалось в глаза всякому, кто интеллектуально общался с П.Б., — это редкая, едва ли не единственная в наше время многосторонность его интересов и знаний… кто такой П.Б. Струве — ученый? писатель? политик? — единственный правильный ответ: все вместе в нераздельном единстве личности. Очарование его личности состояло именно в том, что он был прежде всего яркой индивидуальностью, личностью вообще, т. е. существом, по самой природе не укладывающимся в определенные рамки, а состоящим из гармонии противоборствующих противоположностей… В этом отношении он — немец по происхождению — был типическим русским духом: он походил своим умственным и духовным складом на такие типично русские умы, как Герцен, Хомяков, Вл. Соловьев, — с той только разницей, что они были гениальными дилетантами (или, как Вл. Соловьев, специалистами только в одной области), тогда как П.Б. был настоящим солидным ученым сразу в весьма широкой области знаний…»
И далее вспоминает Франк о Струве: «…По первому внешнему впечатлению он был типичным рассеянным „ученым“ — или мечтателем, — человеком, погруженным в свои мысли и мечты и не обращающим внимания на все окружающее. С ним не раз случалось, что он как будто просто не видел людей, находившихся с ним в одной комнате, забывал с ними поздороваться; и об его феноменальной рассеянности ходили целые легенды… Но под обликом рассеянности скрывались напряженное внимание и интерес ко всем конкретным деталям окружавшей его реальности; он жадным, любовным взором всматривался во все, что встречалось на его пути, и, со свойственной ему силой памяти, надолго — едва ли не навсегда — все запоминал. Через много лет он мог подробно рассказать, какое платье носила женщина, которой он, казалось, совсем не заметил при встрече с ней. Этот, по наружному своему облику, по внешнему устройству и ходу своей жизни, типический русский интеллигент-аскет, неряшливый и беззаботный, для себя самого равнодушный к жизненным удобствам и благолепию, был, так сказать, бескорыстно-страстным любителем жизни во всей конкретной полноте ее проявлений. Его практический аскетизм вытекал просто из его личного бескорыстия, из направленности его духа на созерцание жизни и на действенное моральное участие в ней; в нем не было и тени принципиального аскетизма, столь распространенного в русской интеллигенции…»
Подведем итог. Петр Струве — это человек универсального ума, колоссальной, почти вулканической энергии, страстный, неутомимый борец, высочайший интеллектуал и скромнейший человек в быту, почти аскет. Он прожил 74 года.
Из трех сыновей Петра Струве наиболее известен Глеб Струве (1898–1985), литературовед, журналист, переводчик, ему принадлежит огромная роль в развитии славистики в США. Он — автор многих исследований о русской литературе XX века, а также книг «О четырех поэтах: Блок, Сологуб, Гумилев, Мандельштам», «Русская литература в изгнании». Глеб Струве издал на Западе книги Ахматовой, Гумилева, Мандельштама, Волошина, Пастернака, когда их не издавали в Советском Союзе.
Не оскудевающий талантами род Струве продолжил Никита Струве, сын другого сына Петра Струве Алексея. Он живет во Франции и является профессором университета в Нантере, директором издательства ИМКА-пресс, редактором «Вестника Русского Христианского Движения». «То, что случилось с Россией, — это уникальное явление», — сказал он в интервью «Независимой газете» (6 июня 1996). И там же: «Я не согласен с катастрофизмом в оценке будущего России…»
Внук Петра Струве верит в Россию. И это отрадно.
ТРУБЕЦКОЙ
Евгений Николаевич, князь
23. IX(5.Х).1863, Москва — 23.I.1920, Новороссийск
Трубецкие (Гедиминовичи) — старинный княжеский и дворянский род. В семье было много детей, выделялись братья-погодки: старший Сергей Трубецкой (1862–1905) и младший Евгений. Они воспитывались в подмосковной усадьбе Ахтырка, в атмосфере «дворянского гнезда», где существовал культ музыки, литературы и философии. Мать, Софья Алексеевна, урожденная Лопухина, была натурой религиозной и в одном из писем признавалась:
«Еще до рождения детей, во время беременности, я молилась и особенно любила слова: „Даруй им души всеразумные к прославлению имени Твоего. Дай Бог, чтобы до конца жизни сыновья мои продолжали искать света и совершенствовались по возможности. Высшего счастья нет на земле. Я мечтаю о том, чтобы со временем они были миссионерами. Но миссионерами не в Японии и даже не в России, а в своей собственной среде. Лишь бы гордость не примешалась к желанию распространения истины. Если двигателем будет сознание обязанностей, возлагаемых на них, тем сокровищем веры“, которое дано им от Бога, тогда нет места гордости…»
Молитва была услышана. Сергей и Евгений Трубецкие стали миссионерами мысли, философами. На базе хорошего образования, домашнего и гимназического, братья засели за философские труды, сначала Платона и Канта, затем перешли к Шопенгауэру и Эдуарду Гартману. В Московском университете занимались на кафедре философии и энциклопедии права. «Потомственная няня Трубецких» Феодосия Степановна не скрывала своего разочарования выбором братьев: «Знаю эту вашу философию! Это значит — нет ни Бога, ни царя, ни няни… Нет, уж вы это оставьте! Вот у меня племянник был, ни за что пропал от этой философии. Уж сколько его отец ложкой по голове бил, а он все свое. Все опровергает; плохо жил, плохо кончил».
А теперь отдельно поговорим о Сергее Трубецком, чтобы потом перейти к основной фигуре — Евгению Трубецкому. Сергей Трубецкой по окончании университета как приват-доцент читал лекции по древней философии, сотрудничал с редакцией энциклопедии Брокгауза — Ефрона и считается родоначальником русской историко-философской науки. Занимался политикой и получил прозвище «Первый выборной ходатай от русской земли перед царем». Боролся за автономию университета. Его проект реформ был принят, и 2 сентября 1905 года князь Сергей Трубецкой стал первым выборным ректором Московского университета. Однако академические свободы вызвали среди студенчества революционную волну, которая захлестнула университет. Сергей Николаевич был вызван в Петербург к министру и после шестичасового обсуждения (а возможно, и разноса) потерял сознание и вечером того же 29 сентября скончался от кровоизлияния в мозг. Ему было 43 года. На посту ректора он провел всего лишь 28 дней.