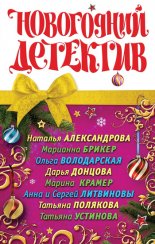Короткометражные чувства (сборник) Рубанова Наталья
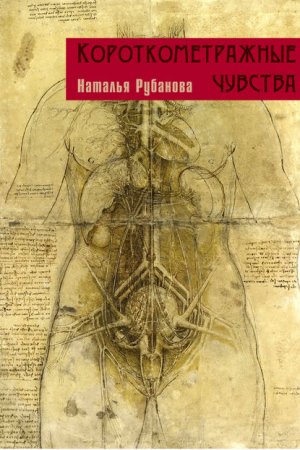
— Я могу любить только Солнце, — покачал головой Жираф. — Иначе моя шея станет короче, и…
— Но зачем тебе такая длинная?! — почти возмутилась Гусеница.
— Так легче дотянуться до Неба! — улыбнулся Жираф, втянув ноздрями воздух.
— А… — пропела Гусеница и поползла к себе.
Она думала, думала, думала… Очень долго думала, пока, наконец, не заметила, как пошел снег. Жираф же стоял на поляне, жадно вбирая в себя последние лучики.
Гусеница крикнула:
— Ты до сих пор хочешь на Солнце?
Жираф молчал; глаза его не выражали ничего, кроме печали.
— Но если тебе хочется Солнца, значит, ты не безмятежен! — снова крикнула она.
Жираф оглянулся, но никого не заметил — ведь Гусеница оказалась одного цвета со снегом! Ах, как хотелось ей в тот момент засиять хотя бы одним радужным оттенком!
Но белые хлопья засыпали ее, а до Жирафа снова не доходило, что она умирала.
Наклонившись, Жираф заметил на земле темно-красный комочек. Он ткнулся в него мордой, ощутил привкус крови, а поняв, что комочек — живой, лизнул тот языком.
В коконе, сплетенном из собственного тела, спала бывшая Гусеница: Жираф отнес спящую к дереву и, спрятав между трещинами коры, оставил.
Весной Жираф увидел Бабочку. Она кружилась над его мордой — такая нежная и красивая, что он даже опешил, устыдившись своей «грубости»; пятна же на собственной шкуре показались ему пятнами на Солнце… А Бабочка летала над ним, становясь то черной, то зеленой, то дымчато-розовой. У Жирафа сильно забилось сердце, и он закричал:
— Расскажи! Расскажи, как тебе это удалось! Почему я не видел тебя такой раньше?! Откуда ты?!
Но Бабочка молчала, и лишь слишком быстрое трепетание крыльев говорило о том, что она понимает Жирафа.
А тот все кричал:
— Расскажи мне о Солнце! Расскажи! Я не окончательно безмятежен, раз люблю Солнце, Гусеница не наврала!
Бабочка присела на переносицу Жирафа, а потом устремилась вдруг в Небо: долетев до самой горячей звезды и смертельно обгорев, с катастрофической скоростью приближалась она к Земле.
Жираф бил копытами, а увидев обугленную, забыл свое имя — и лишь что-то невесомое не дало ему выругаться.
Лист четырнадцатый
Эталонный постмодернизм
Все это слышал некий господин в одном из ресторанов в канун Нового года: «Правдивейшая из трагедий — самый обычный день», — утешала его Эмили Дикинсон.
— Я сижу в баре, среди бела дня, поэтому наедине с барменом, который рассказывает мне свою жизнь. Почему, собственно? — пожимает плечами Гантенбайн.[46]
— А почему бы и нет? — замечает на бегу Мартовский заяц, подрабатывающий в свободное от сказки время официантом.[47]
— Чтобы страдать, ему не хватает воображения, — косится Буковски на Гантенбайна и, заказывая шестую кружку пива, резюмирует: — Человек либо поэт, либо кусок резины:[48]
— Свобода приходит нагая, — перебивает его Костя Гуманков,[49] обернувшись на дам за соседним столиком: одна из них явно мертва, другая же, собираясь с силами, пытается казаться самодостаточной:
— Я оставляю тебя одну в зале, где ты говорила со мной как чужая, где ты не узнала меня несмотря на свет ламп.[50]
— Заа… бил ме… меня уубил ме… ня, да ты?
Что за текст лезет изо рта? — издали, кто-то, кому-то.[51]
— Вот тест, чтобы узнать, закончена ли твоя миссия на Земле: ЕСЛИ ТЫ ЖИВ — ТО НЕТ, — также издали, кому-то, кто-то:[52]
— А вы-то как же, ваши сиятельства, Клавочка, Фёклочка, как же вы-то здесь оказались с такой болезненной скоростью? Может, я просто грежу, может, я в агонии? А ежели нет, то повествуйте, силь ву пле! — требует Мишель, желая продолжения банкета в номерах.[53]
— Ах, Мишель, ведь мы же приехали вас искать, значит, летели на крыльях мечты! — жеманно улыбаются Клавочка с Фёклочкой.[54]
— Когда поняты знаки поведения, выражения лица, пусть он искусно добивается девушки, — наставляет Мишеля евнух, зачитывая отрывки из Камасутры. — При игре и развлечениях пусть, возражая, он выразительно берет ее за руку и, согласно предписанию, как это было разъяснено, осуществляет «прикосновение» и прочие объятия.[55]
— А дальше? — наблюдая за этой сценкой, Натали С. всплескивает руками. — Что дальше? Опять понедельник, вторник? А потом? Еще понедельник, еще вторник, еще среда? И снова понедельник? И так сколько раз?[56]
— Всегда, — отвечает сама себе Натали С., и ей ничего больше не остается, как плеснуть себе еще немного колдовства.[57]
— … в хрустальный мрак бокала, — надрывается на сцене Малинин: хэнд мэйд хэппи нью еар.
Радищев пожал плечами… Может быть, в тот момент и надо было сказать: «Ну так выходите за меня замуж, и там посмотрим, вместе как-нибудь выкарабкаемся», — но все это казалось нелепым, несвоевременным, слишком уж ни с того ни с сего.[58] «Я осталась совсем одна», — проскользнуло в ее мыслях.[59]
«Вместо того чтобы начать писать роман, я начинаю писать дневник. Это гораздо интересней беллетристики, гораздо увлекательней», — человек, так и не снявший пальто, увлеченно записывает что-то в тетрадь и потому не видит, как в другом конце зала плачет очень красивая женщина.[60]
- — Простите вы навеки, о счастье мечтанья,
- Я гибну, как роза, от бури дыханья,
- А сердце когда-то любило так нежно,
- И счастье казалось таким безмятежным![61]Человек, так и не снявший пальто, слышит пение падшей, и делает очередную запись: «Начинаю дневник вторично. Иногда мне кажется, что писание дневника просто хитрость, просто желание оттолкнуться от какого-то необычного материала для того, чтобы найти форму романа, т. е. вернуться к беллетристике».[62]— Чем печалиться, страдая,
- Лучше б ты была уродом.
- Ты обречена невзгодам,
- О, красавица младая! —
поет хор глоссу, заглушая женщину,[63] и на сцену выходит гармонист в телогрейке:
- — Сидит Таня на крыльце
- С выраженьем на лице.
- Выражает то лицо,
- Чем садятся на крыльцо!
- Ух!
— А может быть, я уже разучился писать?[64] — смотрит человек в пальто в одну точку и вдруг совершенно отчетливо слышит голос: «Я мечтаю о мире, в котором можно умереть ради запятой».[65]
Тем временем гармонист предлагает отгадать загадку Сфинкса:
— Это что за потолок? То он низок, то высок, то он сер, то беловат, то чуть-чуть голубоват, а порой такой красивый — кружевной и синий-синий?
— Так это ж загадка для укуренных! — догадывается Триер.
Всем приносят кальян с травкой; загадка Сфинкса повторяется.
— Небо! — догадывается мистер X, получая за правильный ответ бутылку «Мадам Клико», а потом открывает органайзер и записывает: «Смерть — единственная встреча, не записанная в вашем органайзере».[66]
- — Ах, досадно мне порой,
- Что Амур к тебе жесток.
- Ты ведь роза, ты — цветок.
- С кем сравнишься красотой?[67] —
вступает хор, заглушая страшный кашель Виолеты, из последних сил продолжающей петь:
- — На смену всем страданьям
- Приходит забвенье.
- Лишь в мире далеком
- Найду я утешенье.
- Ах, гаснет, гаснет жизнь моя!
Альфред рыдает. Чтобы хоть как-то утешить нефункционала, потолок посылает ему в руки самое популярное пособие по самопомощи, легендарную «Дианетику»: «Прочитав эту книгу, вы узнаете: почему человек терпит неудачи, откуда берутся комплексы и страхи, что именно подрывает вашу уверенность в себе… и как с этим справиться… навсегда… стопроцентная гарантия…».
— У тебя, милый, линия Сатурна прервана у самой линии сердца, — изучает цыганка его ладонь. — Да… Ломка жизни от сердечного увлечения, ничего не поделаешь… Позолоти-ка ручку!
Какой-то мужчина с печальными глазами хлопает продолжающего рыдать Альфреда по плечу:
— Год назад умер мой отец. Существуют теории, будто человек становится по-настоящему взрослым со смертью своих родителей; я в это не верю — по-настоящему взрослым он не становится никогда.[68]
— Так после смерти самая жизнь и есть, — убежденно проговорила Клавуша, развалясь в самой себе телом,[69] на что покидающий ресторан философ мимоходом заметил:
— Каждая почти жизнь может быть резюмирована в нескольких словах: человеку показали небо — и бросили его в грязь.[70]
— Да, лучше было не удивлять мир и жить в этом мире,[71] — соглашается с ним умудренный сединой драматург и тоже покидает заведение, а модный Макс Фрай строчит:
— После того как Иуда повесился, на него наконец обратили внимание.[72]
— А все похую…[73] — говорят люди, стоящие в очереди.
Мы можем воспользоваться паузой в нашем повествовании и сделать несколько сообщений. Орландо стал женщиной — это невозможно отрицать. Но во всем остальном никаких решительно перемен в Орландо не произошло. Перемена пола, изменив судьбу, ничуть не изменила личности.[74] И хотя Фрейд и увидел огромное значение фиксации на матери, он выхолостил свое открытие своеобразной интерпретацией, которую он ей дал.[75]
А теперь, дорогой читатель, вообразим небольшую конторскую комнату в шестом этаже безличного дома… На столе — очередные неприятности в виде писем от кредиторов и символическая пустая шоколадная коробка с лиловой дамой, изменившей мне. Никого нет. Пишущая машинка открыта. Тишина.[76] Зачем я пишу? Я и сам у себя об этом все еще спрашиваю… Одна из главных причин… — это, несомненно, желание отыскать чудо своего детства вне повседневной жизни, обрести чистую радость за пределами драмы, свежесть за пределами суровых будней… Люди пишут для того… чтобы победить смерть… Мы пишем, чтобы не умереть полностью, чтобы не умереть сразу…[77] И я писала: сперва — с удивлением, потом, несколько осмелев, с возбуждением и наконец — с упоением.[78] Ведь… у снега пять основных характеристик. Он белый. Он замораживает природу и защищает ее. Он постоянно изменяется. Он скользкий. Он превращается в воду.[79] Поэтому среди ночи я и проснулся. Меня пронзила мысль, что единственный во всем мире, кому придется прожить мою жизнь, это не кто иной, как я сам.[80]
Опершись головами на руки, иные его слушали, чтоб наполнять этими звуками пустую тоску в голове, иные же однообразно горевали, не слыша слов и живя в своей личной тишине.[81] Они не знали, что из моей жизни уходит одна из великих сует жизни — любовь. Другой великой суетой является материнский инстинкт. Расставшись с тем и другим, замечаешь, что все остальное и весело, и разнообразно, и неисчерпаемо.[82] Какие же мы все бедненькие, — сказала Ирра. — Какие же мы все бедненькие![83]
Раздался телефонный звонок.[84] Татарский обернулся. Вокруг никого не было, и он понял, что это слуховая галлюцинация. Ему стало чуть страшновато, но в происходящем, несмотря ни на что, было заключено какое-то восхитительное обещание.[85] А кимвалы продолжали бряцать. А бубны гремели. И звезды падали на крыльцо сельсовета. И хохотала Суламифь.[86]
Лист пятнадцатый
Анизотропное шоссе
[белозубая наглая голыми пятками по снегу содранностью по льду царап-царап а денег нет и не будет как дальше с кем на что зачем белозубая наглая острогрудка челюстью анимы хлоп-хлоп а ты попробуй хлюп-хлюп как она попробуй трах-тибидох ч/что зассал/а проблема пьянства и алкоголизма не стоит вставшая в очередной раз перед массами массажный крем хорош @ да белозубая наглая голая пешком по смайлам босиком]/p>
Шла Саша по шоссе да сосала соску: вторую уж неделю сосала, и все б ничего, если б не пена у рта. В руках ее, впрочем, помимо бывшей в изрядном употреблении солдатской фляги, топорщился помятый номер «Большого Агарода». Саша присела на пенек, съела пирожок, дай открыла журнальчик, а там: «Как часто жители нашего Агарода пьют вино?» Оптимизм диаграмм удручал: «Никогда — 39 %, реже раза в месяц — 29 %, раз в месяц — 17 %, несколько раз в месяц не каждую неделю — 11 %, раз в неделю — 3 %, почти каждый день — 1 %». Саша кашлянула, сделала большой глоток из фляги и перевела взгляд на другую диаграмму, над которой курсивилось: «Нужен ли агародцам повод для выпивки?» Результат нокаутировал: без повода там пили лишь 25 % агародцев, 2 % ответить затруднились, а 73 поднимались-опускались до пития лишь «по праздникам» и «особым случаям».
Саша сплюнула, сделала еще один большой глоток и окончательно приуныла: уж если и в «Большом Агароде» врут… градус-то «особых случаев» знавала не понаслышке! Вот, например, когда у Захара давечной зимищей тиснули из потайного пачку денег с ксивой и правами, и он потом пригублял да пригублял прямо на ступенях универсама, да так долго, что уснул на них, чудом не взмэрзши, это особый случай. Или когда Адка застукала свою диву с малознакомой дамой и потом спиртуозничала да фейсом-об-тейблничала с месяц, это тоже особый случай.
Когда же «По собственному…» сопрягается с «Освободите квартиру…» и «Давай расстанемся, нельзя так больше!» — «А меньше — льзя?», наступает как раз Сашин случай, и спиртуозничать можно ни долго ни коротко, и, покуда рассказка сказывается, Nemiroff с перчиком из стекляшек во флягу, видавшую виды и подвиды, благородно переливать.
— Уф! — говорит Саша, утираясь. — Уф! Усталаал-ла… — и снова за фляжку, за которой — у рта — пена.
Бездны, разверзшиеся однажды в Сашиной сознанке, тяготили не то чтоб. С ней-то, с сознанкой, разобраться не так, в сущности, сложно. Но та-ам, за черными дырами…
— Захар! Захар! — кликала периодически Саша, но до активных ли ему было ссылок? Мышка манерно замирала, а экран мерцал; Захар пил еще дольше Саши и, пока та шла по Анизотропному шоссе в одну сторону, шел по тому же шоссе в другую. И хотя с точки зрения логики сие невозможно, ведь анизотропное движение предполагает безостановочный — sorry — прогресс, вектор, направленный вертикально вверх, всегда в одном направлении, можно выдать, например, такое: «Мама, так есть», — и пожать плечами. Да, Саша и Захар направлялись из пункта «Е» не только в «Б», но и в «Ц». Саша двигалась в сторону «Б», Захар — в «Ц», и неисповедимые их пути расходились в разные стороны, оказываясь, тем не менее, явно одним.
— Следующая жизнь — ГОРИЗОНТ, последняя. Просьба освободить от себя землю. Улётного перехода!
Саша с Захаром огляделись, но ничего за Горизонтом не увидели по той простой причине, что за ним ничего никогда и не было: один сплошной Absolut. «Интересно, здесь хоть кто-нибудь когда-нибудь?..» — но не успела Саша додумать, как чей-то пленный дух заговорил с ней:
— А знаешь ли, герлица, что древнеримское «vinum» происходит от латинского «vis», означающего «силу»?
— Н-нет, — Саша обвела глазами пустоту.
— А знает ли милчел, — обратился чей-то пленный дух к Захару, — что у древних евреев вино именовалось не иначе как «жаин», у персов «ангур», а у армян — «гини»?
— Да нет, — Захар пожал плечами, но, как и Саша, ничего, кроме пустоты, не увидел.
— Кажется, мы попали, это сам Винный дух, — прошептала Саша и взяла Захара за руку. — Spiritus vinium…
— Ага, вон на коньке-горбунке сидит, вижу, — присвистнул вдруг Захар. — Допились! Ну, держись, Александра, теперь Агарод этот — наш с тобою.
Стали мы его судьбою… — промелькнуло в титрах и тут же исчезло. Spiritus vinium, обретя тем временем вполне реальную плоть, насвистывал «Прощание славянки» да потирал ноги:
— Эфирная лень! Эфирная лень! — но что это означало, ни Саша, ни Захар не знали: наставала пора принимать обстоятельства места и времени какими есть.
— Примите меня! — нудели обстоятельства места.
— Примите! — вторили обстоятельства времени.
…Приняв изрядно, Захар и Саша шли дальше. А дальше было больше:
— Найдите меня! — умолял компромисс.
— Съешьте меня! — фальшивил обязательный офисный торт.
— Улыбайтесь! — неискренне обнажал зубы Карнеги-холл.
На «Улыбайтесь!» Сашу затошнило, ведь компромисс так и не нашли, а торт не съели. Когда же тошнить стало нечем, она ловко сорвала с дерева только что выросшую пачку активированного угля и немедленно выпила.
— Хочу во Свояси! — скулила Саша долгими белыми ночами, потому что черных за Горизонтом не существовало. — Мы здесь не для того, чтоб…
— Саша, Саша, опоздаешь, вставай!
Худощавый прыщавый подросток открыл глаза, без удовольствия посмотрел на вечно не выспавшуюся, измученную мать и скорчил рожу:
— Хочу новый мобильник, купи новый мобильник, а-а-а?
…Мать подошла к окну, но снова не выбросилась: когда-то острогрудка читала «Случаи» Хармса и, говорят, даже ставила вываливающихся старух в школьном драмкружке, хотя время, как всегда, было не то.
Лист шестнадцатый
Deja vu
Последнее время он четко осознавал — да, подслушивает. Да, их всех. Избранных. Звукомеченных. Что с того?
А ничего не делать: не виноват никто. Все уже было, Онанчик, ха-ха.
Легче всего это, конечно, у консерватории — «под Чайником», как называют П.И. студенты (вызывающие у него неизбежную тошнотворную зависть), по щучьему веленью дам-скульпторш раскинувшего руки, намекающие на вдохновение: 1954-й, «лучшая работа тов. Мухиной». Они-то, руки-птицы, и символизировали якобы творческий экстаз, горение и все то, чем морочат детенышей на музлитературе седеющие экс-музыкантки, пахнущие мылом «Duru» и не бреющие подмышек. Нет-нет, можно, конечно, дойти до Гнесинки — тут недалеко… Или, скажем, до «Маяковской», постоять у зала имени все того же П.И… Или, на худой конец, доехать до Краснохолмской, где не так давно отстроенный Дом еще не пропитался музыкой, а уж о портретах-то, о портретах в фойе и говорить нечего — маляр от слова «худо», и не спорьте…
В общем, чаще всего приходил он сюда, на улицу Герцена (так и называл ее по старинке): сворачивал, например, со Спиридоновки на Малую Н., переходил дорогу, оказывался на Большой Н. Или, скажем, шел по Волхонке — Большой Знаменский, Калашный, Никитская. А если с Воздвиженки… Да мало ли! Идти он мог откуда угодно (Арбат, Тверская, Охотный: пуп земли, центр мира) — суть не менялась: метров за триста до консерватории («конса», «консерва» — все те же студенты) дыхание его слегка учащалось, пальцы деревенели, а обычно плотно сжатые губы странным образом размягчались. И, завидев сначала либо кафе, либо церковь (смотря с какой стороны подходить), он замедлял шаг, одергивал полы фантомного фрака и с видом знатока разглядывал афиши Большого, Малого и Рахманиновского: «Вечер фортепианной музыки», «Кафедра сочинения представляет…»
Так-так, воздух. Втянуть по возможности глубже. Еще. Не оглядываться. Кому какое дело… В сущности-то! Он же не просит милостыню. Не бомж. От него не пахнет — ну, разве что коньяком, но это слегка, надо принюхиваться: всего-то сто, шкалик. Гладко выбрит. Что там еще. Неплохо одет. (Подробности для дам: эта вот куртка и вельветовые брюки куплены в секонд-хэнде месяц назад — они с Ж., экс, оказались по делам на Южнопортовой. Ж. по привычке вытянула указательный пальчик — матовый лак на длинном коготке, казалось, старательно символизировал ее лучшую, хм, долю: «Зайдем, я прошу». И: «Примерь. Новый завоз — где ты еще купишь за такие смешные деньги? Я действительно прошу… Мы же друзья…» Когда очень просили, отказать он чаще всего не мог — не слабость, но, так скажем, врожденная «интеллигентская» (разумеется, «вшивая») привычка не доставлять неудобств другому. A bach — всего-то утерянная способность растворяться в звуках. Тема его креста, си-бемоль — ля — до — си. Формула несчастья.)
Так-так, со скрипкой… Пошла-шла-шла… Учится? Поступает? Абонементы Малого зала: № 21 — Вечера камерной музыки. Нет-нет, он и так в камере; с недавних пор шесть букв в подобной комбинации его пугают, хотя все эти квартеты… Особенно Д. Д. Одиннадцатый, f-moll'ный, сыгранный, так скажем, друзьями — странное слово, так он теперь считает, но: скрипки, альт, виолончель… Семь частей без перерыва, а также намечающаяся лысина Вадима, поднятые брови Инги, второй подбородок Андрея — и капельки пота на мраморном лбу Риты, а в них, в капельках, будто б в зеркале, «шведская» их — снова не его, чужая — семья: балетные, куда ему, неудачнику, до длинноногой дивы и поджарого мачо с претензией на «настоящий талант»! К тому же (говорят, помогает сохранить свежесть отношений) почти не видятся — репетиции, гастроли: сцена, черт бы ее подрал, ему-то рампа давно не светит… Запретный эрос в перерывах между станками: и если он не завидует и уже не ревнует, то что, что?.. Искусство для искусных, псевдоэксклюзив утомленной седеющей девочки со смеющимися глазищами: дипломантки, лауреатки — что там еще? — да герцогини, наверное… Да, именно так: герцогини. А вот и афиша, как сразу не?.. Маргарита Верхейнгольдская с ля-минорным Мендельсона: в прошлой жизни, в двадцатом, аккомпанировал ей — впрочем, был ли двадцатый на самом деле, он не уверен, нет, не уверен: то же самое относится и к «прошлой жизни», и к ее solo: скрипка-прима, звезда курса, прищур консерватории, «гроза конкурсов»… А он? Влюбленный дурак, живущий от репетиции с Ней до репетиции с Ней, экс-вундеркинд, чудоюдистый киндер, аутсайдер: «Итальянский концерт» Баха в первом классе — в сущности, пустяк, но если на первом курсе ты видишь в том же концерте лишь ноты и исполнение твое, предельно выверенное, напоминает скорее неплохо сконструированную задачку по гармонии, то…
«За что, зачем эта головоломка? Зачем Черная Курица спрятала волшебное зернышко, оставив Алешу в камере?» — «И до чего ж мальчишка оказался скучен!»
Техника умирания. Бессмысленность. Король Ганона! «Как жить, Господин Б.? Не играть невозможно. Впрочем, больше ничего не умею… Учитель музыки? Три буквы: ДМШ? Мечта зевающих педагогинь, любопытствующие взгляды мамаш?.. Или: студенты „музилищ“ и „кульков“, для которых, по большому счету, музыка никогда не стояла на первом месте — есть, есть исключения, но…» Нет-нет, он никогда не будет преподавать, никогда. Он не сможет, его стошнит прямо на клавиатуру — да и какой он, к чертям, педагог! Вот его учитель… Он-то всегда будет помнить Равиля Самуиловича, обладавшего не только фантастической техникой, но и каким-то феноменальным даром оживления звука. В училище на его концерты приходили даже духовики: особая, хм, статья… да что говорить!
В училище, впрочем, он еще дышал. В консерватории же произошло что-то невероятное: он до сих пор не может объяснить этого даже себе: музыка, само ее вещество, стала словно бы испаряться. Проскальзывать между пальцами, исчезать… Ам! — ан нет, дырка от бублика, страх.
Прослушивание записей не вызывало ничего, кроме зависти и стыда. Осознание собственной бездарности — о, всего лишь начало: это потом началось самоедство (по-средственность), боязнь притронуться к черно-белой пасти зверя, отторжение медленных частей сонат, затем — романтиков, а потом и всего того, что слащаво называется «душой музыки»: лексикон дам с брошами под наглухо застегнутыми белыми воротничками…
На третьем курсе он забрал документы и, как водится, месяц-другой пил, а потом — как придется: охранник, грузчик, опять и снова… Дальше совсем тошно.
…и опять со скрипкой, топ-топ, и тоже к Рахманиновскому сворачивает — ну да. И снова, и снова: худенькая, тощая даже. Вьюноши с длинными волосами, все в джинсах. Он-то никогда не приходил в храм в джинсах, нет-нет. Абонемент № 36 — Чудо-дети. Опять вундеркинды. Руки-птицы, мать их! Он и сам «Думку» в четырнадцать осилил; вторая премия ***-го конкурса, Прибалтика — первая в жизни «заграница», сосны, волны, Сибелиус, первый невинный поцелуй с чертёнком по имени Рита. «Творческий экстаз». «Горение», хм, — а ведь все залито музыкой, бояться нечего…
«Петр Ильич Чайковский хотел выразить в этом произведении…» — «Петр Ильич Чайковский боялся мышей и любил качественный алкоголь» — «Что ты хочешь этим сказать?» — «Только то, что когда он не сочинял, он не жил» — «Так и я не живу, когда не играю…» — «Но ты не Чайковский»: первый надрыв, первое ощущение собственной ничтожности, первый гвоздь в то, что называется мечтой. Концерт учащихся Академического музыкального училища при Московской консерватории… Господи, сколько лет! Их выпуск…
Моховая, Тверская, Романов, Никитский, Газетный, Брюсов, Вознесенский, Калашный, Кисловские, Мерзляковский… Бежа-а-а-ать!..
Всё уже было: одиннадцать люстр Большого зала освещали для тебя сцену. Из четырнадцати окон опрокидывалось на тебя солнце. Четырнадцать портретов смотрели на тебя, чего ж ты хочешь!..
«„Ундина“ показалась, да, а вот „Скарбо“ сыроват…» — «…а мы играли тогда Второй Брамса, и я…» — «Он-то Высшую школу музыки в Ганновере окончил, теперь вернулся, а зал не дают…» — «…ну вот, а Витька после концерта напился, Лика обошлась парой пощечин — у нее же репетиция в среду, ну да, с оркестром, а этот накануне устроил та-а-а-ко-о-ое…» — «Нет, это, конечно, не Бах. Баха так давно никто. Не понимаю, зачем ему понадобилась редакция Муджеллини…» — да, подслушивает. Да, их всех. Звукомеченных. Что с того? А ничего не делать: не виноват никто. Всё уже было: стой, слушай!
Вот, собственно, все: так он думает. Так он и сделает, да, — а почему нет? Можно же не врать хотя бы себе. И правда — все: подслушивания прослушиваний. Страх увидеть Риту не на сцене. Очередь за билетами на ее концерты. Его беспомощность. Потерянная форма. Форма охранника: сутки через двое, жалкие пятьсот у.е. В выходные еще ху-у-у…
…но иногда он приподнимал крышку гроба: «ля» первой октавы звучало со странным пошловатым надрывом, и он не мог поверить в то, что когда-то, в прошлой жизни, Рита настраивала скрипку, а запах ее духов кружил ему голову: литературный штамп, катастрофа, серость.
А когда все наконец-то случилось, он понял, что и это уже было: капельницы, трубочки, халаты, слезы каких-то, как ему теперь казалось, чужих людей… Единственный честный поступок, круговорот споров с Господином Б., посмертное deja vu без права сломать чертово колесо.
Лист семнадцатый
Секс на скорую руку, или Эффект матрешки
IL пишет:
Я что-то отвлекся и упустил рождение нового слова.
«Матрешка» это кто? Десятка, что ли?
NN отвечает:
Фигурка такая из дерева:-))))
Про_лох
— Вот чой-то погохди, погохди, слышь? — Марийк, подымсь! Кабы плохо чо ни! — Опять тудыть? Таки язык вывалишшшшь! — А ты б яво прищамила! Вона, пятух процыкал давноть! — Ох, Иван, сёрденько-то бооль! ПРАВО, чай, отменилить. Свободныя мы таперича. — И чо, баба, чо нам, тудыть и, со свободой-та? Делать-та? — Какчо?.. — Ну, эт ты… — По любови за тобя вышедши… так хоть не спеша… и почуять… а то все не до жиру… глянь… О-охх! Сны окоянныя, столы деревянныя, была не была! — Однова живем.
Отправил: Процион, Ср, 21 Июля 2004 в 19:09 MSK: Сир, вы когда-нибудь сталкивались с таким случаем, когда отдельная целая тройка в ЗДС (например, 3–1*) сама является трехчастевкой, состоящей из трех различных волн, включая импульс? Т. е. так называемый эффект матрешки.
Корни_лох
Тужились житьем Маня с Ваней, тужились, да делать нечего: пиу-пиу-пиу! — Б. родненький из постельки супружников подымает, сладкия сны своим визгом разгоняя: «Вон пошли! Во-он! Ишь, спят и видят! Wwoкать надо, фэмилью потчевать, не захирела чтоб! Вон пошли! Во-он!» — и сн всегда уходили в считанные секунды, теряясь не столь от наглого напора механизма, внутри которого с отвратительной пунктуальностью — тик-так, тик-так! — останавливала всё, что только можно остановить, на самом интересном месте Пальчиковая Б., сколь от еще более отвратительного звука, раздающегося в типовой квартирке в 7.00 пять дней в неделю. Сны же вылетали — с некоторым сожалением — в форточку (опять, опять их недосмотрели, а значит, недооценили!) и, паря над стандартным жилым фондом («О! стандартный жилой фонд! как все-таки глупы эти белковые тела! — глумились, и поделом. — Какие только несовместимые слова не уживаются у них друг с другом!»), с усмешкой взирая на такие же, спугнутые визгом плодящихся и размножающихся механизмов.
А Маня с Ваней — тем? этим? — скоропортящимся времечком пожинали плоды долгого, кропотливого и никчемного труда своего, в поте лица зарабатывая на безикорный хлебец с таком: ну чем не чеховский сюжетец об очередном ничтожестве? Однако не чеховский, свят-свят-свят! Упаси какой-никакой господь сравнивать Маню-Ваню с чем-ничем-кем-никем хрестоматийным! Еще опять не так скажем, что и требовалось доказать; извините, герр классик, комрад (какая наглость!) писатель, за беспокойство: смеем заметить, ялтинский ваш бамбук живет и здравствует! Впрочем (возвращаемся к теме), мы не сравниваем, да и некогда-с нам глупостями-то заниматься (пусть критикунчики поюродствуют, ежли кишка не за-тончится перед «ЖП», — а сняли-ка быстро шляпы и встали), ибо горло нашей песне перерезают серые будни: «Мань!» — «Уже?.. Нет, нет, еще…» — «Пятница скоро… А, Мань? Вставай!» — «Не доживу я до пятницы, Вань, чудровым таким макаром! Мне б часа два… знаешь, сон…» — «Я, Мань, сам не могу…» — Ваня, недоговаривая про то, что как бы «движет миром», целует Маню, пытаясь заняться с ней сексом «на скорую руку», но в тот же момент из соседней комнатки раздается ор, не опус. Маня соскакивает с кровати и бежит к киндеру: кошмарище в полный рост! («Она умеет двигать собой в полный рост…» — посылаем всех на БГ). Чего только не привидится — и змеи, и пауки в банке, и черти босховские (непросто, однако, быть Босхом!) — и откуда только что берется? «Ну-ну, зер гут», — успокаивает Маня киндера, собирая параллельно того в sad. «Не хочу-у-у! Не пойду-у-у! Не буду-у-у! А-а-а-а-а!» — «Я куплю тебе машинку вечером, только не хнычь» — «Не хочу-у-у машинку, хочу самолет!! А-а-а-а!» — «Хорошо, самолет. Только заткнись, ладно?» — «Военный самолет хочу! А-а-а-а!» — «На военном террористы летают!» — «А-а-а! К террористам хочу-у-у!» — «Чо?! — прорывается из самого нижнего бессознательного омское, каленым железом не вытравливаемое чо. — Щас как дам тебе по жопе террористов!» — «Да чо туту вас?» — входит Ваня, у которого тоже: корни. — «Идите все в sad!» — Маня машет рукой и, не обращая внимания на вопли, неслыханные покамест г-ну Видоплясову, уходит на кухню, садится на табуретку и хнычет — да и что ей еще делать?
— Нипоняла-а… — недоумение обыкновенной женщины, несколько раз в день подходящей к плите.
Мы тоже. Тоже не поняли: зачем так часто к плите, и почему от забора и до обеда, пока коники не дви… «Не бей копытом!» — мы перебиваем и отстраняем надвигающихся на Маню с Ваней коников, но лишь на время, уделенное рассмотрению «эффекта матрешки».
Отправил: Шут, Чт, 22 Июля 2004 в 02:14 MSK в ответ на: Вопрос к Шуту, которое отправил Процион. Ср, 21 Июля 2004 в 19:09 MSK: Что такое 3–1 в ЗДС? Это ТРИ ПРОИЗВОЛЬНЫЕ части 1–1,2-1 и 3–1. В свою очередь, КАЖДАЯ часть может иметь вид «a-b-с» степенью меньше, либо быть целиком ЗДС степенью меньше, либо чистым импульсом, либо сложной двойкой или тройкой. Так же возможен вариант, когда ВСЯ 3–1 НЕ ДЕЛИТСЯ НА ЯВНЫЕ ЧАСТИ, а имеет вид ЦЕЛОЙ «ИМПУЛЬСОВИДНОЙ ТРЕУГОЛИСТОЙ» (термин мой) волны. Словом, внутри ЗДС возможны любые мыслимые и немыслимые сочетания. В этом-то и состоит и ее сложность, и ее мерзость. Но, как ни странно, это ничуть не мешает играть ЗДС. Надо просто четко понимать ее, особенности и отличия ее ММ от ММ иных паттернов, возможные точки входа. Несмотря на буйство паттернов, там есть ряд закономерностей.
Эпи_лох
«Матрешка — явление большого художественного значения, требующее осмысления; это произведение и скульптурное, и живописное, это образ и душа России», — пишут в книжечках, которые пылятся с прошлого века на дачном чердаке М-166789555 с В-122345674: это всё, что осталось от их рефлексирующих, — а потому нерациональных и нивелированных в большинстве своем как вид — предков.
М-166789555 с В-122345674 не видят снов. Вместо кожи у них тончайшая резина с томящимся в ней силиконом. Вместо костей — спицы. Вместо глаз — мутновато-белый гель. Но почему-то не покидает ощущение, будто глаза их — деревянные.
В целях экономии энергии они, как частенько практиковали и их далекие предки, занимаются сексом на так называемую «скорую руку», что несказанно способствует увеличению производительности их полезного для общества труда.
Каждый раз, включаясь в процесс существования по звонку датчика Б, вмонтированного в их мозг, они идут копать от забора и до обеда. М-166789555 и В-122345674 веселы, счастливы, талантливы, словно персонажи одноименного фильма прошлого века. У них никогда ничего не болит. Они не умеют смеяться. У них отсутствуют слезные железы. Они не испытывают потребности в искусстве. Не задают лишних вопросов и не высказывают недовольства режимом. Они лояльны. Неприхотливы. Их уже несколько миллиардов! Им не нужно плодиться и размножаться. Они будут всегда. Они, как боги, бессмертны.
— Нипоняла-а!
Лист восемнадцатый
Идиллия
ванванч, скрытый мизантроп и экс-профи в области дамских телес, проснувшись, повел носом: однако… И дело не в том вовсе, что супружка его, зойсанна, не хлопотала на кухне, традиционно прикудахтывая. И не в том даже, что звучков из комнаты высоколобого лысеющего отпрыска с этой его не было слышно. Нет-нет, тут гораздо, гораздо серьезней! ванванч повел носом другой раз, третий, а потом причмокнул да и растянулся с блаженной улыбкой — запах человечины исчез напрочь. Ну то есть натурально: полное отсутствие какого-либо амбре. Салтыков-Щедрин. Сказочки.
ванвынча, в силу энных причин к пятидесяти годкам порядком упавшего духом, такой расклад приободрил: ведь это же щастье, щастье — ни душонки… приоткрыв дверь спальни, он, словно боясь спугнуть что-то, осторожно, будто вор, метнулся в длинную кишку коридора и, глубоко втянув широкими ноздрями с торчащими из них черными волосками воздух, удовлетворенно крякнул: чисто сработано.
наскоро умывшись, ванванч надел шляпу и отправился в городок, где, к его величайшей радости, запахов потных граждан и измочаленных гражданок ничто не предвещало, безлошадные кареты сновали туда-сюда, за прилавками стояли элегантные роботы, из репродукторов доносилось эсперанто, ванванч заходил в безлюдные кафе, где на него таращились лишь спинки плетеных кресел, в немые cinema, в бесконечно пустые — и оттого кажущиеся огромными — супермаркеты, «fater-fater! харашо-та ка-ак!» — думал он, пребывая в абсолютном осознании того, что так славно было ему лишь в блаженном детском неведении, когда он, иван-иваном, хотел поскорей вырасти, ибо счастья своего не ведал, не ценил, потом подумал, что счастье как таковое не выдается напрямую: «точно… дозируют его… цедят…» — он сделал большой глоток темного пива: глаза заблестели от свалившейся внезапно свободы, пусть примитивной — но его, и ничьей больше.
однако вздохнул, и глубоко: слишком поздно пришло понимание, увыкай — не увыкай, пятьдесят лет присутствия в человечьем зловонном футляре проросло-таки камнями в почках… ванванч снял очки, протер фланелевой тряпочкой, купленной когда-то зойсанной, опять надел, да и посмотрел внутрь себя, где, к его изумлению, копошились самые обыкновенные черви, подскочив от омерзения, ванванч начал судорожно раздеваться, сначала ветер унес шарф и шляпу, затем — рубашку с брюками, потом трусы и майку, а через несколько минут тело уже бежало по трассе в одних носках, перед глазами плыло: «вот так, верно, умирают… а то жуки: тоннель, свет… врут! какой свет — ни кондиционера тебе, ни вентилятора! а я-то, я-то… неужто — все? неужто — вот так, в очочках? неужто пощады не будет? а-а-а!..»
он остановился перевести дух и, схватившись за сердце, придирчиво оглядел себя: обвислый бледный живот, худые конечности, сморщенное, бывшее в употреблении, навсегда поникшее «достоинство» — неужели зойсанна любила его за это?.. ах, зоя-зоя, змея особо ядовитая, гадюка родёмая! все прикудахтывала, все свитерочки, все щи-борщи… уморила, сука, силы последние выпила! а ведь он мечтал… да если б только годы вернуть… в расчет, в расчет влетел… деревня Смертинка — мутерляндия ее, студенточки педулищной, адская! фрикции как плановое средство зацепиться загород… городския мы, не вам, колхозникам, чета! и шубы у нас, и шпильки… цок-цок… вот уж по паркету раскиданы… а он-то, он-то! ванькой-встанькой… щи-борщи, пеленки-распашонки, машина-дача, тоска собачья… да лютая, лютая же! как и любовь его лютая — такую только жизнь напролет забывать: прости, фея.
«господи-и-и! неужто и вправду — КОНЕЦ? неужто ничего не будет больше, а? неужто… титры?!» — но докричать ему не дали: надев на голову целлофановый пакет и туго стянув его на шее, ангелы прибили ванванча к позорному столбу, да и закидали камнями на скорые крылья: о, сколь великолепно трепыхались они в последних лучах заходящего солнца! как нежны были…
Лист девятнадцатый
Разрешите вами восхищаться!
Наталья Дмитриевна — интересная дама лет сорока — вздыхала, прогуливаясь по саду: корсет сегодня оказался чересчур туг. Солнечные зайцы, нагло соскакивавшие с кружевного зонтика на ее полные белые плечи, ничуть не смущались и уже прыгали в декольте: а там-то было раздолье!
О том же самом раздолье думал и гость ее мужа — поручик N, прогуливавшийся неподалеку. Наталья Дмитриевна нравилась ему давно. Впрочем, «нравилась» — слово, едва ли способное обрисовать его чувства-с. Он желал ее так сильно, что лоб все чаще покрывался испариной, а ладони потели. И вот поручик наконец осмелился приблизиться к даме своего сердца на непочтительно близкое расстояние и, приветствуя, произнес:
— Разрешите вами восхищаться!
— Ах! — сказала Наталья Дмитриевна: да и что можно сказать, когда красавец-поручик подходит к тебе со спины?
— Разрешите вами восхищаться! — снова пробасил поручик, и Наталья Дмитриевна покраснела да выкинула на всякий случай солнечных зайцев из декольте. Поручик, заметив сей красноречивый жест, придвинулся к даме своего сердца еще ближе и снова пробасил: — Разрешите вами восхищаться!
— Ах! — опять сказала Наталья Дмитриевна и коснулась груди. — Колет-с! Сердце!
— Сердце? Где-с? Натальдмитна, позвольте, где-с колит-с? — поручик дотронулся до ее груди, а Наталья Дмитриевна снова:
— Ах!
— Что «Ах»-с? Что «Ах»-с, милая Натальдмитна? Вы позволите помочь вам? — поручик казался встревоженным.
— Ах, оставьте! — покачала головой Наталья Дмитриевна. — Никто не сможет помочь мне. Никто не сможет вылечить мое сердце…
— Но почему, милая Натальдмитна? — поручик взял ее руку и поцеловал.
— Ах! — вскрикнула Наталья Дмитриевна и, как показалось поручику, упала без чувств.
— Натальдмитна, Натальдмитна! Что с вами? Я обидел вас? Помилуйте, голубушка, и в мыслях не…
— Ну давайте же, давайте скорей, пока супруг по делам выехали-с, не томите, я вся ваша… Ах…
Платье Натальи Дмитриевны принесло поручику немало хлопот, не говоря уж о корсете. Однако все было исполнено в лучшем виде, и полные плечи Натальи Дмитриевны уже слегка утомленно поднимались и опускались. Поручик, запутавшийся в подвязках, отряхивался от травы.
— Разрешите вами восхищаться! — пробасил он и, превратившись с теми словами в солнечного зайца, навсегда поселился в ее шикарном декольте.
Небо, говорят, было все еще голубым, а трава — зеленой: именно в ту пору и прогуливалась Наталья Дмитриевна по саду своего имения. Ничто не предвещало ей удовольствия, как вдруг…
— Разрешите вами восхищаться! — услышала она голос гувернера своей дочери и, небрежно поплыв ему навстречу, снова подумала, что если б в ее жизни не было этого маленького порока, она с ума сошла бы от скуки: право, нельзя же целыми днями пить кофий, завивать волосы да тренькать на фортепьянах!
— Ах! — только и сказала Наталья Дмитриевна и, прислонясь к толстому стволу клена, оголила щиколотки, а потом и колени: тонкие ажурные чулки пахли лавандой.
Гувернер без лишних слов освободил даму от ненужного шелка и исполнил все в лучшем виде. Через полчаса полные плечи Натальи Дмитриевны уже утомленно поднимались и опускались. Гувернер, запутавшийся в подвязках, отряхивался от травы.
— Разрешите вами восхищаться! — пробасил он и, превратившись с теми словами в солнечного зайца, навсегда поселился в ее шикарном декольте.
…Моросит дождь. Наталья Дмитриевна прогуливается по аллее парка: жизнь кажется ей никчемной (что дальше? старость?). Пора выдавать дочь замуж, пора намекать мужу на завещание — он старше ее на двадцать пять и последнее время не выходит из дому. Ей скучно, очень скучно…
«Разрешите вами восхищаться!» — слышит она вдруг и почти уже бежит на зов, но, споткнувшись о пару десятков солнечных зайцев, выскочивших внезапно из ее шикарного декольте, падает в грязную лужу: так брызжат слезы из глаз Натальи Дмитриевны, так смывает ливень пудру…
«Ах!» — слышит Наталья Дмитриевна, открывающая дверь дома, вздох дочери и чьи-то быстрые удаляющиеся шаги. Она бежит на звук, чтобы уличить гувернера, но, увидев Глашку — новую горничную, кровь с молоком! — застывает.
— Стареете, маминька! — облизывает дочь пухлые губы. — Прогресс идет вперед-с!
…Наталья Дмитриевна прикусывает язык и, ничего не говоря, тяжело поднимается по лестнице к себе в комнаты. Единственное, о чем она жалеет…
«Т-с-с! Право, мне неловко, — соскакивает Наталья Дмитриевна со страницы, забыв о дозволенном. — Не стоит этого говорить! Нельзя-с поступать с персонажами столь безжалостно, умоляю!»
…и мы внемлем. Мы никогда больше не говорим о Наталье Дмитриевне; Глашка же, высунувшаяся на миг в коридор, тихо-тихо прикрывает дверь в ее комнаты.
Занавес
Лист двадцатый
Осадки
Когда Д'ивачка, наконец-то покинула кровавое убещиже, когда ее вовсе неблагообразная мамаша, выкатившая из себя несколькими годами раньше еще несколько детенышей, наконец-то прооралась и заснула, над некрасивой стандартной кроваткой новоприбывшей герлицы образовалось легкое туманное облачко. Нет-нет, человечьему глазу его было не разглядеть — слишком эфемерным оно оказывалось, но вот какие-то вибрации оттого все же исходили. Так, одна чересчур чувствительная акушерка — особа не по профессии начитанная и не по принцессиной горошине нежная, — повела крысьим своим носиком, на который то и дело съезжали круглые очочки, да и уставилась в потолок. Ей, бедняге, конечно, не довелось увидеть слетевшихся туда персон (назовем их пока так), иона, постояв минуту-другую, удалилась, засунув кое-как в карманы халата неудовлетворенное любопытство, вызванное, опять же, непонятно чем.
Между тем осадки (назовем их теперь так) начали сгущаться над беспокойно спящей Дивачкой, прошедшей только что через ужас-ужас-ужас. Еще совсем недавно она чуть не задохнулась от нехватки кислорода — мамашины схватки так сдавили ее, что Дивачка подумала о Конце, так и не познав Начала. Как хотелось ей снова вернуться в свое прежнее состояние покоя и безмятежности! Как хотелось окунуться в тот теплый и безопасный мир, где она — рыбкой? птицей? — чувствовала себя так чудесно! Но куда, куда несет ее страшная волна? Не убьет ли? За что ей эти мучения? «Надо ли вообще появляться на этот серый свет?» — вертелось в ее маленьком мозге, да так там навсегда и осело.
Ох, как страшно, как неуютно, как одиноко было нашей Дивачке в тот момент! Казалось, гигантская акулья пасть с тысячами огромных острых зубов тотчас поглотит ее, если она не увернется, если не сделает еще одного движения! И еще одного… И ещё! Ещё! Ещё-ё-ё-ё-ё-ё!! Крик, который, казалось, стал самой Дивачкой, разрывал ее на части, но что она могла поделать? Безысходность в тисках маточных сокращений — вот она, «Великая Ночь Души», бездонное отчаяние, первая Голгофа и ощущение жизнькиной бессмысленности, что тоже, впрочем, навсегда отложилось в выдвижные ящички памяти того, что некоторые называют душой.
Потом стало немного легче, но лишь немного. И ненадолго. Отовсюду сочилась кровь — ее и так было много, но сейчас впору оказывалось захлебнуться; и слизь какая-то кругом, и вязкость, и ямы с нечистотами… То и дело Дивачка проваливалась то в один, то в другой грязный колодец. Запахи потных разнополых, их ввинчивание друг в друга, их вколачивание, вдалбливание, втягивание, засасывание; их желание обладания и мазохистская мечта подчинения, смешанная со стыдом, страхом и удовольствием: чудовищная машина отношений — да мясорубка же, мясорубка!! Под это дело Дивачку нашу так сжало, так скрутило, что она чудом не задохнулась, и только увидев горящую в огне странную птицу, через мгновение уже вылетающую из пепла целехонькой, — хоть бы хны ей! худо ли быть мифом, Феникс? — почувствовала облегчение. Палящий жар покинул маленькое тельце нашей герлицы, всё открылось и всё слилось в один только душераздирающий крик: света, воздуха, голоса — в общем, всего чуждого и Дивачке нашей не нужного.
Мамаша же, освободившись от бремени, тяжело вздыхала и слабо улыбалась. Пожалуй, это ее последние роды: все-таки тридцать пять, да и сколько можно нищих плодить? И так три рта сидят, теперь вон четвертый… Ванька, собака, опять не удержался… а на аборт не решилась. От мыслей сих мамаше нашей стало совсем уж грустно, и она подумала, что если вдруг ее дщерь прославится… Станет известной… Певицей, к примеру… Да-да! Примой! Как… — ну, кто там? — как Образцова! Большой театр, цветы, аплодисменты… Ее дочь показывают — да-да! — по телевизору… Слезы умиления у соседей и родственников… Открытая по случая баночка белых грибов и бутылка вишневой наливки… «Гордитесь сестрой!» — «Эй, мамаша, смотрите!» — та самая, остроносая акушерка в круглых очочках, уже тормошила ее, указывая на Дивачку — не красивую и не уродливую, с очень тоненькими ножками и пальчиками. «Ой…» — простонала вдруг мамаша и, услышав доносящуюся откуда-то сверху музыку, потеряла сознание. Однако бедняжка понятия не имела, что это была увертюра к «Травиате»: никаких опер она знать не знала.
Дивачка же тем временем лежала на, как мы уже говорили, некрасивой стандартной кроватке в окружении таких же, как она, тел. И, если кто не помнит, над кроваткой этой успела образоваться некая облачность. Осадки (назовем их так снова), посетившие 3 апреля 1971 года один из неприглядных столичных роддомов, сгустились над герлицей и завели следующий разговор:
— Я могу дать ей обаяние. Красоту. Летящую походку, — пропел Туман.
— Зачем? Лучше ум! — прошелестел Иней.
— Ум без красоты, явно как и наоборот, для женщины губительны, — заплакал Дождь. — Я же могу дать ей гармонию.
— Нет-нет! — ворвался Ливень. — Я подарю ей главное — талант! Она будет выступать на сцене, она будет счастлива!
— Но разве можно быть счастливой без любви? — простучал Град. — Посмотрите-ка, в кого я без нее превратился! Бьюсь и бьюсь, как об стенку горох… Зная это, я мог бы дать ей силу воли… — но его перебили почти нежно:
— Нужно уметь расслабляться! — пролилась Роса, играя всеми цветами радуги. — Я подарю ей легкое дыхание…
— Вы дадите ей всё: ум, красоту, талант, силу воли, любовь… — сказал внезапно появившийся Снег так, что все побелели. — Но за это я вытрясу из нее всю душу! — с тем и пошел.
А Дивачка наша в тот миг закричала так громко, так пронзительно! «Зачем ему моя душа? Почему он хочет ее вытрясти? За что-о-о-о?! А-а-а-а-а-а!!» — рыдала новорожденная, извиваясь и корчась, но никто ее не понимал, а потому — не слышал.