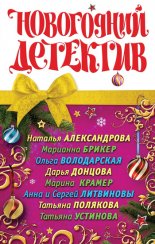Короткометражные чувства (сборник) Рубанова Наталья
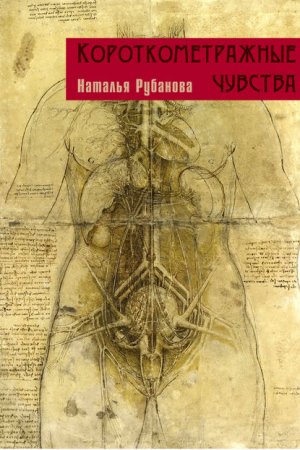
Елена знает. Елена всегда предлагала себя — не коробит? Не коробит, идем дальше, — Елена всегда предлагала себя с помощью технически усложненной подачи; ее установка всегда ориентировалась на новый виток саморазвития, несмотря на излишнюю сухость последней фразы. А что же фигура, ставшая третьей в ее браке?
Предельно проста, ориентирована на «среднее» понятие нормы и красоты (см.: «масскультура»); владеет эффектом 25-го кадра, содранного у Джеймса Вайкери аж в 1957-м: и всего-то 1/300 секунды, зато как откладывается в выдвижные ящички памяти! (См.: С. Дали, «Выдвижные ящички памяти»). Ликбез? — пожалуйста: Вайкери установил в кинотеатре дополнительный проектор: эта дрянь тоже установила в своем теле дополнительный проектор. Вайкери проецировал на тело фильма невидимые «Пейте Кока-колу» и «Ешьте Поп-Корн», после чего зомбированные зрители скупали их в буфетах с необычайным воодушевлением, а эта дрянь спроецировала на тело мужа Елены невидимую фразу, которую Елена даже боится повторить…
Не станем наступать на больную мозоль и мы; обратимся к веку гуманизма: допустим, будто бы такой существовал.
Елена пребывает одновременно в нескольких состояниях: твердом, жидком и газообразном. Когда Елена тверда, она одной ногой у плиты. Когда жидка, одной рукой в могиле. Когда газообразна… когда Елена газообразна…
Но Сочинитель не дал нам информации о том, что же на самом деле происходит с Еленой в газообразном состоянии, поэтому опустим это предложение — тем более наша глокая куздра штеко будланула бокра и уже кудрячит бокренка.
— Я не понимаю, нет, я определенно не понимаю, что все это значит! Если это рассказ о разводе, то можно было просто написать: «После развода Елена уехала на море, так и не сумев проглотить обиду». Разве не так? Тут же… Нет, я, правда, теряюсь! При чем здесь Аристотелева логика, 25-й кадр? Да, если поискать, наверное, и ошибочки найти можно…
— Это такой художественный прием. Именно с его помощью можно передать то состояние, в котором героиня, не объясняя собственных чувств…
— Ч? Да пошли они со своими приемами! Я простой человек и хочу, чтоб все понятно было. Мне ихняя сложность на хрен не нужна, ясно? Я как приду домой, так сразу стакан залужу. А как прогреюсь до кишок, так чертенку подзатыльник дам, а там и бабу свою в койку: тепло! Потом телик смотрим, а баба моя плачет. От радости, что у ней мужик такой есть. Ч тебе еще надо, Марусь?
Маруся тупо улыбается и молчит, поглаживая половник.
— Есть несколько способов построения художественной реальности, здесь представлена как раз…
— Да срать я хотел на эти художественные реальности!
Тем временем глокая куздра штеко будланула бокра и кудрячит бокренка.
Скользить по побережью холодного моря… Скользить по… Быть безымянной… Чистой… Светлой… Самое главное — быть безымянной… Снять все маски, истечь слезами… Распластаться под криками чаек… Глубоко под землю зарыть свою страшную боль… Отнести за высокие горы, за дикие леса… Утопить в море синем. Сером. Красном. Черном… каком угодно! Затонуть кораблем на дно, лежать не шевелясь. Обучиться языку дельфинов. Поумнеть капельку. Не прочитать ни строчки, не сказать ни слова, не сесть ни в один поезд. Не помечтать ни об одной иллюзии. Не поверить ни в одну идиллию. Загрустить — догруститься до чертиков, до русалок, до леших с ведьмами! — и встать, и пойти. И богу помолиться. Зардеться. Заалеть. Очиститься. Сделать промывание желудка. Выпить активированного угля. Не думать об истине и проч. Почитывать на пляже Сартра, шокируя приматов. Не летать самолетами «Аэрофлота». Улыбаться!
Тихая семейная жизнь
«И зачем я женился?!..» — Федя Достоевский чересчур громко вздохнул, выходя из некрасивого подъезда некрасивого своего дома, чем вызвал неподдельный интерес патрулирующей некрасивую скамейку некрасивой старухи: «Здрасть» — «Здрасть», — сквозь зубы и коронки. А как вышел, нижние конечности сами понесли тело в винно-водочный, где Федя купил несколько «чекушек», да и потопал в парк: а куда ему еще без денег в субботу вечером?
В парке выгуливали себя и собак нормальные люди, у которых все было хорошо, а не как у Феди. На лицах нормальных людей читалось умиротворение, довольство и то самое чувство превосходства, которое могут позволить себе иные особи, не отягощенные вопросами Фединого «формата». Они плыли, перетекая из твердого состояния в жидкое, из жидкого — в газообразное, и так — по кругу, бесконечно, много-много смен времен года. «Так было всегда, и это никогда не кончится, — думал Федя, откручивая голову первой „чекушке“. — Господи, куда б ее деть, а?» — последнее, правда, относилось уже не к пробке, резво отправленной в кусты, а к Ж: Жене, жене, женщине-матери — и все такое, со всеми вытекающими.
Федя поморщился, сделал довольно большой глоток и присел, после недолгих поисков, на бревно: после ста залп-граммья жизнь не то чтоб пошла веселей, но, во всяком случае, уже не казалась такой противной, хотя, безысходной, пожалуй, оставалась: проблема ведь, помимо всего прочего, состояла еще и в том, что Федя действительно не знал, какое из двух зол хуже. «Униженный и оскорбленный» — пронеслось в голове, но так же и вынеслось: что, в конце концов, значит его проблемка, если посмотреть на ту ну уж если не из космоса, то хотя бы с высоты птичьего полета? «Птичьего помета», — сплюнул Федя, сделал еще глоток и вспомнил, как однажды, в самолете, с любопытством прижался к иллюминатору. При виде земли сверху в его мозгу совершенно отчетливо что-то щелкнуло, да так навсегда вместе с тем щелчком и застряло, удобно расположившись в крошечном, но все же мешающем жить, как нормальные люди, файле: «Маленькие человечки с маленькими проблемками. Достоевщина: отстой!». Однако в салоне самолета думать о скучностях-мерзостях человечков оказывалось гораздо проще, нежели сидеть вот так на бревне, пить водку и совершенно четко осознавать, что кто-то в небе, абсолютно так же, как и когда-то он сам, гоняет те же не претендующие на новизну мыслишки. От этого становилось еще неуютней: и вправду, до чего он, Федор Достоевский, дошел? Как докатился, как посмел, на что угробил (далее о мамаше) «лучшие годы»? Мало того что жить с такой фамилией непросто (вечная ухмылка друзей, коллеги других инакомыслящих) — так ведь еще и плохо жить! «А когда ты, Федор Михалч, стал плохо жить?» — спросил себя Федя и, сделав еще несколько больших глотков, принялся неспешно-подлинно, «чиста-а па-русски», размышлять.
А так: поначалу все, что называется, пёрло — и в школе, и в универе, и с диссером, и с лабораторией… Друзья. Книги. Байдарки-палатки-гитары. Неплохая родословная. Девы, всячески влюбленные в него, высокого, острого на язык очкарика, разбиравшегося не только в формулах. В него, скромно блистающего английским. В него, непринужденно беседующего как с профессором так и — по необходимости — с «ментом поганым». В общем…
Но ведь женился.
Женя пришла к ним в лабораторию мыть пробирки: в коротком халатике (подробности на усмотрение читающего). Она была, разумеется, бедной, красивой и одинокой. Она мыла пробирки полгода, пока на одном из застолий — защита чьей-то докторской — он, Федор Достоевский, отчего-то не махнул лишку да не вызвался провожать лаборантку до ее Кукуево. После проводов Федор Достоевский имел неосторожность трогать и раздвигать Женины ноги, и именно она, эта неосторожность, и превратила необычную Женю в самую обыкновенную жену. И, быть может, именно ее родинка под левой ключицей и сыграла роковую роль в том, что можно назвать «дальнейшей судьбой героя»: пошить так пошлить.
Однажды, ну очень холодным зимним вечером, Федор Достоевский слишком долго изучал эту ее родинку, а потом сказал то, что говорят практически все пребывающие в некоем гормональном неадеквате мужчины: «Давай жить вместе». Женя поправила свои крашенные в белое волосы да и вжалась носом на веки вечные в плечо Федора Достоевского: продолжение следует!
Она не понимала, как можно всю жизнь смотреть в микроскоп: мытье пробирок казалось ей даже менее бесполезным занятием, пусть и расценивающимся как «неквалифицированный труд». Поэтому когда Федор Достоевский подвел ее к пресловутому прибору, Женя хоть и потрудилась проявить определенный интерес, оказался тот настолько наигранным, что надежда русской науки быстренько ретировался.
В скором времени вся лаборатория сопела на все лады разноголосицей: «А вы знаете?..». Умные некрасивые крыски в серых халатах, мечтавшие выйти за Федора Достоевского, кусали губы и заусенцы, что и ускорило появление на свет еще одной ячейки общества: так Женя Петрова стала Евгенией Достоевской («Слыхали ль вы?..»), и это впрямь звучало б гордо, кабы не столь громоздко.
Свадьба получилась шумной и, скажем так, веселенькой; невеста, перепив шампанского, чуть не перепутала жениха с другим — впрочем, никто не подрался и за полночь гости, сытые и почти довольные (да разве могут все быть довольны всем?), разошлись восвояси. Достоевские же, оставшись наедине, ощутили вместо трепета плоти лишь усталость и, не сговариваясь, нырнули в кровать, на которой уже минут через пять безмятежно, нос к носу, посапывали.
Евгения Достоевская, переехавшая из крохотной съемной комнатки чужой бабки в просторную квартиру Федора Достоевского, доставшуюся ему от бабки родной, быстренько ощутила все прелести тихой семейной жизни. Первым делом она бросила мыть пробирки. Во-вторых, занялась благоустройством гнездышка, а в третьих, с энтузиазмом приступила к деланию киндера: «Я так хочу от тебя маленького!» — и на попытки Федора Достоевского «подождать» и «пожить немного для себя» твердила: «Не могу ждать, мне двадцать семь, скоро я стану старухой и рожу тебе ежа!» Через какое-то время сия тирада возымела действие, и Евгения Достоевская — ни много ни мало — уже представлялась Федору Достоевскому слегка модернизированной «Мадонной Бенуа».
Поначалу в перерывах между деланием ребенка Достоевские разговаривали. Словарный запас Евгении Достоевской ненамного превышал количество слов Эллочки-людоедочки; Федор же Достоевский по причине, как сказали бы во времена Федормихалыча, любовной страсти был слеп и того, что его супруга не читала не только романов того же Федормихалыча, но и сказок Пушкина («Классный шоколад!»), как бы не замечал.
— Я выросла в простой тульской семье, что ты хочешь? — постоянно повторяла она, если не знала, что сказать или как сформулировать, и через некоторое время сия фраза стала заупокойным рефреном их стандартного рондо, где эпизоды нежности (плоть) и отчаяния (не плоть) звучали в голове Федора Достоевского когда хотели и как хотели.
Однако, несмотря на пробелы в образовании, делание киндера благополучно завершилось беременностью супруги, что и требовалось доказать. С одной стороны, Федор Достоевский был рад и горд собой как всякий опылитель-осеменитель. С другой, все чаще засиживался он в лаборатории: признаться же себе в том, что ему не хочется не то чтоб домой, а именно к этой бестолковой брюхатой, кишка оказывалась, как говорят, тонка-с. Может, именно поэтому — от противного — Федор Достоевский и добился хоть чего-то в науке, которую к тому времени, ввиду отсутствия самоокупаемости и мгновенной прибыли, уже почти упразднили.
Когда же Евгения Достоевская родила, случился очередной дефолт, и на зарплатку Федора Достоевского прожить троим оказалось решительно невозможно.
— Что ты все пишешь да пишешь? — сердилась Евгения Достоевская на супруга, делающего наброски к статье, которая никогда не будет опубликована. — Мужики вон деньги зарабатывают, а ты все строчишь! — и тут же топорно пошлила: — Уч-ченый, хрен моч-чены-ый!
Так Федору Достоевскому пришлось заняться техническими переводами. Однако переводить под крики новоиспеченного киндера и недовольное гудение супруги оказалось не так-то просто. Единственным глотком воздуха в жизни Федора Достоевского стало посещение своей — одной ногой закрывшейся — лаборатории. Когда же Евгения Достоевская узнала о том, что супруг тайно ходит туда, скандалы вошли в привычку:
— Ты ч, дурак? Они ж не платя-ат! Какого черта тратить на них время?
— Потому что это целая жизнь! Потому что не все опыты заморожены, ты не понимаешь…
— Конечно, не понимаю, я ведь выросла в простой тульской семье, что ж ты хочешь? — злилась Евгения Достоевская, и действительно не понимала того, почему ее супруг — конечно же «лох, полный лох»! — «пашет бесплатно».
Все чаще Федор Достоевский захаживал в кафе, где за чашкой дешевого чая переводил чью-то очередную, как он ее называл, «муть». Все чаще уходил в библиотеку, где давным-давно сидела на раздаче книг когда-то влюбленная в него, а теперь — просто бывшая (поезд ушел!) — одноклассница. Все чаще просил у друзей ключи от четырех стен с диваном — библиотекарша к тому времени оказалась окольцованной и к девяти бодренько бежала к родному порогу, заскочив по пути в гастроном за килькой для кошки Дуси. Федор Достоевский радостно не подозревал об этом и думал, будто книжница всю неделю пережевывает воспоминания о нелепых стонах, вызванных еще более нелепыми, подсмотренными в книжке позами, да и черт с ними.
А вот с Евгенией Достоевской стали происходить тем временем вещи определенно странные. Проснувшись ночью, она частенько бежала в ванную и долго-долго, иногда по полчаса, терла руки мылом и пемзой, стирая кожу до кости. Проснувшись утром, кидала в стирку белье из прачечной: «Ты что, не понимаешь, сколько там заразы?». Несколько раз на дню драила без того чистый пол: «Неужели ты не можешь мне помочь? Я же не успеваю, я же теперь ничего не успеваю…» — и кричала, кричала…
«Как-то это называется, — не мог вспомнить Федор Достоевский. — Как-то же ведь это называется…». Потом брал справочник по психиатрии, читал и, тут же забывая, открывал снова.
— Па-па-а-а-а-а! — орал киндер, не отставая от простой тульской ма. — А-а-а-а!
Федор Достоевский обреченно шагал из кухни в комнату и, надевая маску отца семейства, бодренько спрашивал:
— Кто нас обидел? Чего мы плачем? — киндер затыкался до тех самых пор, пока Евгения Достоевская не подбегала к кроватке и не тащила упирающееся чадо в ванную: последнее время она стремилась начистить до блеска не только кастрюли, но и людей.
— Ты купала его час назад, он спал… — преграждал дорогу Федор Достоевский, сначала просто отпихиваясь от супруги, и лишь потом, много позже, когда стало по-настоящему невыносимо, привязывал ее дрожащими руками к батарее, затыкал рот полотенцем и вкалывал димедрол.
— Хотите в грязи зарасти, свиньи? Да, я родилась в простой тульской семье, и что? — всхлипывала наутро притихшая Евгения Достоевская и, будто забыв о киндере, отправлялась с пемоксолью в сортир: унитаз блистал отвратительной белизной, не вызывая у Федора Достоевского ничего, кроме гадливости.
Иногда, правда, случались просветы — буйство супруги сменялось кротостью и смирением, тогда Евгения Достоевская с тревогой в голосе спрашивала:
— Почему ты худеешь, а? Тебе не нравится, как я готовлю? — и тупо шла к плите, но не готовила, а медитативно замирала над сковородкой, поджав ногу, и постанывала: — Я цапля, цапля… Я цапля! — когда-то Евгения Достоевская умудрилась прослушать радиоспектакль «Чайка».
В такие моменты Федор Достоевский понимал, что хотя бы на какое-то время может безнаказанно свалить из их гнездышка и она — теперь он называл супругу исключительно она — не натворит дел.
Именно в такой день он и пил в парке недалеко от дома, заимаясь последним на свете делом, а именно — жалел себя. «Чекушка» — и еще, и еще, еще… — заканчивалась, и Федя, прикрыв веки, пытался прислушаться к своему внутреннему голосу: сегодня ведь был его день рождения — железным ключом по голове долбили его по очереди все двенадцать месяцев тридцать шестой уж год.
Водка шла удивительно легко; черные деревья, почти уже без листьев, не навевали привычной тоски (Федя никогда не любил осень): наконец-то можно было вдосталь намечтаться о смерти, не боясь быть застигнутым врасплох за этим щекотливым занятием. И вот, когда суицидальние глупости, казалось, окончательно заполнили серое вещество Феди, на его бревно присел бородатый мужик с пузатой двухлитровкой. Лицо показалось Феде знакомым, и все же он не мог понять, где и когда его видел. Мужик тем временем поинтересовался:
— Не помешаю?
— Не помешаете, — ответил Федя, — коли нальете, — и покосился сначала на пузырь мужика, а потом на странный крой его костюма — и где он только такой откопал? Сто лет назад такие носили, ей-богу…
— А чего ж не налить-то! И налью! — цокнув языком, мужик полез за пазуху и достал два граненых стакана. — Ну, браток, с днем рожденьица!
— Откуда знаешь? — Федя задержал поднесенный было к губам стакан.
— Да как же… вон, соседка… у подъезда… — замялся мужик.
— Странно, — выпил Федя полстакана и крякнул, — ей-то откуда знать? Хотя, эти… эти суки все знают… про всех… Ладно, без разницы… — Наливай! Тебя как зовут?
— Михалычем, — ответил мужик и погладил бороду.
— Ну, за тебя, Михалыч, — выпил Федя, еще раз крякнув, и неожиданно для самого себя произнес: — А представь, мужик, жить с фамилией Достоевский? А я ведь ничего кроме этого чертова «Преступления…» да первого тома «Идиота» и не читал. Не мой писатель! Начнешь — и тоска такая берет… вот как сейчас: тридцать шесть, а хоть в петлю.
— Ты, Достоевский, жизни не нюхал. Вон у меня знаешь, как было? — мужик снова погладил бороду. — Отец и пил как зверь, и бил как зверь. Маменьку в гроб загнал раньше времени. Потом его крестьяне подушкой задушили, когда в экипаже…
— Постой, какие крестьяне, какой экипаж? — не понял Федя.
— Да не перебивай! Подушкой, говорю, отца задушили. Братья спились. Оба. Варька двинулась от жадности: жилец из ее же дома сестрицу мою и укокошил… — сказав это, мужик неожиданно странно задергался и стал сам не свой.
— Эй, Михалыч, ты чего, Михалыч, ты ч-о-о?
Мужик свалился на землю; не сразу распознав эпилепсию, Федя все же успел протолкнуть в рот незнакомца ручку перочинного ножа.
Через какое-то время пены не стало, и вообще немного отпустило. Потерев виски, Федя медленно, почти по слогам, произнес:
— Ты… Вы… Что… на самом… на самом деле… ну… Федор Михайлович? Ну… так сказать… Достоевский?
— Ну, Достоевский, — пожал плечами мужик.
— Да как же так? Он же давно умер, умер, умер!!
— …умер? Нет, не похоже, — сказал наклонившийся над молодым мужчиной человек. — Пьяный просто. Они живучие, сколько ни влей — все нипочем!
— А не замерзнет? — засомневался женский голос.
— Да нет, ночи-то пока не холодные, проспится, завтра похмелится — и будет как огурчик.
— Ой, а я столько огурцов на зиму засолила, объеденье… Угостить вас, Федор Михайлович?
Утром в Филёвском парке обнаружили труп Федора Достоевского. Во внутреннем кармане его пиджака был найден паспорт, ключи от квартиры, двадцать шесть рублей мелочью, а также репринтное издание второго тома «Идиота».
Город-синкопа
Есть люди, которые сдают квартиры, и те, которые снимают. Алевтина снимала. Ее скворечня размещалась в Саккале, в Старом городе. Когда-то, много лет подряд, она приезжала сюда с бывшим, а потом с подругой. Последний раз они останавливались в «Реджине» — уютном и удивительно зеленом для Хургады отеле, находящемся аккурат против вездесущего Macdonalds'a, дотянувшего-таки свои щупальца и до сумасшедшего арабского мира. Тогда, в прошлой жизни, Саккала была для Алевтины одной сплошной улицей-базаром: ароматические масла, сувениры из чего только можно, кальяны, «арафатки», шикарная — на любой карман и вкус — ювелирка, предлагаемая чересчур темпераментными торговцами, обижающихся на «арабов» и требующих к себе гордого «египтяне», — все было в диковинку, все не как в Симфе, который хоть и Крым, а без моря… Здесь же — Красное: удивляющее, самое чистое, с миллионами пестрых рыб и радужными кораллами! Туда, в эту самую чистоту, и сбегала Алевтина от синкопированного ритма Саккалы: ах, если б она знала, ЧТО есть сие, то непременно назвала бы Хургаду городом-синкопой! Но музыке и другим искусствам дива не училась, а если чему и «да», то весьма неважно: еле школу окончила. Точные науки не давались (да и не упиралась особо), а к гуманитарным особого рвения Алевтина никогда не испытывала: история казалась мертвой, литература — нудной… Наверное, только английский помог ей выплыть и поступить на иняз, который в полноги она все же умудрилась закончить, едва не вылетев за непосещение, выскочив на пятом за Бориса — некоего предпринимателя, канонически «снявшего» ее, слегка подшофе, душным летним вечером: они с подругой курили и громко, слишком громко смеялись — этот-то ее заливистый смех и сделал свое — ни белое, ни черное — дело. Странным образом их постельные встречи переросли в то, что принято называть «чем-то большим», и вскоре они, к удивлению Бориса, окольцевались.
Как замедленную съемку, прокручивала Алевтина теперь кадры из прошлой жизни: единственное, по ком скучала она в стране фараонов и пирамид, так это по дочери, оставленной с богом у тещи Бориса — тонкогубой говорливой хохлушки, да по комфорту, к которому успела привыкнуть за пять лет хождений по деньгам под фамилией Хотиненко: в Симфе она никогда нигде не работала и раньше одиннадцати вставала редко.
«Куда ты хочешь поехать?» — спросил ее тогда Борис, и Алевтина, не задумываясь, ответила: «В Египет». Он предлагал ей Италию, Испанию, Грецию — да мало ли на свете стран! — но она артачилась. Что-то мистическое тянуло ее на северо-восток Африки — самой настоящей Африки, где она никогда не была, а Нил вот был, и тек себе век от века, и ее, Алевтинино существование, грязную реку почти в семь километров длиной, совершенно не колыхало…
Первый раз они полетели в Хургаду в октябре 99-го. Пальмы из окна автобуса, который вез их в отель квартала Дахар, отличались от ялтинских размерами и… самой пальмовостью — а может, Алевтине так казалось? Борис, много где побывавший за свои тридцать шесть, исподволь наблюдал за двадцатилетней девчонкой, впервые вырвавшейся из Крыма так далеко. «Я обожаю эту страну! — важно заявила она ему, расставляя свои разноцветные флакончики в белоснежной ванной отеля. — Обожаю!».
В городе ее поразил нервный и будто рваный ритм — тот самый, синкопированный, когда слабая доля смещается на сильную и вместо привычных уху двух восьмых и четверти, сыгранных подряд, звучит — стучит? — восьмая, четверть, восьмая… Мужчины в длинных, до щиколоток, одеждах с тюрбанами на голове; попрошайки; люди на ослах и джипах, для которых правил движения не существовало никогда (да и что это такое — правила?); уличные торговцы: «Бакшиш, да-а?!..» — зазывающие в шопы да глазеющие во все зрачки на белую-в-сущности-еще-девочку, худенькую блондинку со светло-серыми глазами и крупной грудью; практически полное отсутствие женщин — а если те и появлялись, то лиц не казали, в платки многослойные заворачивались… Но самым странным показался Алевтине воздух: совсем не такой, как в Крыму или в России, нет-нет! Здесь, в Египте, сам воздух смеялся, пританцовывая вместе со всеми, он пах по-другому — воздух: шумом, непонятным наречием, суетой, благовониями, пастермой и кушари — последнего она еще не знает, не знает… И вот, будто из него самого, из воздуха, появляется уже заглюль — сладкий буро-красный фник на ладошке, ах, хрустящий, «Никогда не пробовала сырые» — «Это лучший сорт, красавица!» — и дальше, дальше, дальше, сквозь узкие улочки арабских кварталов, где роскошь и нищета в миллиметре…
Если б Алевтина читала «Поэму Воздуха», то поняла бы: это — ее ПЕРВЫЙ ГВОЗДЬ, но она не понимала Цветаеву и вообще — стихов, она сама была в чем-то стихом и воздухом, хаотичной и «безбашенной». Мать, разведенная педантичная литераторша, ценившая прежде всего порядок, чего бы тот ни касался, часто бросала вскользь: «Никто тебя замуж не возьмет! Кому ты такая нужна? У тебя же в голове — ветер!» — но Алевтине, в сущности, совсем не хотелось замуж, она привыкла к коротким, ни к чему не обязывающим романам, а раз уж так вышло с Борисом… почему нет?
Но — вот он, ветер! Впервые в жизни Алевтина по-настоящему счастлива — здесь, в бывшем рыбацком поселке Эс-Саккал, об истории которого и слыхом не слыхивала; через одиннадцать дней она понимает, что обязательно вернется, вернется…
Как пишут экономные авторы, «прошло несколько лет»: позволим себе подобные титры и мы. Итак, прошло несколько лет… Алевтина родила (живая девочка, вес 3500, 53 сантиметра, глаза серые) и побывала в Египте еще несколько раз — в Шарме с мужем и в Хургаде — с подругой. Борис отпустил их с Верой с легким сердцем — наверное, после трех лет совместного житья не грех провести отпуск отдельно. Впрочем, его удивляло настойчивое нежелание Алевтины ехать еще куда-либо, кроме этой исламской страны, где арабы порядком действуют на нервы назойливым: «Купи!», и не только. Из нищего Крыма любая мечтала вырваться в уютную Европу, но Алевтине та была ни к чему. Она хотела на Красное море, в Город-синкопу — ведь ПЕРВЫЙ ГВОЗДЬ давно был вбит: «Уверенность в слухе и в сроке» — впрочем, «Поэму Воздуха» она так и не осилила.
В тот ноябрь она снова летела в Хургаду: у Бориса были «проблемы», о которых он никогда не распространялся. Лениво потягивая манговый сок на балконе, Алевтина листала путеводитель. «А поехали-ка завтра в Луксор», — сказала Вере, рассматривавшей купленные папирусы. — «Завтра? Но мы же хотели на Гифтун, катер в девять…» — «К черту катер, давай в Луксор. Ты же хотела в этот… как его… Карнакский храм?» — «Да…» — «Про деньги забудь, я заплачу».
Дорога до Луксора на автобусе заняла часа четыре. Несмотря на то что выехали рано, в шесть, Алевтине совершенно не хотелось спать, и она даже тихонько фыркнула, увидев задремавшую Веру. Нет, не для того она едет в этот город… А для чего, для чего она едет? История Египта ее мало волнует — мертва-с; Хургада и Шарм оборудованы специально для туристов — так какого черта тогда тащиться почти триста километров неизвестно куда? Но у нее какое-то предвосхищение, предчувствие… — ч? — она сама еще не понимает. К тому же четвертого ноября в Луксоре праздник — день открытия гробницы Тутанхамона, а сейчас как раз четвертое, значит, если в путеводителе не врут, в городе фестиваль искусств, а поэтому… Что? Что? Что поэтому? Она смотрела на сменяющие друг друга пейзажи и ни о чем не думала: сначала были отели, потом началась ничем не примечательная трасса, а потом как-то так стразу — желтоватые пыльные горы, стоящие, словно декорации, справа и слева от узкой петляющей дороги.
В десять были в Луксоре. Шумная толпа арабов едва не закружила Алевтину, отбившуюся от группы. Гид — Га-аль — вернулся за ней и, улыбнувшись, погрозил пальцем: «Русский, не отставай!». Перед Карнакским храмом снова улыбнулся и затянул привычное: «Нивазможна асмотреть Карнак за адин расс… культ Амона… тысячья пятьсот лет… состоит из трех чьястей: храма Менту, храма Мут и храма Амона…» — удивительно, но Алевтине со всем ее невежеством вдруг небезразлична стала эта «мертвая» история; она ловила каждое слово Гамаля и послушно поворачивала голову в нужную сторону: «А тьеперь пасматрити налефа…»
И она посмотрела налево, Алевтина. После Музея папируса (жуткий, жуткий WC!) она глаз не спускала с Гамаля и, когда их привезли в ресторанчик, села с ним за один стол, сделав Вере останавливающий жест ладошкой. После обеда была переправа через Нил и что-то еще, что-то еще, что-то еще… Но Алевтина уже плохо соображала: смуглая кожа, волнистые волосы и темно-карие глаза заслонили и Город Мертвых, и город живых. «Да что с тобой? Крыша поехала?» — пытала ее Вера. «Поехала…» — процедила Алевтина и повернулась к Гамалю: «Ты классно говоришь по-русски, где ты учился?» — «В Каире. Русский — очьеннь сложна! Столько падьежей…» — «Каир далеко?» — «Да, от Луксор симьсот с лишним киламетраф. А да Массквы ищ дальше» — «Я из Крыма, не из Москвы» — «С Крыма? Ты красивая, ты будьишь со мной? У тибья такой бьелый кожа… Такие глаза…» — «Приезжай в Хургаду! Мы с подругой живем в Синдбаде» — «Ты будишь смиятца — но я послезавтра ехать в Хургада работать; здесь последний день. А в Хургада у меня родственники. Я найду тибья! Сколько дней вы будьете в город?»
И он нашел ее, и она светилась от счастья, и они ели в «Фельфелле» гадов морских, и смеялись, а ночью он целовал ее, и пальцы ног — особенно долго: «Если араб полюбит…» — многозначительно говорила Алевтина Вере, а та ужасалась: «Но ты же не бросишь ради него своих? Не бросишь?» Алевтина ничего не говорила и с ужасом считала дни, оставшиеся до отъезда в рiдну Украiну.
В декабре она снова летела в Хургаду, придумав себе депрессию и уложив мужа на лопатки непреложностью: «Мне нужно побыть одной. ТАМ».
Гамаль встречал ее в аэропорту, а потом снова целовал, называл «египетской розой», и это не звучало банально. На катере, несшем их в чудесную Эль-Гуну, Алевтина говорила себе, что впервые в жизни так влюбилась. Но самым неожиданным для нее самой оказалось то, что ради Гамаля она была готова выбросить из жизни не только Бориса (кто такой, в сущности, Борис?), но и маленькое создание с вьющимися льняными волосами — такими же, как у нее… (Если бы она знала, кто такой Дебюсси, то непременно вспомнила бы известную прелюдию, но девушка с волосами цвета льна не попадала на нужные клавиши, и потому мелодия звучала фальшиво).
…Две недели пролетели как миг: снова проклятый Симф замаячил своей никчемностью, и даже малышка не могла отвлечь ее от бредовой идеи уехать в Египет насовсем: ведь там был Гамаль, а здесь — кто?
В конце концов после долгих сомнений Алевтина решилась. В феврале, когда из-за песка впору ходить в сапогах, она процокала в своих коротеньких мимо пальмы. У нее была рабочая виза и не существовало никакого прошлого. Гамаль, ошалевший, переминался с ноги на ногу: «Я люблю тьебя, я не думал, что ты правда сможешь… у тьебя там дочь… Я не вьерил… Я скоро летьеть в Америка — … на полгода… у менья контракт…» — «В Америку? Контракт? Полгода?»
Через две недели, подыскав ей квартирку — маленький скворечник с видом на помойку — он уже летел в Нью-Йорк: Гамаль долго объяснял, но она так и не поняла зачем.
Пути назад не предполагалось; надо было как-то выживать, а открытая рана и не думала затягиваться: ей было плевать, ране, на все «надо»! Но что египтянам до ее ран? Они видят в ней только белую женщину; каждый хочет переспать. Алевтина работает сначала в Macdonalds'e, но быстро уходит, не выдержав грубого напора темных ребят. Потом, не зная куда податься (деньги заканчивались; Гамаль отправлял sms-ки, не имеющие звука и запаха), она знакомится с одной русской, и та устраивает ее в турагентство на свое место, удивительно быстро сматывая удочки. Алевтина держится там три месяца, а потом еле уносит ноги: «Ты украла семь тысяч фунтов!»
Так Алевтина уходит в пустыню.
…
Место, куда нас привезли, имитировало восточный шатер. Девчонка лет двадцати с небольшим повязывала туристам «арафатки», которые мы упорно называли «ясерками», так, чтобы при поездке на квадроцикле (управление только «газ-тормоз», сущий кошмар этот полуавтомат — ей-богу, машину легче водить! «Особенно сзади, когда тебя трясет и ты вспоминаешь, что не успел составить завещание», — добавляет Марина песок не попадал в лицо.
«Меня зовут Алевтина, я буду вашим гидом», — говорит девчонка звонко. Я поначалу принял ее за шлюшку — белой женщине действительно очень трудно существовать среди арабов — хотя тут же и отругал сам себя: почему обязательно «шлюшка»? Мою девушку тем временем снимали уже с верблюда, а после этого издевательства над ни в чем не повинным животным, раз двести в день встающим на колени перед туристами всех мастей, подвозили ямаховские квадроциклы. Сцепление на этом гениальном приспособлении выжимать не надо; передачи переключаются вверх-вниз одной левой. Как оказалось, можно было нажать сразу на пятую передачу, да так на той и ехать; даже если сбросить газ и остановиться, мотор не заглохнет. Как говорили в турагентстве, управлять такой машинкой «может даже подросток».
Мы с Мариной взяли по квадроциклу, но в последний момент она испугалась вести сама и подсела к Алевтине, посчитав, что с девушкой будет не так страшно ехать до поселения «декоративных бедуинов», которых нам обещали живыми (со мной тоже боялась, зная мою страсть к гонкам).
Марина просчиталась: Алевтина гнала безумную машинку так, что несколько раз обе дамы чуть не вылетели — покалечиться таким образом легче легкого. «Эй, я сейчас тебя убью, поняла? Помедленней!» — но Алевтина будто ничего не слышала и только смеялась: «Да ты что! Это же адреналин! Мне потом люди спасибо говорят!» — «Я тебе такое спасибо устрою, когда доедем, мало не покажется! — кричала Марина, еще сильнее вцепляясь в нее. — Я жить хочу!» Кажется, Алевтину — то обгоняющую, то отстающую от группы — это только распаляло, и она гнала еще быстрей. «Ты что, каждый день так?» — спросила ее Марина, с трудом переводя дух, когда Алевтина немного устала и поехала чуть медленнее: наконец-то можно было рассмотреть дикую красоту пустыни. — «Да. Полгода», — и запросто, неожиданно для себя самой, выложила ей все.
Марина сошла с квадроцикла сама не своя и долго смотрела на девчонку, на износе душевных шин рассказывающую туристам о бедуинском поселении — сначала на хорошем английском, а потом на плохом русском. «Перед вами колодец, 25 метров в глубину. По краям, вниз по спирали, идут ступеньки; они выкопаны вручную… А вот жилище бедуинов. С этими можете сфотографироваться… Еще есть аптека… все эти травы…»
— Она говорит одно и то же каждый день в течение шести месяцев, — ужасается Марина. — И ни разу не была на море. На прачечную уходит куча денег: кругом один песок… Работает с одиннадцати до десяти… Ползарплаты идет за квартиру…
Я вижу грязную бедуинскую женщину с почерневшим лицом, прикорнувшую рядом с ней козу, ребенка и курящего траву главу семейства. Все это кажется фарсом, а бедуинский чай в маленьких немытых кружках мы с Мариной не пьем. Назад ее везу я — к Алевтине она уже не садится и грустно произносит: «Гамаль пока не приехал. Но обеща-ал…»
…
Есть люди, которые сдают квартиры, и те, которые снимают. Алевтина пока снимает. Ее скворечня размещается в Саккале, в Старом городе. Когда-то, много лет подряд, она приезжала сюда. Последний раз она останавливалась в «Реджине» — уютном и удивительно зеленом для Города-синкопы отеле, находящемся аккурат против вездесущего Macdonalds'а, дотянувшего-таки свои щупальца и до сумасшедшего арабского мира. Тогда, в прошлой жизни, Саккала была для Алевтины одной сплошной улицей-базаром: ароматические масла, сувениры из чего только можно, кальяны, «арафатки», шикарная — на любой карман и вкус — ювелирка, предлагаемая чересчур темпераментными торговцами, обижающимися на «арабов» и требующих к себе гордого «египтяне» — все было в диковинку, все не как в Симфе, который хоть и Крым, а без моря.
И тут я рассмеялся
И тут я рассмеялся: Софка рыдала! Рассмеялся беззвучно, беззлобно; да и как не заняться сокращением лицевых мышц, пусть и понарошку? «Мужика… нормального… не идиота… хочу-у-у…» — истерила она, выпив еще двести, а я поддакивал: «Я тоже», — и маслины к ней, к ней. «Моление о мужике» — не «о чаше» — явная оговорочка известно по ком: Софка не спит «с нашим братом» лет эдак… предостаточно, в общем, лет.
Маслины. Поближе. Почему нет? У него были красивые руки. Почему — «были»? Похоже, я пьян.
Знаю я Софку лет двадцать, с ГИТИСа — золотое время! Феллини-Меллини вместо нудных утренних лекций, на которые обречены студенты всех времен и народов, плюс многое из того, что было недоступно «обычным людям»: я часто встречал их в метро и на улице, хотя и старался обходить.
Сходила Софка давным-давно, в том же ГИТИСе еще, замуж, лихо вернулась обратно, а потом резко затормозила, да и ушла на 180. Ее женщина — довольно экстравагантная дама так называемого растерянного поколения — нашла Софку на скамейке в Летнем саду: у статуи «Ночь» та ела мороженое, радуясь редчайшему сентябрьскому солнцу в этом городе. Ей все-таки удалось сбежать из Москвы: всего-то на ночь (вечные дела, которых минуют «обычные люди»), а вот поди ж ты! — на-сколько-М-и-Ж-не-живут-лет, загремела в объятия Анны, оказавшейся на подоконнике Европы случайно — той не терпелось побродить по берегу Финского, посидеть на камнях: когда-то, в юности, она любила сидеть на них, но эта невеселенькая ностальгия совершенно уже не печалила — Анна как будто отдавала дань женщине, повесившейся на собственной бронзовой люстре после этих самых камней. Но, впрочем, это другая история, и Софка не дает вставить ни слова:
— Ты понимаешь, мы вместе сколько-не-живут-лет! — отодвигает маслины. — Но я хочу чего-то еще. Кого-то. Да, вот так… Может, скотство всё… А, Плохиш? Налей-ка… Давай-давай!
— Ты помнишь, что Набоков «Доктора Живаго» называл «Доктором Мертваго»? — пытаюсь отклониться от темы и от бутылки.
— С какой целью спрашиваешь? — ее затуманенные глаза смотрят сквозь меня на стену, но видят одному богу известно что.
— А с такой: твой последний сценарий никакой совершенно. Резать надо. Перекраивать. Кромсать. Да вообще выкинуть! А куда тебе в таком состоянии? Ты двух слов не…
— А тебе? — перебивает Софка; если б была змеей, тут же сбросила б кожу. — Тебе — в твоем состоянии — как?
— А что… Живу. В любом случае я не мог, да и права не имел, ему мешать: ни тогда, ни теперь. Все слишком серьезно! Для него… — настроение портилось, когда я заговаривало человеке, с которым прожил много счастливых лет под этой самой крышей.
— Но ведь он бросил тебя! Ушел! Пусть даже ради… веры. Хотя знаю я эту их веру… — Софка не отставала; для того чтобы ей самой стало легче, она, казалось, специально стремилась причинить боль другому.
— Он к себе ушел. Не от меня. Он теперь отец Андрей! А я как был Гарри Друбич, Плохиш, так и… — но Софка, Софка-то била ниже пояса:
— А ведь ты любил раньше… эту… Кэт… Помнишь ведь Кэт?
…Помнил ли я эту немочку? О да! Еще бы! Я чудовищно желал ее в двадцать три… и в двадцать пять… И-го-го!.. Я слушал ее голос и говорил себе: «Ну вот, это она… Наконец-то! Она — навсегда» — но Кэт слишком лихо и чистенько (аккуратно, по-немецки, в перчатках) меня убила, в общем… Точка. Пустое. С кем не бывает? Гормоны… молодость… что там еще говорят в таких случаях?
А говорят вот что: она училась на актерском; ее фатер, не перетруждавшийся в посольстве, иногда забирал свою белокурую бестию на чудесной машинке, а мутер упоминалась всуе как синхронная переводчица. Кэт сыграла несколько эпизодических ролей у N, потом великолепную шлюху у NN, да и укатила в свой «очень дальневосточный Берлин». Она играла со мной, будто репетировала очередную роль, всегда в маске: грим, грим… А я шел за ней, как теленок, и когда она отказывала в малости — выпить после кино пива, «всего на полчаса», — ощущал себя последним дерьмом: раз Она не хочет…
В общем, после Кэт у меня не было love-stories очень долго. Сейчас, когда мне под сорок, когда перечитал «Платформу» Уэльбека — тот самый конец, в котором описан стареющий гей-верстальщик, приехавший доживать в Паттайю, — стало не по себе. Не то чтоб я боялся одинокой старости, да и Паттайя с красивыми смуглыми мальчиками мне явно не грозила, хотя как знать… — а просто все это было слишком, неимоверно грустно и гнусно. К тому же синонимичность существительных «гей»/«извращенец», «принятая» в нашем «демократическом обществе»… Да что говорить! Я заводился, снова и снова перечитывая электронное письмо А., а он…
…перечитывал Книгу Царств. Таквот. Там, в 18 главе 1 Книги впервые встречаются Давид и Ионафан. И в первом стихе речь идет о том, как душа Ионафана прилепилась к душе Давида. А ведь это была любовь с первого взгляда! И вот — полистай на досуге 3 и 4 стих — Давид и Ионафан заключили союз. Но его, как ты понимаешь, надо было чем-то закрепить, и Ионафан снял свое оружие и всю одежду, и отдал их Давиду. Сам догадайся, как эти вещи сами за себя говорят о характере союза: снятые меч и лук — это защита Давида, Ионафан намеревался его охранять. Но одежда… нет, эта связь гораздо глубже, чем думают многие! Хотя многие у нас как раз не думают — привычки нет, не научились… Они даже не знают, что такое — думать, впрочем… Скучаю, да… В любви, если только та — любовь, нет ничего греховного. В любой любви. Всё, что говорят людям, — гнусная конфессиональная ложь.
P.S. А Давид в тот же день поселился в доме Ионафана.
Буду в пятницу. Вечером. Как всегда.
И вот я снова вспоминаю «отца Андрея»; когда-то — много счастливых лет назад — самого, наверное, сумасшедшего человека двух столиц. В него влюблялись все: девочки и мальчики, бабушки и примерные мамаши с колясками, собаки и голуби… Я же, разобранный и разломанный, не реагировал ни на кого: ампутация чувства к Кэт как будто выключила меня из того, что называют «полноценной жизнью». Впрочем, «неполноценным» я себя нисколько не ощущал — просто ничего не хотелось; так бывает, знаете ли. И — все чаще в голову приходила гениальная эйнштейновская фраза… помните? Морскую болезнь вызывает не море, а люди: меня и правда потрясывало периодически от их навязчивого многословия, и не только — впрочем, об этом совсем уж скучно. Если же говорить «о дамах», то их заходы в набившие оскомину «горящие избы» вкупе с феминистскими нотками привлекали мало, поэтому я только и делал, что писал сценарии, переписывал, резал, еще писал, и еще резал… В общем, вел достаточно замкнутый — не считая работы — образ жизни, вызывая недоумение друзей, знавших меня раньше: до и с Кэт.
Когда же мы познакомились с А. — питерским режиссером и впоследствии — уже в 90-е — продюсером, которому приглянулся мой сценарий о телезакулисье — злой такой «социальный» сценарий, жесткий (на тот момент времени, конечно), — я и понятия не имел, к чему могут вообще привести съемки.
Он был старше, носил бороду и черные шелковые рубашки: в глаза бросались запонки самых немыслимых форм и расцветок, но, в общем-то, в остальном пижоном А. не был. Об ориентации же его никто особо не знал, за исключением друзей — мы познакомились позже: славные киношные ребята, прикрывающиеся женами или подругами, которые, впрочем, так же прикрывались ими — девочки были еще те. Они не задавали лишних вопросов и упархивали с улыбкой, словно тонкокрылые насекомые — странно, что не через форточку; они пахли собой, алкоголем и дорогим парфюмом — впрочем, как и А. в тот поздний вечер, когда съемки закончились за полночь и все решили наконец-то расслабиться. «Кларет — вино для юнцов, порто — для мужчин, но тот, кто стремится стать героем, должен пить бренди!»[29] — А. заговорщически подмигнул мне, доставая из бара пузатую бутылку. Не знаю, что там во мне тогда перемкнуло — то ли от усталости, то ли от опустошенности, черт его знает — только совершенно внезапно я поймал себя на мысли, как сказали бы, от лукавого: «Вот это глаза… В таких утонешь — не заметишь!». Обыкновенно фразы такие применительны к женскому полу, и я растерялся; А. же, приметив эту мою растерянность, ничем себя не выдал: о, то слишком тонко для «грубого мужского секса», как называют его те, кто ничего в нем не смыслит.
Несколько раз мы «дублировали» таким образом «джонсоновские бренди», а потом случилось то, что случилось, и слова любви, слетевшие с его мужественных губ, были обращены ко мне, и ни к кому другому. «Ты, конечно, можешь сейчас же уехать, но я подумал — ведь хуже не будет, хуже ведь не бывает… Гарри, ты чувствовал когда-нибудь мужчину?»
…
У Гарри о ту пору мужчин не было, и «он» не знал, как реагировать. «Его» безумно тянуло к этому человеку — от него шел такой изнурительный аромат свободы — да-да, именно изнурительный аромат свободы, — что крыша по-настоящему плыла.
Однако в тот вечер «Гарри» стало не по себе: «он» отвел глаза и промолчал. И каково же было «его» удивление, когда «он» увидел А. — самого А.! — стоящего перед ним на коленях! Но даже в такой позе А. не казался плебеем — напротив: царская «стойка». Гордая. Удивительная.
— Постельные сцены в тексте отсутствуют? — нетерпеливо любопытствует любезный читатель и, испугавшись собственных крамольностей, тут же прячется за спину Гарри, продолжающего как ни в чем не бывало: «Он был богат. Я, в общем-то, тоже не беден, но если б не деньги, которые А. удивительным образом умел доставать буквально „из-под земли“, большая часть всех этих фильмов никогда не увидела бы свет. Впрочем, я никогда не обольщался: Бунюэля или Бергмана из меня так и не вышло — да фигуры такого масштаба здесь и сейчас и невозможны: авторское кино, в сущности, удел избранных. А в стране, где живет Плохиш Гарри Друбич, навсегда избраны „кухаркины дети“».
Софка слушала меня, подперев голову рукой; глаза ее готовились брызнуть Ниагарой. Налив еще сто, она все-таки разревелась:
— А как же секс? Наверное, это так мучительно… Одной любовью разве сыт будешь? — она подхватила вилкой колечко лука и проглотила вместе со слезой. — Не представляю, как можно любить на расстоянии так долго! Бедные мои мальчики…
И тут я рассмеялся, а Софка, кажется, обиделась: впрочем, скоро пятница, вечер. Ничего, кроме этого, ничего не имеет смысла.
Восьмая нота. Mozart
— Ялос, Ялос! — услышала Мария и обернулась. — Ялос!
Человек в белом напудренном парике, одетый по европейской моде восемнадцатого века, шел по Набережной и, размахивая руками, говорил сам с собой.
— Ялос! — человек приблизился к Марии, а поравнявшись, пошел дальше. — Ялос!
— Еще один… Нажрутся, легенд этих идиотских наслушаются, — пробубнила про себя уставшая от себя Мария и посмотрела вниз, где недалеко от воды фотографы с пошленькой бутафорией красивой жизни якобы двухсотлетней давности пытались привнести «красоту» в мир: приезжим — в изгаженную Ялту — за гривны.
Будто прочитав ее мысли, странный человек обернулся и, немного медля, поспешил назад, к Марии, пытавшейся достать сигарету. Но ветер был слишком силен для этого времени года: Мария никак не могла прикурить.
— Позвольте? — предложил незнакомец огниво.
Мария, быстро заглянув в зрачки мужчины, отметила, что тот трезв необычайно и что его платье заметно отличается от тех дурацких пестрых подделок, оставшихся там, внизу, у фотографов. Мария глубоко затянулась и хотела уже было ограничиться «спасибо», однако что-то удержало ее. Быть может, это были руки безымянного человека с удлиненными фалангами пальцев, быть может, его выпуклый лоб, а может, глаза, цвет которых Мария удивленно и бессознательно, подобно 25-му кадру, отложит в выдвижные ящички памяти.
ОКОЧУРИТЬСЯ — умереть, издохнуть, околеть, побывшиться, протянуться. Обмереть, упасть в обморок.[30]
…Ночную сорочку можно было надевать только спереди: из-за нарыва он не мог поворачиваться: руки и ноги были воспалены и отекли. Ватный халат сиротливо висел на спинке стула. Снова пришел доктор, чтобы сделать кровопускание и поставить на голову холодные примочки с уксусом: после таких процедур больной часто терял сознание. Пение любимой канарейки слишком волновало его, поэтому клетку пришлось перенести в другую комнату.
Рвота отнимала все силы: почти полная неподвижность в течение последних пятнадцати дней. Когда 5 декабря 1791-го, около часу ночи, ОН умер, его и без того больная жена легла на ту самую постель, чтобы умереть от той же инфекции. Д-р Клоссет дал ей успокоительное, затем женщину с двумя детьми отправили к друзьям.
«Любой труп должен быть обследован перед погребением, чтобы было ясно, что не произошло насильственное умерщвление… умер ли человек естественной смертью или его жизнь закончилась насильственным образом. О выявленных случаях необходимо сообщать властям для дальнейшего официального обследования. По поводу убийств, самоубийств, преступлений должно быть назначено судебное расследование».
My tres chere Cousine!
Прежде, чем написать Вам, я должен сходить на двор… теперь дело сделано! Ах, как стало снова легко на сердце! Словно камень с души свалился! Теперь снова модно лакомиться! Если опорожнился, то можно жить в своё удовольствие… Да-да, моя любимая девица-сестрица, вот так на свете этом: кому кошель, а кому монеты. Чем Вы держите это? Рукою, не правда ли? Хур-са-са! Кузнец, подержи мне, молодец, но не жми, подержи, но не жми, мне жопу оближи… Воистину, кто верит, тому воздастся, а кто не верит, тот в рай попадет; но попадет напрямик, а не так, как я пишу. Так что вы видите, что я могу писать, как захочу — красиво и дико, прямо и криво… Ничего нового не знаю, кроме того, что старая корова насрала нового дерьма. Засим addieau, Анна-Мария-Замочница, урожденная Ключеделка. Будьте отменно здоровы и всегда любите меня; напишите мне поскорей, потому как страшный холод на дворе…
Мария не знала, что делать: то ли тут же брать интервью, то ли пустить на самотек, то ли — нечто третье. ОН пристально посмотрел на нее и, видя замешательство, улыбнулся: «Вы всегда сможете найти меня в трактире Серебряная змея. Там всегда собираются актеры и музыканты». — «Но где этот трактир и как я найдут его?» — «Там, сразу за гостиницей. Вы непременно его увидите!» — «А они? Они — тоже увидят?» — «Какое вам дело до них? Я же сказал, вы всегда найдете меня в Серебряной змее».
Мария отвернулась всего на секунду: рядом с ней уже никого не было. Она потерла виски и огляделась. Набережная гудела, плыла, покачивалась на тяжелых волнах шашлычных испарений и промозглого морского воздуха. «Дикая смесь! — подумала Мария. — Совершенно дикая смесь! Как же я хочу в то место, где нет этих ужасных гор и этого проклятого чистого воздуха!»
Мария кашляла, вдыхая чистое.
ХИРЬ — хиль, хилина, хворь, болезнь, недуг. Хиреть — болеть, худеть, чахнуть, сохнуть, изнемогать, дряхнуть.
…В комнате стоял кисловатый запах; Констанце и Софи приходилось шить по несколько ночных сорочек — больной сильно потел, и на теле его от этого выступала просовидная сыпь. «Четыре гранта рвотного порошка растворить в одном фунте воды. Каждые четверть часа давать больному. После рвоты, чтобы облегчиться, давать пить теплую воду», — настаивал д-р Штолль.
А ОН вспоминал узкие улочки Зальцбурга и — сразу же, без модуляций — проданную за игорные долги клячу: она обошлась покупателю в четырнадцать дукатов. Ему хотелось на воздух: жареные ребрышки, кусок белуги, пиво… — было это или не было? А его слуга, Йозеф Примус? Он был? А струнный квинтет ре минор? Его проклассифицируют потом, после, как «KV 516»; квинтет был написан за 12 дней до смерти отца; что такое «KV 516»?! Что можно запихнуть в этот шифр? А пропахшие мышами ратуши Аугсбурга? Откуда этот запах, эти шорохи, эти голоса? И чье, черт возьми, это воспоминание — его или его отца? Он не помнит, не помнит, не помнит… Он только видит, как Констанца склоняется над ним, видит, как дрожат ее ресницы, как сжимаются ее губы. А ведь он женился, чтобы сделать свою жену счастливой! Умирающий оставлял семье 200 гульденов наличными, на 400 гульденов — имущества и долг около 3000 гульденов.
Маленький Карл плакал за дверью.
Mademoiselle
Ма tres chere Cousine!
Возможно, Вы подумали или даже считаете, что я уже скончался! Я помер! Или издох? Но нет! Не думайте так, прошу Вас, потому что подумать и посрать — вещи очень разные! Как бы я мог так чудесно писать, если бы я был мертв? Как это было бы возможно?.. Теперь же я имею честь задать вопрос: как Вы изволите поживать, регулярно ли ходили на двор? Не мучит ли Вас запор? Любите ли Вы еще меня? Между делом, часто ли пишете мелом? Вспоминали ли Вы обо мне хоть иногда? А повеситься пока еще не желали? Не злились ли Вы на меня, несчастного дурака? А если не хотите кончить добром, то, клянусь честью, обещаю Вам громкого подпустить! Что, Вы смеетесь?.. Я победил! Я так и знал, что Вы не сможете дольше сопротивляться…
Мария приехала в Ялту, чтобы сменить обстановку. Собраться с мыслями. Взять интервью у некой знаменитости с тем, чтобы перевести текст и продать за очень неплохие бабки в очередной «…news». Мария приехала в Ялту, сменила обстановку, взяла интервью, почти перевела, но с мыслями так и не собралась.
Между тем оставалось еще несколько дней. Праздношатающаяся толпа на Набережной, лениво шаркающая тапками и задевающая жирными пальцами пальмы, не вызывала у Марии ничего, кроме снисходительного презрения. Толстые — и не очень — тетьки и дядьки, худощавые загорелые дивчата и парубки, совсем мало — почти нет — нормальной русской речи, торговцы бог знает чем, и — солнце, солнце, проклятое пофигистичное солнце, от которого никуда не! Мария понимала, что с каждым часом все больше и больше стервенеет и ненавидит эту изгаженную «разумными млекопитающими» красоту. Ей слишком хотелось исчезнуть, но обратный билет был только на понедельник. Еще несколько убитых дней. Вся жизнь и еще несколько убитых дней. Но что-то ведь ОН говорил о Серебряной змее. Быть может, это ее, Марии, шанс? Быть может, она приехала сюда именно за этим интервью? Не сочтут ли ее сумасшедшей? Но ведь она видела Его только что — здесь и сейчас, на Набережной!
У него был цвет глаз, который Мария сразу отложила в выдвижные ящички памяти. Это всего лишь 25-й кадр.
КОРПИЯ — растереблённая ветошь, ветошные нитки или нарочно выделанная пушистая ткань для перевязки ран и язв.
Погребение по третьему разряду. 8 гульденов 36 крейцеров. 3 гульдена на дроги. Вполне приемлемое решение для вдовы с двумя детьми. Двое похоронщиков. «Свои-свои» и «свои». Зюсмайер, Дайнер, ван Свитен, Сальери. Сильная буря: снег и дождь. Констанца Моцарт остается дома.
Катафалк едет по большой Шуллерштрассе к кладбищу Святого Марка, что расположено в четырех километрах от Собора Святого Стефана, в котором отпевали усопшего. Последние из сопровождающих рассасываются у Штубентор, не дойдя до самого кладбища: кучер подгоняет лошадей, буря усиливается — никак не поспеть за дрогами, да и какой уже в том смысл? Ужасная, вся в выбоинах, дорога. Полная темнота.
Приехав, могильщики оставляют тело в «хижине усопших», двери которой никогда не закрываются. Погребение совершается на следующее утро Симоном Пройшлем.
«Так как при похоронах ничего другого не предусматривается, как только быстрее отвезти тело, и чтобы не препятствовать этому, следует зашить его в гроб без всякой одежды в полотняный мешок, опустить в могилу, засыпать негашеной известью и сейчас же закрыть землей… Священники не должны сопровождать покойников до их могилы», — гласит приказ Иосифа II.
Необозначенные ряды могил. Надгробные камни только у стен кладбищ. Спустя восемь лет общие могилы заполняются заново. Спустя 17 лет после смерти мужа Констанца пытается найти место его погребения. Могильщик говорит ей, что предшественник сам недавно скончался, а он ничего не знает о тех, кто был похоронен до его вступления в эту должность. Констанца Ниссен поджимает губы и уходит.
У-хо-дит.
Мария оглядывается по сторонам: ищет. Но всюду одна только Ялта, город контрастов. Неулыбчивые — в отличие от столичных ребят — дивчата и парубки в Макдоналдсе, приехавшие из Хохляндии на заработки. Отдыхающие, не знающие, на что еще истратить эти гривны. Местные, предлагающие жилье «у самого синего моря». Букетики сушеной лаванды и можжевеловые подушки. Дыни, персики, пальмы, волны, чайки и — равнодушная к тому, что творится у собственного подножия, — Ай-Петри. Солнце.
Тихий ужас. Между тем Мария мечтает взять интервью у Моцарта. Ведь он жив. Она только что с ним разговаривала! И где эта Серебряная змея? Нужно найти этот трактир… Найти во что бы то ни стало… Срочно продумать вопросы… так-так… ещё… Ведь это будет настоящей сенсацией — интервью с самим Моцартом! Никто никогда не брал у него интервью, а она — Мария — сделает это первой! Нет-нет, ее не сочтут сумасшедшей и не отправят в дурдом. Нет-нет! Нет-нет… так-так… еще…
Мария сворачивает на Чехова и оказывается как раз перед трактиром. «Странно, раньше я не замечала здесь этого заведения! Значит, все правда… Как трогательно!»
Мария заходит в «Серебряную змею» и чувствует, что голова плывет. Обонянию не известны эти запахи. Оно не привыкло. Где-то как-то даже пованивает. Пожалуй, ее, Марию, сейчас стошнит. Странно: неужели здесь и вправду — ОН?
— A-у, маэстро! — кричит Мария. — A-у! Есть здесь кто-нибудь? — и окидывает взглядом пустой зал.
— Я здесь, — отвечает ОН издалека; Мария слышит Его приближающиеся шаги из второй комнатки. — Здесь.
Марии кажется, будто она впадает в глубокий сон — и в этом самом сне — наяву — все видит.
— Выпейте тамариндовой настойки! — улыбается Моцарт. — Выпейте, выпейте! Не стесняйтесь, я же знаю, вы иногда — часто — пьете, — подмигивает Моцарт. — И даже позволяете себе напиваться! — Моцарт легонько хлопает Марию по плечу. — Я же не дам вам яду! Или вы думаете, что я предоставлю вам смесь из сурьмы, свинца и белого мышьяка, которую в семнадцатом веке получила некая Феофания ди Адамо? Говорят, между прочим, будто впервые подобное ассорти было применено дочерью этой самой сицилианки, Джулией Тофана, с целью убийства, — разговаривая, Моцарт подвел Марию к грубому деревянному столу, накрытому клетчатой скатертью, и предложил сесть.
Присев, Мария обнаружила на себе вместо джинсовых шорт и открытой белой майки длинное пышное платье розового цвета с почти выпадающей из него — наружу — грудью: последняя деталь, казалось, доставляла Моцарту ни с чем не сравнимое удовольствие: он довольно долго косился на вырез, а потом сказал:
— Вы напоминаете мне сейчас одну потаскушку из Милана. На ней было точно такое же платье, и ее вымя так же вываливалось наружу. Не обижайтесь! Я говорю не про ваше… — у вас шикарная грудь! Пожалуй, я не вижу только сосков. Что ж, наверняка мужчины уже много раз оценили их по достоинству, а, Мария? — Моцарт подмигнул ей.
— Что вы себе позволяете? — привстала она, хмуря брови. — Мне плевать, что вы гений. Если вам нужна шлюха, то на Набережной их хватает…
— Погодите, — перебил ее Моцарт. — Извините меня. Просто я хотел сказать, что ваше тело создано для любви, вот и все. А у меня лет двести уже не было женщины, понимаете?
БЛУД — слово это заключает в себе двоякий смысл: уклонение от прямого пути, в прямом и переносном смысле, а также относится собственно к незаконному, безбрачному сожитию, к любодейству.
My tres chere Cousine!
В большой спешке, с полным раскаянием и сожалением и с твердой решимостью пишу я Вам и сообщаю, что завтра отправляюсь в Мюнхен. Любимая сеструха, не будь страшнухой!.. Если Вам также захочется видеть меня, каким не Вас, то приезжайте в чудный город Мюнхен. Постарайтесь еще до Нового года сюда поспеть, чтобы мне вас спереди и сзади осмотреть. Я Вас хочу по городу поводить, и если нужно, то и клистиром угостить. Об одном я только сожалею, что не могу Вас у себя поселить. Потому что я не в гостинице, а у… где? Хотел бы я знать. Теперь шутки в сторону. Мне важно, чтобы Вы приехали, потому что Вам, возможно, придется сыграть большую роль. Так что приезжайте, а то срано очень…
Напишите мне тотчас в Мюнхен Poste restante небольшое письмишко странички на 24, но не пишите мне, где Вы остановились, чтобы я Вас, а Вы меня не нашли…
— Так вы согласны дать мне интервью, господин Моцарт? — спросила Мария гения, утопившего глаза в тамариндовой настойке.
Моцарт улыбнулся, поднимая голову:
— Что ж, вертите столик. Вертите, вертите, не бойтесь!
Мария подняла брови и крутанула грубый круглый стол.
— После каждого поворота задавайте вопросы.
— Но почему? — удивилась Мария. — Зачем мне вертеть его? Почему я не могу задать вам вопросы без этого?
— Потому что нам понадобятся третьи лица, — сказал Моцарт и закурил сигару.
— Ну вот он и завершил полный оборот, — сказала Мария, поглядывая на останавливающийся столик. — Мы кого-то ждем?
— Чуть позже, — ответил Моцарт, и снова покосился на грудь Марии.
— Я могу достать диктофон?
— Конечно, — улыбнулся Моцарт. — И все-таки вы удивительно похожи на ту потаскушку. У нее были такие же большие влажные глаза. Карие. Как вишни в коньяке!
Мария сделала вид, что не расслышала: у гениев свои причуды, решила она, забив на кое-что, и включила диктофон. В конце концов, именно от этого интервью зависит ее карьера. Да что там карьера! Именно эта публикация принесет Марии известность, возможности, деньги… Возможный гипертекст можно будет использовать в различных модификациях — наверняка, если его разложить на несколько уровней… так-так… еще…
ИНТЕРВЬЮ (англ. interview) — жанр публицистик и, беседа журналиста с одним или несколькими лицами по каким-либо актуальным вопросам. Подразделяется на И.-сообщение, преследующее главным образом информационную цель, и И.-мнение, комментирующее известные факты и события /Новый энциклопедический словарь/.
— М.: Скажите, господин Моцарт, как более двухсот лет вам удавалось скрываться ото всего человечества, до сих пор с упорством кладоискателя ищущего место вашего захоронения, и так хорошо сохраниться? Где вы находились все это время на самом деле?
— В. М.: ми-бемоль ре-ре, ми-бемоль ре-ре, ми-бемоль ре-ре-си-бемоль, си-бемоль ля-соль, соль-фа-ми-бемоль, ми-бемоль ре-до-до…
— М.: Не совсем точный перевод, господин Моцарт. Не могли бы вы рассказать об этом поподробнее?
— В. М.: ре-до-до, ре-до-до, ре-до-до-ля, ля-соль-фа#, фа#-ми-бемоль ре, ре-до-си-бемоль, си-бемоль…
— М.: М-м-м. Спасибо, маэстро. А не могли бы вы рассказать о ваших отношениях с кузиной — небезызвестной Марией Анной Теклой? Известно, что она была дочерью младшего брата вашего отца и вы провели с Марией Анной две недели в Аугсбурге по пути в Париж. Сохранилось восемь или девять писем не совсем пристойного содержания, которые много раз хотели уничтожить ваши родственники. Что вы может сказать по этому поводу? Было ли у вас что-нибудь?
— В. М.: До-ре-ми-до-ре-до.