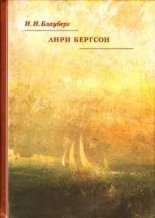Когда явились ангелы (сборник) Кизи Кен

Читать бесплатно другие книги:
Автор рассматривает различные направления аудиокультуры ХХ века – становление художественного и публ...
Впервые в науке об искусстве предпринимается попытка систематического анализа проблем интерпретации ...
Цель книги – дать возможность читателю познакомиться с новейшими направлениями российской гуманитарн...
Успешное офисное восхождение со стула на стул: от агента по продажам до руководителя отдела – никак ...
Все давно знают и любят произведения замечательного писателя Геннадия Яковлевича Снегирёва. Его удив...
В книге дается обзор концепции французского мыслителя Анри Бергсона (1859–1941), классика западной ф...