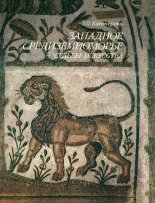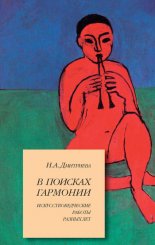Рукопись, найденная в чемодане Хелприн Марк

Но «Мадонна дель Лаго» представляет собой шедевр композиции. Мадонна с ребенком на руках стоит на вдающемся в озеро мысе, так что она почти полностью окружена синевой и издали предстает охваченной ореолом. Справа от нее вздыбилась похожая на бурун волна – сверкая на солнце, она навеки зависла в воздухе. Слева же, там, где мелко, вода спокойна, и покрывающая ее светотень уравновешивает волну напротив. Это выписано так, что весьма напоминает византийскую мозаику, только вращающиеся кольца или ленты заменены здесь волнами.
Это еще и шедевр цвета. В небе присутствуют самые разные оттенки – здесь и окись кобальта, и яйца малиновки, и веджвуд, и голубой отлив пушечного металла. Озеро тоже выписано в дюжине красок. Некоторые из них кажутся едва ли не тропическими, например желтоватая бирюза, другие выглядят потусторонними, еще одни – простоватыми, а кое-какие – вызывающими. Скалы написаны в защитных серых тонах, а поле – особенной, как бы глазурованной зеленой краской, добытой, должно быть, в некоем магической карьере, известном только во времена Возрождения, ибо никакая зелень сегодня не выглядит столь влажной и плотной, столь глубокой, светящейся, яркой.
И это, наконец, шедевр выразительности. Мадонна не выглядит ни серьезной, ни созерцательной. Нет в ней и безмятежности. Она улыбается, полная торжества. Это и есть то выражение, которого от нее ожидают, не так ли? Выражение, которого она заслуживает. Но это отнюдь не смертное, не личное торжество, но ангельская приподнятость, столь очаровательная, что я томлюсь по ней даже и теперь, ибо никогда не видел большей красоты в человеческом лице.
Отец Констанции, испытывая очень схожие чувства, отправил в Париж одного из своих агентов, чтобы тот сделал заказ Хиро Мацуэ. В двадцатые годы Хиро Мацуэ был лучшим копиистом в мире. Он был настолько хорош, что за ним следили, и все, что выходило из-под его кисти, каталогизировалось музеями, вечно опасавшимися подделок. В то время, когда не существовало электронных микроскопов и углубленного спектроскопического анализа, невозможно было отличить оригинал от дани благоговения, принесенной Мацуэ, хотя он всегда изменял ключевой элемент композиции, чтобы избежать бесчестных игр. Но мистер Ллойд убедил его, лишь в этот единственный раз и кто его знает за какую цену, сделать копию по-настоящему точной.
«Мадонна дель Лаго» кисти Мацуэ, идеально подвергнутая старению, в точно такой же раме, что и у оригинала, лежала в подвале того дома, который когда-то считался моим. Констанции полотно никогда не нравилось (возможно, потому, что сама она была слишком уж похожа на эту мадонну), и, поскольку ни отца ее, ни Мацуэ не было больше в живых, она его упаковала. Это небольшой холст. Даже в упаковке он не превышает по размерам коробки с хлопьями для завтрака.
Мы со Смеджебаккеном прошлись по Пятой авеню, пока не достигли особняка Констанции. Никого не было дома, а улица как вымерла. Перелезть через железный забор мы смогли лишь потому, что Констанция отказалась от моего предложения заострить лезвия пик. По причинам, по сей день остающимся для меня непостижимыми, очень богатые люди с железными изгородями, увенчанными пиками, просто не желают заострять их концы, как того требуют логика и здравый смысл. Когда мы без малейшего страха и каких-либо колебаний шагали по лужайке (в конце концов, дом этот когда-то был моим), Смеджебаккен изумлялся, что когда-то я действительно там жил.
– Мысль о жизни в таком великолепии, – сказал я, – лучше, чем действительность.
Мы спустились в безупречно чистый световой колодец, выложенный известняком, где уселись, привалившись спинами к стене, и стали ждать вечернего возвращения Констанции. Я знал, что у окна в этом световом колодце сломана задвижка. Надо было лишь толкнуть его, но для этого кто-то должен был находиться дома, чтобы сигнализация была отключена.
– А вы не знаете, как обращаться с сигнализацией? – спросил Смеджебаккен.
– Я совершенно уверен, – сказал я, – что употребление кофе обострило паранойю Констанции и она поменяла и коды сигнализации, и все замки. Нам остается только ждать.
Смеджебаккен согласился, сказав, что если она и в самом деле пила так много кофе, как я утверждал, то к настоящему времени должна была стать буйной психопаткой, а дом, вероятно, полон средневековых пыточных инструментов и доберман-пинчеров с такими же зубами, как у профессоров Оксфорда.
– Не преувеличивайте, – сказал я. – Чтобы дойти до такого, надо годами предаваться кофепигию. Мне не известно в точности, как давно она этим занимается, но, насколько можно судить по тому периоду, когда она крепко на него подсела, к ней совершенно невозможно подступиться, особа она иррациональная и маниакальная, однако не совсем пропащая.
Затем мы услышали чудесный звук «наги-хорвата» 1927 года выпуска, одного из выдающихся роскошных автомобилей, построенных в Венгрии в количестве всего пятнадцати экземпляров, целиком и полностью вручную. Керосиновый двигатель в семьсот пятьдесят лошадиных сил являл собою настоящее произведение искусства из нержавеющей стали, никеля и бронзы. Он был похож (посмею ли сказать?) на один из тех сверкающих автоматов эспрессо, которых можно увидеть в причудливых ресторанах, и звучал, как целый квартал жестянщиков в Нью-Дели. Там было так много штырей, рычагов, валов, клапанов, шестерен и втулок, которые постукивали, поворачивались и клацали, что когда, бывало, я выезжал на этом «хорвате» в город, то видел, как бросаются на землю контуженые ветераны, убежденные, что он вот-вот взорвется.
Мне никогда не понять, как это кожа может так хорошо пахнуть через двадцать пять лет после того, как была натянута, или как может салон противиться запылению, а металл отказываться тускнеть (хотя, возможно, это имело какое-то отношение к человеку, которого мы наняли для ухода за машиной). Двигатель смолк, и я ждал отчетливого звука ручного тормоза, того звука, с каким прочищает свое горло трицератопс, но его все не раздавалось. По мере прохождения минут самообладание стало меня покидать. Я зарылся лицом в свои поднятые колени и стал дышать, как собака на испытательном стенде.
– В чем дело? – спросил Смеджебаккен.
– Она там с кем-то целуется, – сказал я.
– С чего вы взяли?
– Она всегда сразу же ставит машину на ручной тормоз, если только с кем-нибудь не целуется. А когда Констанция целуется, то вкладывает в это все свое тело. В «наги-хорвате» поверх поднятого ручного тормоза сделать это невозможно.
– Да-а…
– Вот оно! – сказал я. – Слышали, как отрыгнул стегозавр?
– Что за стегозавр? – спросил Смеджебаккен.
– Давайте просто возьмем картину и уберемся отсюда.
Через несколько мгновений в доме зажегся свет. Мы узнали об этом не потому, что хоть сколько-нибудь осветился подвал, но потому, что изнанка листьев над нами стала вспыхивать желтым светом, отражая свет канделябров в бальном зале.
– Зачем она включила свет в бальном зале? – спросил я. – Впрочем, какое мне дело? Теперь она уже позвонила Холмсу, и система сигнализации выключена.
Я толкнул окно, и оно открылось в точности с тем зыбким звуком, какого я ожидал.
– Я войду первым и найду стремянку, – сказал я Смеджебаккену.
Спрыгнув из окна, приземлился я неудачно и, подвернув правую лодыжку, упал, ударившись головой о стену. Это был настоящий нокаут. В этом я совершенно уверен, потому что, очнувшись, задыхался из-за того, что Смеджебаккен прямо из горлышка бутылки вливал мне в рот лафит 1933 года.
– Что вы делаете! – вскричал я, совершенно забыв о том, что был грабителем в своем собственном доме.
– Вы потеряли сознание. И вам угрожало обезвоживание. А это – единственная жидкость, что я смог здесь найти, не считая шампанского. Но вторую бутылку шампанского я открыть не рискнул – уж очень громко хлопает пробка.
Я опустил глаза и увидел у себя в ногах бутылку из-под шампанского.
– А где ее содержимое? – спросил я.
– У вас в желудке.
– Неудивительно, что я чувствую себя таким пьяным.
– Да уж. Кроме того, я споил вам бутылку «Шато-о-Бриона».
– Вы спятили? – спросил я, отметив, что язык у меня уже начинает заплетаться. – Я же тереть не моргну вины. Завтра весь день дуду ругать.
– Не будете, если ничего не съедите.
Я с трудом поднялся на ноги и провел Смеджебаккена к хранилищу живописных полотен. Помню я немногое, но таки помню, что чем больше проходило времени, тем пьянее и пьянее я становился – и никак не мог справиться с простой комбинацией замка, так что я пролежал там четыре часа, излагая Смеджебаккену историю своей жизни и прислушиваясь к звукам пианолы, доносившимся из бального зала.
– Что, черт возьми, там творится? – спросил я.
– По-моему, кто-то танцует, – сказал Смеджебаккен, обращая взгляд к потолку.
– Посмотрите, что там такое, – сказал я, вручая ему фонарик. – Меня так тошнит, что и пошевельнуться не могу.
– Зачем подвергаться риску?
– Мне надо знать.
– К чему вам это знать?
– К тому, что это моя жена! Когда-то я в нее влюбился. Я любил ее, она любила меня, а любовь всегда остается. Это неизменная величина, она не убывает, пусть даже меняемся мы сами.
Смеджебаккен ушел и вернулся лишь через полчаса, когда я почти уже протрезвел.
– Что вы видели? – спросил я.
– Ничего.
– Что значит – ничего? Рассказывайте, что видели.
– Вы хотите знать правду?
– Я всегда хочу знать правду, – сказал я. – Вы разве не знаете? Все всегда хотят знать правду.
– Хорошо. Лестницу я нашел только минут через десять: этот подвал огромен, словно Мэдисон-сквер-гарден. Я опасался, что открою дверь и столкнусь с кем-нибудь лицом к лицу.
– Дверь выходит в кухню, а не в бальный зал.
– Знаю, но они все время туда заглядывают. К счастью, когда я поднялся, они танцевали в зале. В кухне пыхтит аппарат эспрессо высотой в десять футов, повсюду расставлены кофейные чашки. Я подумал было, что там устроена вечеринка человек на пятьдесят, но их было только двое, и весь этот кофе пили они. Каждый раз брали новые чашки.
– Кто? – спросил я, чувствуя, что душа моя ушла в пятки.
– Прекрасная, невыразимо прекрасная женщина…
– Это Констанция.
– И высокий, изящный парень с необычайно черными волосами, похожий на бразильца. Одет он в вышитую рубашку, черные брюки, как у гаучо, и остроносые туфли. Выглядит как помесь официанта с акробатом, а губы такие же тонкие, как у Рудольфа Валентино.
– А она во что одета?
– Ни во что.
– Ни во что?
– Там повсюду разбросаны трусики и все такое. Она была совершенно голая – и она танцевала. Да, это были те еще танцы!
– Какого рода танцы? – спросил я, лязгая зубами.
– Змеиные.
– Змеиные танцы… – повторил я упавшим голосом.
– Она двигалась так, что это парализовало меня минут на двадцать.
– Как может такое быть? – спросил я. – Бога ради, они ведь танцуют под пианолу!
– Да, но они танцуют медленно, в кофейном стиле.
– Целуются?
– Целуются, милуются и все время прихлебывают кофе. Сожалею, но вы хотели знать правду.
– Я всегда это подозревал, – сказал я, – а теперь знаю. Лучше знать, чем подозревать. Мне по-прежнему непонятно, как это можно целоваться с кем-то, кто пьет кофе, но с этим покончено, раз и навсегда. Единственное, чего я теперь хочу, это грабить банки.
После неимоверного количества алкоголя, влитого в меня Смеджебаккеном, я проболел едва ли не целый месяц, лежа на полу одной из верхних комнат в «Астории» и наблюдая за тем, как в округе наступает зима. Смеджебаккен был первоклассным инженером, но никудышным врачом: он пытался уговорить меня выпить чашку чая. К чему принимать яд, когда жизнь в тебе и без того едва теплится? Не стану прибегать ни к каким метафорам, чтобы описать, как сильно у меня болела голова, потому что мозг, изобретающий метафоры, негоже заставлять быть сообразительным за его собственный счет. Все члены мои разламывались от боли, как проигравшее войну королевство, в желудке у меня вздымалась тошнота всех морей, и голова по-настоящему болела.
Иногда смесь токсичных остатков, циркулирующая у меня в крови, вызывала ужасающие кошмары наяву, во время которых я обычно вопил и колотил по полу чем только мог. Смеджебаккен, всего лишь несколько недель назад вливший мне в глотку бутылку шампанского, имел наглость предположить, что болезнь моя носит психосоматический характер. Он предложил мне принять аспирин.
– Вы что, сумасшедший? – спросил я. – Мой дядя однажды принял таблетку аспирина и целый год после этого болел. Вся страна вот-вот угодит в лапы аптекарей и никогда уже не оправится.
– От одной таблетки?
– Одна таблетка ведет к двум, две – к четырем, четыре – к восьми, восемь – к шестнадцати, шестнадцать – к тридцати двум, а тридцать две – к шестидесяти четырем. Вы и опомниться не успеете, как я буду раскачиваться на качелях между аспирином и кофе. Смеджебаккен, Соединенные Штаты Америки превращаются в опиумокурильню. Кто-нибудь должен этому противостоять.
Пока я восстанавливал силы, Смеджебаккен неустанно трудился над оборудованием мастерской. Поскольку дом располагался по соседству с промышленными предприятиями, никто не обращал внимания на те вещи, которые он привозил. Управившись со всем этим, он получил возможность пилить, фрезеровать, шлифовать, отливать, рихтовать, ковать, лудить, паять, сверлить и штамповать поистине любой металл. Он был настоящим специалистом по части обращения с ними и их обработки и всю свою жизнь занимался сооружением разнообразных машин. Как-то раз он сказал мне, что, будь у него время и материалы, он мог бы изготовить, к примеру, миниатюрный «роллс-ройс», или электрический ткацкий станок, или антигравитационный ящик. И поскольку заниматься ему приходилось любимым делом, он ко всему приступал с легкой душой и работал очень быстро.
Ему хотелось узнать, как мы собираемся украсть «Мадонну дель Лаго». Сначала он думал, что я намеревался всего лишь подсунуть Анжелике копию и обманом обойти ее требование, но вскоре я поручил ему соорудить полноразмерное инвалидное кресло с мотором, работающим от элементов, спрятанных в металлических трубках каркаса.
– Почему нельзя просто поместить батарею под сиденье, как в кресле Конни?
– Потому что это кресло для кражи картин, вот почему, – сказал я и откинулся на подушку, слишком слабый, чтобы говорить.
Тремя днями позже кресло на колесах было готово.
– Хорошо, – сказал я ему. – Теперь сделайте ящик, в точности похожий на ящик для батареи, и поместите его в обычное место. Только снабдите его дверцей, которая открывалась бы от одного прикосновения и которой не было бы видно – она должна выглядеть как торцовая стенка ящика. Кнопка должна быть потайной, а дверце надлежит открываться с быстротой выкидного ножа. И чтобы была возможность тут же ее закрыть. Внутри… раздвижные поручни, установленные на шарикоподшипниках и подпружиненные так, чтобы выдвигаться при открывании дверцы. Между поручнями надо поместить лоток, в который и уместится картина.
– Понял, – сказал он. – Но как насчет сигнализации? И смотрителей?
– Смотрителей? – переспросил я. – Сигнализации? Боже мой…
Готовое изделие предстало передо мной через сорок восемь часов. Ящик для батареи выглядел в точности как ящик для батареи, но когда он поднял колпачок с одного из подлокотников и нажал на кнопку под ним (это напомнило мне, что в истребителе гашетка точно так же расположена прямо на ручке управления), дверца поднялась и неожиданно возникла картина, уютно устроившаяся в обитом войлоком лотке. Он снова нажал на кнопку, и весь процесс повторился в обратном порядке.
– На открывание или закрывание уходит полсекунды, – сказал он. – Я применил гидравлические цилиндры и обеззвучил кнопку, пружины и защелку. Вы, может, не заметили, но их совершенно не слышно.
– Я заметил, – сказал я.
После чего снова повалился на подушки, опять почувствовав себя дурно, подкошенный очередным приступом боли и тошноты. Смеджебаккен начинал утрачивать уверенность во мне. Он был настолько встревожен, что на следующее утро явился, дабы сказать об этом прямо.
– Как могу я поверить, что вы справитесь с этим делом, а не завалите его? – спросил он. – Вы же инвалид. План требует смелости, силы и выносливости. А вы целый месяц только стонете да вздыхаете.
– Я был отравлен! – крикнул я.
– Чем отравлены?! – завопил в ответ Смеджебаккен. – Бутылкой лучшего в мире шампанского?!
– Да.
– С каких это пор шампанское заставляет вас целый месяц болеть? Что вы за человек? Я хочу сказать, насколько же это вы крепки, если организм ваш воспринимает шампанское как яд?
– Я так же крепок, как и всякий другой. Просто я испытываю отвращение ко всему, что фальшиво, уродливо или лживо. И заметьте, ложь и фальшь – это разные вещи. Порой я могу совершать необычайные поступки, но в присутствии зла становлюсь слабым.
– Почему?
– Потому что однажды оно меня сокрушило. Оно совершенно меня одолело, и я был так же беспомощен в его хватке, как человек, парализованный во сне.
– Но вы, однако же, живы, – сказал Смеджебаккен, не с целью мне противоречить, но чтобы вытянуть из меня подробности этой истории, изложить которую я не мог, поскольку замешан в ней был не только я один.
– По чистой случайности.
– Ладно, – сказал Смеджебаккен, – вы уже не так уж плохи, и я очень надеюсь, что вам станет лучше. Когда вы окончательно поправитесь?
– Скоро, – ответил я, – очень скоро.
Той ночью мне приснилось, что я лежу в летнем лесу, где деревья придают дополнительную жизнь и глубину воздуху, который иначе был бы всего лишь эфиром. Звучало прекрасное пение птиц, не знающих, что они возвещают и для чего, так же как не знают об этом волны, накатывающиеся на берег и разбивающиеся в солнечных брызгах. Море раскинулось неподалеку, у подножия холма, синее и пустое. А цветы, казалось, озарялись светом изнутри. Я пребывал в покое и безмятежности, но не испытывал счастья, ибо знал, что это место было последним моим пристанищем, что после него не будет никакого другого.
Когда на следующее утро я проснулся, остатки яда покинули мой организм и болезнь испарилась. После месяца спячки я был полон сил, энергии и уверенности.
– Пойдемте в музей, – сказал я Смеджебаккену, который ел или, точнее, собирался съесть кошерную индюшачью гузку. (После случая в «Сонной Лощине» я к ним очень даже благосклонен.)
– На разведку?
– Нет. На дело.
– Не смешите меня, – сказал он. – Нам с месяц придется практиковаться. Я ни разу не видел этой картины и не знаю вашего плана.
– Я и так практиковался целый месяц, – сказал я напыщенно. – И управлюсь со всем вот таким вот манером. – С последними словами я поднял руку и щелкнул пальцами.
– Вы целый месяц, будучи совершенно обессиленным, провалялись в постели, пока я превращал дом в фабрику и делал инвалидные кресла с секретом.
– Вы что, не понимаете? – спросил я.
– Не понимаю чего?
– Откуда я черпаю свои силы.
– Нет, не понимаю. Откуда вы черпаете свои силы?
– Из своего бессилия.
– Черпаете силы из бессилия?
– Именно.
– Что ж, это здорово. Что до меня, то я черпаю свои силы из своих сил.
– Тогда перед вами лежит ровная дорога. Вы, вероятно, совершенно счастливы.
– Настолько, насколько уместно здесь слово «счастье».
– А вот моя дорога проходит через глубокие овраги, – поведал я ему, – и высокие холмы. Я могу взобраться на вершину холма, потому что побывал на дне оврага. Между прочим, не располагаете ли вы кусачками, делающими зазубренные надрезы?
Он посмотрел на меня в недоумении.
– Да, но случайно. У меня просто духу не хватило их выбросить.
– Вот и хорошо. Они нам понадобятся. План я разъясню вам в подземке. Наденьте как можно более мешковатое пальто.
– Это можно. У меня осталось такое после того периода, когда я был помешан на сдобе. Но зачем?
– Для кота. Нам придется поймать кота.
– Поймать кота… – пробормотал он.
Чувствовалось, что он не вполне готов ловить котов. Да, в тот момент он, вне всякого сомнения, был уверен, что нам обоим предстоит состариться в тюрьме, но и идти на попятную не собирался.
– Достаньте копию.
Смеджебаккен принес кресло, нажал на кнопку и вынул картину из лотка.
– Посмотрите на нее с изнанки, – сказал я.
К изнанке холста были параллельно приклеены лаком несколько золотых проводков, и каждый из них присоединялся к двум медным проволочкам по бокам, длина которых составляла около фута.
– Я сделал это сегодня утром, до того, как вы встали, – сказал я. – Но кончики этих проводков надо еще надкусить вашими кусачками.
– Выглядит профессионально.
– Вот так у них устроена сигнализация для самых ценных картин. Я знаю это, потому что Констанция состоит в попечительском совете музея. Когда мы ходили с ней на собрания, я спросил, как у них обстоит дело с сигнализацией, и они мне показали.
– Понимаю, – сказал Смеджебаккен с явно возрастающим доверием ко мне, – но вот насчет кота – это что, серьезно?
Огромный серый кот, которого мы сгребли на задворках какой-то пиццерии в «Астории», отправился под пальто Смеджебаккена на углу Мэдисон и Восемьдесят шестой. На протяжении нескольких кварталов, остававшихся до музея, и пока я не втолкнул инвалидное кресло в залы итальянского Возрождения, кот этот бился, как сумчатый дьявол, но Смеджебаккен держался так стоически, что почти и не морщился. Время от времени между лацканами его пальто пробивалась когтистая лапа, он кашлял и впихивал ее обратно, после чего мы продолжали свой путь. Никто ничего не заметил, поскольку людям свойственно отводить глаза от тех, кто передвигается в инвалидном кресле, о чем Смеджебаккен был прекрасно осведомлен. Ему выпала нелегкая доля, ибо котяра терзал его грудь своими огромными когтями.
Мы подошли к «Мадонне» и выждали, пока зал не опустел. Смеджебаккен распахнул свое пальто, кот вылетел оттуда и помчался очертя голову со скоростью шестьдесят миль в час. Мы направили его в смежный зал, где размещался охранник: на каждые три зала приходилось по одному сонному старику в униформе, на глазах которых никогда ничего не происходило.
– Держи кота! – завопил я что было духу.
Когда кот пронесся мимо, охранник инстинктивно пустился вдогонку. Смеджебаккен поднялся с кресла, держа в правой руке кусачки, а я приподнял висевшую на стене картину. Ящик я открыл еще раньше. Когда я снял картину, Смеджебаккен перекусил провод, и все звонки в мире начали свой трезвон.
Он вынул из лотка копию и упал, привалившись к стене. На место копии я положил оригинал, закрыл дверцу и повалил кресло. В эти последние несколько секунд я успел еще распахнуть пальто Смеджебаккена, выставив напоказ окровавленную манишку.
– Начитайте стонать, – скомандовал я.
– Никого еще нет, – прошептал он.
– Стоните из любви к искусству, – сказал я.
Он принялся стонать. Все это заняло менее десяти секунд. Мы ждали и ждали, пока наконец не услышали топот множества ног. Как раз перед появлением фаланги охранников – у двоих из которых были дробовики – Смеджебаккен прервал стенания, чтобы сказать:
– За такое время мы успели бы разгадать кроссворд.
– Стонать! – приказал я. – Вот он, момент истины…
Первым делом они, конечно, взяли картину из рук Смеджебаккена, и, под верещание звонков и вопли Смеджебаккена, которые стали вырываться у него единственно из-за волнения, я тоже начал вопить:
– На него кот напал! На него напал кот!
Кот, как мне кажется, выбежал прямо через главный вход и исчез в верхней части Ист-Сайда. Его видели большинство охранников, пусть даже лишь как размытое пятно, а раны Смеджебаккена были самыми что ни на есть подлинными: от его крови весь пол вокруг нас сделался скользким как лед.
Охранники не имели ни малейшего понятия, что делать. Взяв под охрану то, что представлялось им их картиной, они уставились на того, кто представлялся им жертвой нападения обезумевшего кота. Один из них объявил, что вызовет врача, и выбежал в бесконечность фламандских пейзажей.
Затем появился явный выпускничок частной школы – заместитель директора. (Сам директор был, разумеется, во Флоренции.)
– Что случилось? – спросил он у выстроившихся в ряд охранников.
Пока ему вкратце излагали суть дела, я окаменел. Это был мой гарвардский однокашник – Куку Прескотт, прославившийся тем, что в последнем семестре выпускного курса сменил свой профилирующий предмет с орнитологии на изящные искусства. Его дипломная работа была озаглавлена так: «Эволюция хищных пернатых в живописи сэра Томаса Бони». Я узнал его, и у него была точно такая же возможность узнать меня, не будь он совершенно выведен из равновесия.
Я боялся, что у него могли сохраниться обо мне весьма живые воспоминания. Я проучил его однажды за любовь к кофе, читая ему вслух «Кофейные зерна зла» аббата Бобиньи-Суиссо-Лаже, предварительно усыпив и обмотав бинтами, снятыми с египетской мумии на факультете археологии.
Что я мог поделать? Я взъерошил себе волосы, скорчил гримасу и стал говорить, как мексиканский бандит голливудского разлива. (Боюсь, Куку Прескотт смотрел на меня, пока я готовился к этой роли.)
– Тот зверь покалечить мой мальчик! – вопил я. – Вы мне за это ответить!
Куку разглядывал нас в полном недоумении.
– Кто эти люди? – спросил он.
– Посетители, – был ответ.
Все подгнившие гены Куку старались проявить ответственность, обеспокоенность и вежливость. Мне так и виделись души утонувших моряков, гневно требующие возмещения убытков с кладбищ Салема и Глостера. Это возымело действие: обильные извинения перевесили его подозрительность. Я старался не глядеть на него впрямую и честил себя на чем свет стоит, чувствуя, что мой мексиканский бандит превращается в водевильного итальянца. Но не мог этому противостоять: один просто-напросто перевоплощался в другого.
– Эй! В госпиталь? Дотторе? Где дотторе?
– Откуда вы? – вопросил Куку, и было ясно, что подсознание его раскалилось от напряженной работы памяти.
Ответил ему Смеджебаккен:
– Из округа Коломбия.
Что мог сказать на это Куку? Появились санитары, тут же водворившие Смеджебаккена в кресло-каталку. Затем нам был придан королевский эскорт – он сопровождал нас через весь музей, осыпая предложениями пожизненного бесплатного посещения и колоссальных скидок в кафе и сувенирном магазине.
В больнице Ленокс-Хилл Смеджебаккену изукрасили всю грудь ртутным хромом и сделали противостолбнячный укол. Когда его выписали, мы сразу же отправились на Пятую авеню, поднялись в квартиру, показали картину Анжелике (которая была весьма впечатлена), а затем завернули ее в папиросную бумагу и обвязали зеленой лентой. Когда опустился вечер, я вышел на улицу и зашагал в ясных сумерках, пронзаемых желтыми и оранжевыми огнями Манхэттена. Как раз перед закрытием доставил я свой пакет в главный офис музея.
– Это пакет для мистера Прескотта, – сказал я приемщице, оказавшейся весьма любезной. – Не запишете ли сообщение для него?
– Конечно, – сказала она, берясь за бумагу и карандаш.
– Первое: всегда лучше, если в музее выставлены оригиналы, и это оригинал. Второе: копию он может оставить себе. Третье: пить кофе вредно.
Украв – и возвратив – «Мадонну дель Лаго», мы были полностью готовы к настоящему делу.
В самый день ограбления я был взволнован как никогда в жизни. Поднявшись утром четвертого июня в заросшей зеленью «Астории», я отчетливо почувствовал, что мне предстоит покинуть эту академию горьких раздумий о прошлом и отправиться в другой мир, который окажется одновременно и благосклоннее, и новее. Мне представлялось, что такое же чувство испытывает тот, кто в возрасте восемнадцати лет оканчивает среднюю школу и перед ним распахивается весь мир. Я никогда не был выпускником средней школы. А высшее мое образование было беспорядочным. Когда я закончил учиться, мне показалось, что я как будто спрыгнул с карусели.
Тем солнечным утром, когда я вышел из дома в «Астории» и повернул в замке ключ, я знал, что никогда не войду туда снова. На столе в прихожей лежало тщательно составленное завещание, согласно которому все инструменты оставлялись ремесленному училищу, а дом – клубу юных туристов.
Было так прохладно, что синева над головой походила на текущую воду. Солнце сменялось глубокими спокойными тенями. Пока поезд мчался по надземному пути, я вспоминал юность, когда летние свои дни я начинал на поезде, мчавшемся над Гудзоном, мерцающим под покровом дымки. Тогда я испытывал такое же волнение, ощущал такую же полноту бытия, как и сегодня, но в ту пору они были со мною каждый день – и не потому, что я собирался ограбить самый большой банк в мире, но лишь потому, что отправлялся в него на работу.
Это будет моей последней поездкой в нью-йоркской подземке. По ее окончании я в последний раз пройду среди каньонов Уолл-стрит до того, как они раскалятся от летнего солнца, потому что, когда этим вечером я выйду на поверхность, гранитные стены будут возвращать в воздух накопленное за день тепло.
Я в последний раз спустился на лифте в хранилище, в последний раз взвесился на входе, в последний раз пожелал доброго утра Осковицу, причем поприветствовал его так сердечно, что он стыдливо отвел глаза, ибо его выводило из равновесия все, что хоть сколько-нибудь нарушало рутину, к которой он был навечно прикован.
– Доброе утро, Шерман! Какой сегодня чудный день! Вот уж – всем денькам денек!
В каком-нибудь фильме это могло бы его насторожить. В реальной жизни его ничто не могло насторожить. Он еще ниже пригнул голову к своему столу, притворяясь, что читает газету.
– Шерман! Да знают ныне звезды и луна, что Шермана душа любви полна! Ты в честь одной красотки из наяд Эроту под стрелу подставил зад! Так поспеши ж на Юг, на берег моря, где будешь отдыхать, не зная горя!
Бедный Шерман Осковиц, который ни разу не целовал женщин, никогда не держал их в объятиях – и проходил мимо миллиона женщин, которых никто никогда не целовал и не держал в объятиях; который не осмеливался смотреть на них достаточно долго, чтобы установился контакт, и который как-то раз сказал: «В Бруклине снегу намело – сантиметров пять. Можно сказать: снегу на пенис» – после чего стал краснеть, пока не начал походить на румяный пирог с вареньем.
– Шерман, Шерман, – сказал я. – Сколько лет тебе осталось? Почему ты не разрубишь все узлы? Поезжай кататься на водных лыжах. Отправляйся на ярмарку в Сиракузы. Там есть будки для поцелуев. Купи поцелуйчик у женщины в будке, Шерман, пока не сыграл в ящик.
Он не на шутку разволновался и, готовый едва ли не броситься наутек, воскликнул:
– Ты с приветом!
– Шерман! – крикнул я. – Ради бога, садись на поезд и отправляйся в Сиракузы! Сегодня же!
– А моя работа? – возразил он.
– Да пропади она пропадом, – шепнул ему я.
– Он сказал – пропади она! – возгласил он, словно обращаясь к невидимому судье.
– Да, сказал.
– Ты сказал… Ты сказал! Я доложу мистеру Пайнхэнду. Да-да, доложу ему.
– Мистер Пайнхэнд в Формосе, – заявил я, ибо в тот день знал местопребывание, по сути, каждого банковского служащего.
– Доложу ему, когда он вернется.
– Валяй докладывай.
Покинув Шермана Осковица, приобретшего теперь цвет винограда, я направился в клеть 47. Одно из главных беспокойств Смеджебаккена состояло в том, как бы меня не направили куда-нибудь в другое место, после того как мы жизнь положили на рытье туннеля до клети 47. Я заверил его, что этого никогда не случится.
– Откуда вы знаете?
– Я совершенно уверен, что смогу оставаться в клети сорок семь целую вечность, если понадобится. Осковиц не воспринимает времени. Для времени требуется по меньшей мере две вещи – движение и изменение. Если бы все оставалось в покое, то время не двигалось бы, его бы не существовало. Без перемен не существовало бы движения, а следовательно, и времени. Для Осковица нет ни движения, ни перемен. Он бюрократ. Помести его в янтарь, которому предстоит расколоться через десять миллиардов лет, он и глазом не моргнет. Поверьте, если бы никто не умирал и ничего не происходило в ближайшие миллион лет, он являлся бы в банк ежедневно, кроме выходных и Йом-Кипура, и даже ничего бы не замечал. Я могу укладывать золото в сорок седьмой клети, сколько мне заблагорассудится, хоть всю жизнь, если мне вздумается, и Осковиц не обратит на это никакого внимания.
Это было истинной правдой. Я оставался в сорок седьмой с того времени, как мы начали планировать ограбление, и вплоть до дня его осуществления – десять месяцев, занимаясь (якобы) работой, на которую не могло потребоваться больше недели.
Другие проблемы были куда серьезнее и досаждали куда сильнее, однако инженерный гений Смеджебаккена все их благополучно разрешил. Он был человеком минувшей эры, совершенно неприспособленным к современной эпохе, и эта особенность характера дарила ему иной раз чудесные озарения.
Он был создан для времен Томаса Эдисона, Марка Брюнеля и Джона Ди. Я часто путаю его с Джоном Ди, ибо, хоть они и не были похожи друг на друга, обоих когда-то поцеловал один и тот же мятежный ангел, а созданные ими новые механизмы, пусть и не схожие между собой, одинаково обстоятельно продуманы. В середине двадцатого века произведения инженерного искусства, определявшие механику того времени, не были такими холодными, мощными и негуманными, как теперь. Они все еще создавались из металла и дерева. Они все еще пахли машинным маслом, лелеяли в себе огонь, испускали пар или приводились в действие водой, потоком воздуха или магнитами, крутящимися на мерцающем стержне. Никому не казалось, что они нарушают законы природы. По духу своему они совершенно отличались от этих ужасных ящиков для тупиц, которые называются компьютерами. Они были тиглями, наполненными землей, водой, огнем, гравитацией и магнетизмом. Можно было их потрогать, понюхать, почувствовать их вибрацию. Они не светили вам нагло в лицо слабоумной прозеленью, не были безгранично терпеливыми и полностью лишенными голоса механизмами.
Машины, которые так любил Смеджебаккен, сами были едва ли не живыми организмами и не впадали в стерильную точность, которая отличает сверхчувственный, божественный мир от нашего, человеческого. И никому не требовалось состязаться с ними в погоне за совершенством. Так что, видите ли, Смеджебаккен не был самонадеянным. Даже если он в чем-то ошибался, ошибка эта ни в чем пока не проявилась, и все его устройства были выполнены с той невинной дерзостью, которой, смею утверждать, более не существует.
Самая большая наша проблема заключалась в том, чтобы провести шахту сквозь горную породу в точности к той точке клети 47, куда нам требовалось, и не только для того, чтобы снаружи не было видно, как в нее отправляется золото, но и, что гораздо более существенно, с той целью, чтобы отверстие ее оказалось между проводами сигнализации, забетонированными на расстоянии фута друг от друга. Это было исключительно трудной задачей, и в процессе преодоления одной трудности создавались две новые, чему, казалось, не наступит конца. Но в этом, сказал мне Смедасебаккен, и состоит инженерия. А вера инженера не только в том, что все трудности можно преодолеть, но и в том, что число их конечно.
Прежде всего нам пришлось сделать трехмерную карту беспрецедентной точности. Поскольку наши отметки уровня отстояли друг от друга на полмили и имели между собой полдюжины поворотов (одна отметка была сделана в угловом камне здания фирмы Стиллмана и Чейза, а другая, метка маркшейдера, – на улице рядом с ближайшим входом в подземку) и поскольку перепад высоты составлял 75 метров, на схеме нашей изображался зазубренный, изогнутый маршрут длиной приблизительно в 1761 метр. Нам надо было начать в точке, которую мы могли определить лишь косвенно, и, пройдя 1761-й метр, сделав более сотни угловых измерений, вернуться вслепую в эту самую точку. Чтобы разместить виниловую крепь, которая поглотит золото, и, что более важно, чтобы дать ход толщине телескопических буров для столь длинного отрезка, который нам требовалось просверлить, шахта должна быть 20 сантиметров в диаметре.
Это оставляло по пять сантиметров зазора между проводами сигнализации в полу. В одних только линейных измерениях это представляло собой довольно жесткий допуск. Но если включить сюда сотню угловых измерений, то задача требовала такой точности, которая казалась почти недостижимой.
Прибавьте к этому то обстоятельство, что мы не знали, где именно вмонтированы в пол провода сигнализации, и вы, возможно, поймете, почему, извещенный обо всем этом Смеджебаккеном, я решил оставить свою затею.