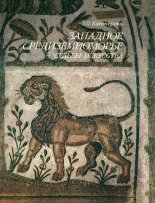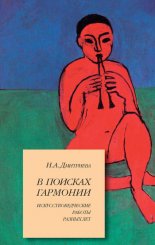Рукопись, найденная в чемодане Хелприн Марк

В детстве я изучал их фотографии, убежденный, что мне не будет дано ни физической силы отца, ни счастья повстречать женщину, подобную матери. А потом меня поразила чудесная молния озарения: до меня дошло, что, будучи сыном своих родителей, я могу унаследовать их природные качества.
Фотографии эти стали моими иконами. Одного взгляда на них было достаточно, чтобы наполнить меня воспоминаниями и любовью, тщательное изучение заставляло меня забыть обо всем окружающем, а память переносила меня во времени, пока я не переставал понимать, расставался ли я когда-нибудь с ними или нет.
Я дорожил этими образами сверх всякой меры. И хотел, чтобы они были со мною, когда меня похоронят или кремируют, чтобы и они и я уничтожились вместе, будь то медленным окислением или быстрым пламенем. Но я потерял их, когда приземлился в Бразилии. Их забрал океан, его бушующие волны.
Родился я, весьма незадачливо, на исходе декабря 1904 года. Всегда был уверен (хотя, возможно, это нелогично), что дети, родившиеся в разгаре лета, когда весь мир залит светом, предпочитают летнее время и все, что ярко, – меж тем как дети, родившиеся в самые темные дни, испытывают постоянный ужас перед холодом и мраком. Я, хоть временами (когда было сухо и солнце с луною сияли над широкими заснеженными равнинами) и любил зиму, по большей части все же норовил от нее спрятаться. Зимой мне никогда не бывало по-настоящему тепло. В нашем доме не было центрального отопления, а ухаживать за дровяной печью я не только не любил, но и возмущался тем, что если отрывок в книге или затруднение в тексте полностью поглощали мое внимание, то всякий раз я оказывался с одного боку перегрет, а с другого – заморожен. Зима с дровяной печью была подобна пребыванию на луне: есть огонь, есть лед, а между ними ничего нет.
Мой день рождения и Рождество были сиамскими близнецами. Перед лицом такого совпадения родители мои попросту тратили на один подарок столько же, сколько в ином случае могли бы потратить на два по отдельности. Однако это меня мало утешало. Я был ребенком и хотел сразу всего.
Всего, разумеется, я никогда не получал, но самый большой мой подарок являлся в январе, когда свет начинал усиливаться, а каждый день оказывался дольше предыдущего, когда рождественские и деньрожденные подарки затмевались признаками прояснения целого мира, признаками обретения им ярких красок. Даже в феврале, месяце отчаяния, когда с небес пригоршнями сыплется снег, месяце, который на моей памяти никогда не случался таким же кристальным, как тот, что ему предшествовал; даже в марте, месяце предательства, когда бури и ветры сражались с наступлением света; даже в апреле, известном своей жестокостью и дождями, – даже на протяжении всего того, что еще оставалось от зимы, медленно доигрывающей свою заунывную мелодию, свет неуклонно усиливался, разливаясь великолепным крещендо.
Задолго до июня разбитое мое сердце совершенно исцелялось, а мир казался исполненным радости. Мы жили неподалеку от Гудзона, и, чтобы достигнуть реки (что мне удавалось проделывать с невероятной скоростью), надо было пересечь два очень красивых, напоенных солнцем луга, спуститься по крутой тропинке через дубовую рощу, миновать каменную дамбу, перепрыгнуть через канаву, служившую водостоком, спуститься еще по одному пригорку и пробраться через высокие заросли камыша к полотну нью-йоркской железной дороги. Только по ту сторону рельсов открывался вид на огромное водное пространство и отдаленные горы. Главный фарватер реки проходил вдали от берега, и по нему все время, за исключением самых темных зимних месяцев, курсировали парусники и пароходы.
Скорость моя возрастала по мере того, как я становился старше и сильнее, а за годы практики я изучил каждый поворот, каждый склон, каждый клочок земли, на который можно было ступить. Я перепрыгивал через упавшие поперек тропинки деревья, используя в качестве толчковой хоть левую, хоть правую ногу, в зависимости от того, на каком из шагов они мне подворачивались, и не глядя на то, что находится по ту сторону препоны, потому что после тысяч пробежек и без того точно знал, что там такое. Это придавало моему снованию меж домом и рекой вид безрассудства. Все лучше и лучше владея своим телом, я бегал все быстрее, шаги делал все шире и все выше взлетал над препятствиями, встречавшимися на пути.
Иной раз я сам себя пугал, когда мои ноги, лучше меня знавшие как дорогу, так и то, что им под силу, простирались дальше и отталкивались сильнее, чем я намеревался. Порой, казалось, я зависал в воздухе так надолго, что это можно было счесть полетом.
По ночам мне снилось, что я отрываюсь от земли, чтобы так никогда на нее и не опуститься.
Этот сон казался мне реальнее самой жизни, так что все свои усилия я направил на то, чтобы научиться летать – не на планере или на воздушном шаре, но как своего рода человеческий снаряд, как стрела, выпущенная из арбалета. Мне было девять с половиной лет. Стояло лето 1914 года.
Хотя многие сейчас уверены, что то было последним летом «невинности», подобного которому миру уже никогда не дано будет испытать, это взгляд более молодого поколения, у которого, в отличие от меня, не было возможности знать солдат Гражданской войны. Насколько невинны были участники сражений при Геттисберге или Чанселлорвилле? Единственная невинность, граничащая с невежеством, это невинность, бытовавшая в Раю, во внешней политике Вудро Вильсона или нарождающаяся с каждым новым младенцем. В 1914 году не каждый жил такой же радостной жизнью, как я, и мне об этом было известно.
К четвертому июня 1914 года, выпавшему на четверг, меня давно уже не связывали зимние одежки (которые все равно не были достаточно теплыми) и не удерживали в плену грязь и слякоть пятимильной дороги в школу; был я слишком еще мал для экзаменов и, поскольку впереди простиралось целое лето, необычайно счастлив. Все учителя были заняты подведением итогов полугодия у старшеклассников, поэтому академические занятия окончились, и младшие дети большую часть дня проводили на открытом воздухе. Мне это было весьма по душе.
Мой царственный день, посвященный перегораживанию ручья плотиной (между прочим, представители моего поколения продолжали заниматься подобными вещами и дошли до того, что затопили половину Теннесси), резко оборвался, когда нас позвали в мастерскую. Наш мастер, отставной офицер флота, в свое время участвовавший в битве в заливе Мобил, был великолепным механиком и прирожденным архивариусом, и с балок и стен огромного сарая, в котором он нас обучал, свешивались такие интересные штуковины, как летательная машина, построенная по чертежам братьев Райт, эскимосский каяк, потрепанное чучело тигра, а также сотни вещиц поменьше, вроде бумерангов, пулеметов Гатлинга, египетской кухонной утвари, самурайских мечей, масок и костяных изображений китов. Висел там и невероятно тяжелый маятник, оспаривавший законы вращения Земли и сохранявший свое место с верностью, сориентированной на бесконечность.
Мастер, хоть и отличался вспыльчивостью, человеком был добрым, и перед работой на станках он всегда заставлял нас молиться. Весь наш класс, собравшийся в сарае механической мастерской, складывал ладони и склонял в молчании головы, в то время как столбы озаренной солнцем пыли медленно перемещались, разделяя помещение на идеальные секции, а заблудившиеся пчелы проносились в их свете, словно капли расплавленного золота. Молитва была проста: мы просили, чтобы в процессе создания какой-нибудь вещи мы не переоценили собственные силы и чтобы нам не отрезало пальцы.
Машины в нашей мастерской были опасны: токарные станки, циркулярные пилы, пригодные для мучений какой-нибудь средневековой святой, прессы и резаки, способные лишить ребенка руки с той же быстротой, с какой лягушечий язык захватывает комара. Сегодня детей и близко не подпускают к таким грозным устройствам, но в те времена подобные машины казались провозвестниками светлого будущего, и мало кто угадывал в их силах потенциал зла.
Мастеру не улыбалось, чтобы дети на его попечении оттяпывали себе руки, поэтому, не ограничиваясь молитвами, он прибегал к специальной стратегии. Он использовал кофе, точнее, кофейные зерна, которые хранил в бумажном стаканчике с изображением черепа и скрещенных костей. Будучи привычен к обозрению обширных водных просторов с мостиков морских судов, к выискиванию врагов на суше, которые выглядывали из густых зарослей, не многому позволял он укрыться от своего внимания.
Обычно он стоял, покуривая кубинскую сигару и наблюдая за всем классом сразу, и если замечал, что кто-нибудь из детей неправильно держит руки или же собирается смахнуть какую-то мусоринку из-под крутящегося лезвия, то наваливался на огромный рубильник, обесточивая расположенные над нашими головами валы, от которых кожаные ремни спускались к маховикам, соединенным с приводами всех станков.
Спася пальцы нарушителя, он переходил к спасению его души, почему мне четвертого июня 1914 года и было приказано приблизиться к стаканчику с черепом и парой скрещенных костей.
Майор обратился ко мне с той особой серьезностью, которую он приберегал для маленьких детей: как правило, он называл нас «мисс Ддамс» или «мистер Бернстайн», а если хотел подчеркнуть определенную особенность чьего-то характера, то говорил «доктор Смит», «профессор Элфорд», «генерал Осборн» или «преподобный Антробус». Он посмеивался над нами, но ласково, и его тон всегда был ободряющим и уважительным, как если бы он мог заглядывать в будущее.
Я понял, что попал в беду, когда он, обращаясь ко мне, использовал титул «пациент», а мое нарушение резюмировал поначалу на каком-то южноафриканском языке, который изучил, будучи наблюдателем при британской армии, и на который переходил лишь в сильном раздражении. Я не знал даже, что это за язык, а еще меньше – о чем майор говорил, но речь его изливалась быстро и яростно и звучала примерно так:
– Сатто коока сатибелай, амандоока хелелай пата пата. Десендай ноока, гезингай по валела. Сооковелай демандика ко-оманда. Ma ме ротсуна контага ту ай вака доганда!
Язык был похож на итальянский со множеством щелкающих звуков, и он нас гипнотизировал.
Пока я стоял перед стаканом с черепом и костями, другие дети молча собрались вокруг, как бы для того, чтобы стать свидетелями моего наказания. По окончании моего обвинительного акта на африканском наречии, которое, как я теперь понимаю, мастер мог и выдумать, он вывел меня из оцепенения, спросив по-английски:
– Ну и что вы можете сказать в свое оправдание?
– А что я сделал? – спросил я.
– Вот это вы нам и расскажите, – потребовал он.
– Я не знаю.
– Разве я вам только что не объяснил?
– Когда?
– Вот только что.
– Да, объяснили.
– Ну так и скажите нам.
– Хорошо, – сказал я и стал гримасничать, высвобождая память. – Сатто коока?
– Да, продолжайте.
– Сатто коока сатибелай, амандоока хелелай пата пата. Де-сендай ноока, гезингай по валела. Сооковелай демандика ко-оманда. Ma ме ротсуна контага ту ай вака доганда.
– Прекрасно, – сказал мастер, – но я этого не делал, так что меня в этом не обвиняйте.
– Простите.
– Коричневое, зеленое, коричневое, – огласил он приговор.
Я знал, что делать, поскольку сам был свидетелем таких наказаний. Сунув руку в бумажный стакан, я достал коричневое кофейное зерно. Коричневые, я слышал, были чуть более переносимы, чем зеленые.
Вот и оказалось оно передо мной, зажатое в моих пальцах, частично расщепленное зерно коричневого, как земля, цвета, явно очень твердое и сухое. Из таких приготовляли тот напиток, который пили взрослые, когда поднимались утром, и с его же помощью они лучше переваривали пищу. Пусть даже кофе в то время не стал еще общепринятым питьем, я воображал, что он, возможно, не так уж и плох. В бакалейной лавке я видел стеклянную банку, наполненную кофейными зернами, покрытыми шоколадом. Если они и вправду сласти, то как они могут быть столь ужасны? Возможно, мои одноклассники, которых в подобной ситуации выворачивало наизнанку и сгибало пополам, просто-напросто были чересчур подвержены внушению. Я ничуть не был встревожен, так как всегда мог делать нечто такое, что другим детям было не под силу. Отец научил меня чему-то вроде индусской методики переведения боли на запасный путь, где, хоть я и продолжал ее чувствовать, она, казалось, почти не имела ко мне отношения, но была феноменом, наблюдаемым мною со стороны.
Благодаря этому умению, а также некоторым другим своим особенностям, я знал, как выстоять при нападениях, и отличался необычайной самодисциплиной. Совершенное мое самообладание заставляло дантиста думать, что я не ребенок, а лилипут. Жил я в перестроенной конюшне, чудесном месте, кишевшем, однако же, огромными, размером с кошку, крысами, которых мы называли «гвардейскими». Будучи еще совсем малышом, я научился убивать их кочергой, что было непросто, равно как и небезопасно, ибо они норовили кусаться. Битвы с ними обучили меня стойкости, как и отсутствие в нашем жилище центрального отопления, ежедневные десять миль пешего ходу в школу и обратно, а также регулярные взбучки, которые я получал, когда проходил через хулиганские районы города.
Чего мне было бояться какого-то зернышка, мне, не издававшему ни звука, пока дантист без обезболивающего укола орудовал у меня во рту своей бормашиной? Зерна эти ценились во всем мире. Их даже жевали как конфетки.
Я положил его в рот и начал медленно жевать, на манер коровы. В первые секунды я не чувствовал никакого вкуса, и по лицу моему расползалось выражение триумфа. Но как только это зерно начало овладевать моими вкусовыми рецепторами, глаза мои расширились и я засопел, дыша через нос, как бывает в те мгновения, когда вы готовы что-нибудь сокрушить. Мне немедленно вспомнились пренебрежительные замечания о кофе, которые время от времени доводилось слышать от своих родителей, и я недоумевал, почему они, сторонники чая, не были более категоричны в порицании кофе.
Горький ручеек разросся в целую сеть потоков, пересекавших мой язык подобно реке, дробящейся в дельте, или молнии, раскалывающей сине-черное стекло неба. Я был слишком застенчив, чтобы выплюнуть зернышко, и поэтому я просто отдал себя власти страдания, позволяя отвратительной порче вливаться внутрь меня при каждом задыхающемся глотке.
Затем пришел черед зеленого зерна, которое оказалось во много раз горше коричневого. Я знал боль, но не ведал горечи. Горечь, казалось мне, насколько я вообще способен был чувствовать или думать в те минуты, подобна битве души и тела, ополчившихся друг на друга, а такого я никогда не испытывал. Хотя из глаз у меня текли слезы, я стоял прямо и гордо, в совершенном молчании. Я сражался с горечью тем, что не сгибался, и, так и не позволив себе согнуться, полагал, что победил. Увы, я не победил, потому что не сумел понять, что это было только знаком, предвестием.
Уже долгое время прошло с той поры, как я в последний раз разговаривал с кем-то, кто знает, что такое холодная погода, смена времен года, приход весны, великолепие лета, мрак Рождества и бело-синие ландшафты. Город в тропиках, где на квадратную милю приходится по двести тысяч человек, несколько отличается от местности, где в порядке вещей температура в десять градусов ниже нуля, а на квадратную милю не наберется и десятка жителей. Если бы я мог импортировать тишину, холод и спокойствие моей юности в Рио, то был бы самым богатым человеком в Бразилии. Возможно, конечно, что я и так здесь далеко не самый бедный.
На протяжении многих лет я говорил с массой американцев, приезжающих сюда, и порой упоминал о том, что отец мой был фермером. Я заметил, что чем больше проходит времени, тем дольше они глазеют на меня подобно оленям, парализованным светом дуговой лампы. Они еще не спрашивают, что это такое, но большинство из них никогда ни одного фермера в глаза не видели.
Я считаю, что работа на земле значительнее, чем простая сумма ее частей. В некоторых отношениях она подобно выращиванию ребенка. Надо трудиться, рассчитывать и мириться с тем, что выходит. Сеять, жать и постоянно следить как за землей, так и за погодой. Интеллектуалы с ходу говорят мне, что мои воспоминания о ранних годах жизни романтизированы временем, но я помню многое, о чем они просто не могут знать, и в этих вещах я совершенно уверен, потому что испытал их на своей шкуре.
В конце концов всех нас вынудили покинуть ферму, но хотя времена, пока мы там оставались, становились все более трудными, то была лучшая жизнь, какую я только могу вообразить.
Самым близким к тому, что я тогда знал, представляется мне жизнь здешних рыбаков. Изо дня в день выходят они в море, чтобы вытянуть из него невод рыбы, которую затем продают и которой питаются. Они никогда не разбогатеют, но никогда не будут лишены красоты моря. Они упражняются в профессиональных навыках, вобравших в себя старые как мир секреты мастерства рыбной ловли. И мир может заниматься чем угодно. До тех пор, пока у рыбаков есть дело, мир не кончится.
У нас было семьдесят акров на плато над Гудзоном к северу от Оссининга. Ровная земля в такой близости от реки встречалась не часто, а то был особо прелестный участок, с огромными дубами, росшими в оврагах между полями, и видами на горы и реку. Мы выращивали кукурузу, яблоки, овощи и заготавливали сено для двадцати своих молочных коров. Малышом я ездил в телеге с отцом на пристань в Спарте, где мы грузили свой урожай на колесный пароход. Когда я подрос, мы начали отправлять свои товары поездом, затем грузовиком, но рынком нашим всегда был Нью-Йорк со всеми своими ненасытными покупателями.
Поначалу мы могли соперничать с неизмеримо более производительными фермами Среднего Запада и даже Калифорнии, поскольку наша продукция была более свежей. Но по мере того как улучшалась доставка грузов и появлялось все больше и больше машин, изменявших технологию обработки почвы, огромные фермы в других частях страны смогли предлагать более привлекательные продукты питания и снижать свои цены в той же мере, в какой мы поднимали наши.
С самого своего рождения я наблюдал, как отец мой терпел неудачи. Сначала он не хотел этого признавать. Затем допустил, что нас ждут тяжелые времена. Когда тяжелые времена не пожелали смягчиться, он стал во всем винить себя и начал трудиться едва ли не усерднее, чем это вообще возможно для человеческой природы. Когда и это не остановило снижения нашего достатка – помню, с каким вожделением набрасывался я на вареную картошку и какое чувство испытывал после того, как съедал крошечный кусочек мяса на обед, – он попытался прибегнуть к новой стратегии. Неожиданно мы стали выращивать разного рода странные нежные экзотические фрукты и овощи, вернее – пытались выращивать: малину, цикорий, заморские дыни. Эти культуры были капризны, ранимы, и убирать их надо было мгновенно, а в противном случае они портились. Вскоре мы вернулись к привычным посевам, а потом стали возникать проекты – санаторий, часовая мастерская, рубка льда на продажу, содержание конюшни. Некоторые, возможно, и сработали бы, но он ни одного из них не опробовал: он не думал, что располагает достаточным временем, чтобы за них приниматься, да и в любом случае он не был тем человеком, который мог бы за такое взяться. Как и я, он понимал тщету любого успеха, и сердце его не лежало к участию в подобных играх.
Так что он постоянно прогорал, и чем больше он прогорал, тем сильнее я его любил и тем лучше понимал. В девять с половиной лет все, что я знал, была любовь, смешанная со стыдом, а поскольку у самого меня не было сил, не было еще даже дремлющих сил, я и не помышлял за него отомстить. Я знал только ни с чем не сравнимую привязанность, которую испытываешь к тем, кого любишь, когда они терпят неудачи.
И все же, когда мне было восемь, я научился управлять запряженной в плуг лошадью и со скрытой радостью занимался этим на протяжении долгих и трудных дней, потому что отец во мне нуждался. Земля отдает обратно более или менее столько, сколько в нее вложишь. Изменения коснулись отнюдь не земли, не сущности того, что мы делали, и не качества урожая, но всего остального в мире. Мы понимали это. Даже я это тогда понимал.
Великие проекты так никогда и не были опробованы, и отец продолжал обрабатывать землю. Зимой он убирал снег, занимался малярными работами и колол дрова. Мать подрабатывала шитьем и обычно начинала строчить свои блузки, когда еще даже не рассветало, в жгучем холоде, при свете лампы.
Мы с отцом тоже вставали до рассвета. Требуется немалое время, чтобы подоить двадцать коров, если у вас нет доильного аппарата, а потом надо еще их покормить, почистить стойла и выгнать наружу, если на дворе не слишком холодно.
После завтрака мы с отцом уходили – он шел продавать молоко, а потом отправлялся на какую-нибудь работу, а я шел в школу. Мать же, помимо двухмильного похода в городские магазины и возвращения с покупками, весь день работала дома – занималась готовкой, уборкой и своим шитьем.
Если не считать занятий в школе, то короткое время перед обедом было всем, чем я располагал, чтобы выучить уроки. Обед начинался в пять и заканчивался в половину шестого. Пока мать мыла посуду, мы с отцом ухаживали за коровами. Потом подкладывали в печь побольше дров и зажигали на кухонном столе керосиновую лампу.
Согнувшись над огромной доской, обтянутой зеленым войлоком, отец чинил часы. Он мог наладить любой механизм и был известен этим с самого детства. Поначалу он занимался этим безвозмездно, но вскоре починка часов стала приносить доход. Он пользовался двумя подносами с инструментами и тремя лотками с запасными колесиками и винтиками, и лампа должна была гореть ярко.
Мать шила, укладывая готовые блузки в тонкие деревянные ящики, снаружи красные, хотя, в зависимости от магазина, иногда это были голубые картонки с золотыми литерами. Даже в начале пятидесятых я не мог пройти мимо старых универмагов в Нью-Йорке, чтобы не почувствовать печали в сердце. Когда я смотрел в их освещенные витрины, вид теплых интерьеров уносил меня в то далекое время, к тем людям, к которым я все сильнее привязывался по мере того, как между нами становилось больше лет и миль. Матери тоже требовался яркий свет, потому что она занималась тонкой работой и ее стежки должны были располагаться равномерно и быть идеально прямыми.
В эти часы я тоже занимался сдельной работой. С помощью матери я в возрасте семи лет запросил и получил контракт на поставку восковых печатей в элегантный магазин мужской галантереи на площади Юнион-сквер, давно оттуда исчезнувший. Над входом там висел позолоченный барельеф с изображением двух гибких дельфинов. Смотреть на них было очень приятно, и они всегда привлекали внимание прохожих. Думаю, что прекрасно очерченные формы двух дельфинов, выступающие из гладкого золота, буквально внушали людям желание войти в этот магазин и выйти оттуда с чем-нибудь этаким, лежащим в глубокой синей коробке.
В витрине на подкладке из голубой лощеной бумаги возлежала массивная восковая печать с изображением все тех же дельфинов, а под ней переплетались золотые ленты. Многие годы я был эксклюзивным поставщиком этих овальных скульптур размером с большое домашнее печенье, и работал я каждый день, круглый год, чтобы выполнить минимальный заказ на пять тысяч. В хороший сезон мне удавалось удваивать это число.
Начинал я довольно примитивно, но к девяти годам моя технология производства стала исключительно эффективной. У нашей печи было четыре конфорки, и на каждую из них я устанавливал четыре чугунных горшка с длинными прямыми ручками, покрытыми эбонитом. То были сосуды металлурга. Под каждой конфоркой была разная температура. Я удерживал воск на различных стадиях разжижения. Процесс требовал, чтобы огонь был устойчивым, и я постоянно следил за ним и подбрасывал заранее подготовленные дрова. У меня были поленья трех размеров (собственно, я пользовался линейкой, когда пилил их и колол), все одинаковой плотности и процента влажности. С помощью точных часов и термометров в горшках я мог удерживать воск на любой стадии в пределах двух градусов от идеальной температуры – для определения которой понадобились месяцы экспериментирования. Когда сосуд был пуст, я наполнял его брусками золотистого воска и менял горшки местами. За то время, пока я поддерживал огонь и очищал свои инструменты и рабочие поверхности, была готова очередная порция горячей массы.
Я рассыпал тальк через мелкое ситечко на тщательно отполированный кусок сланца размером с развернутую газету, который как по волшебству делался белым. На одной из секций покрытого тальком сланца я устанавливал в ряд пять овально замкнутых полосок из нержавеющей стали – каждая из них была в полдюйма высотой и на каждой была выгравирована линия, отмечающая три четверти расстояния вверх по внутренней стенке. Затем с помощью черпака я разливал воск в эти овалы. Чтобы выровняться при растекании и подняться точно до ограничительной линии, воск должен был быть растоплен, но если он был слишком горяч, то прилипал к металлу. К тому времени как я возвращал горшок на печь, первый овал был почти готов к штамповке.
Если пользоваться маслом, обрабатывая сам штамп, то оно может изменить поверхностные характеристики, а иногда и цвет медальона. Единственной эффективной смазкой, не оставляющей следов, был пот из ладони, и для достижения этого я разогревал штамп до довольно высокой температуры, а потом прижимал его к своей ладони, но температура не должна была быть слишком высокой, потому что это полностью разрушило бы поверхность и испортило тонкую гравировку.
В отсутствие термометра, погруженного в воск, определить его готовность к штамповке можно было только одним способом – по качеству его поверхности. Если она была чересчур горяча, то капли воска прилипали к штампу. Отдирать их, затвердевшие после погружения в холодную воду, было трудно и требовало времени. Между тем надо было успеть снять стальные овальные ободки, чтобы воск не приклеился и к ним. С другой стороны, если промедлить, то штамп прилипал к воску или же тот вообще не принимал на себя отпечатка. Освобождать штамп от воска всегда было кошмаром, потому что просто выплавить его оттуда не получалось.
Если все шло гладко, как оно и было, когда я во всем основательно разобрался, то я делал оттиски, снимал ободья, и передо мной оказывались пять золотистых медальонов с дельфинами – они грациозно подпрыгивали, чуть приметно улыбаясь, а кривизна их спин лишь слегка расходилась с кривизной овальных обрезов медальонов.
Работая усердно за относительно малую плату, я был счастливее, чем позже, когда, почти ничего не делая, получал столько денег, что они утратили свое значение. И именно там, в тепле огня, разогревавшего мои горшки с воском, и в свете лампы, выкрученной на полную яркость, узнавал я свою мать и своего отца – истории их жизни, их верования и мечты. Хотя большинство детей, живших на фермах, занимались домашней работой, я стал еще и сдельщиком. И я понимал, с какой благодарностью воспринимают родители мое трудолюбие, как горюют они из-за того, что мне приходится так много работать, – как понимал и то, что источником и единством двух этих чувств является не что иное, как их любовь ко мне.
Я сижу в саду Нигероя, глядя на простирающееся внизу море, и лелею свои воспоминания. Удовлетворение, которое я при этом испытываю, сродни тому, что даруется поцелуем. При поцелуях так и тянет закрыть глаза, словно бы для того, чтобы это продлилось вечно. Когда целуешь кого-то с истинной любовью, то это как будто последнее, что ты когда-либо делаешь, после чего тебе предстоит исчезнуть в бесконечной тьме. Так что в этом, возможно, причина того, что дыхание твое становится чуть заметным, а то и вовсе замедляется, и в этом же причина того, что, вспоминая простые вещи из своего детства, я легонько вздыхаю, прикрываю на мгновение глаза и чувствую на лице своем улыбку настолько легкую, что ее, вероятно, невозможно увидеть.
А потом открываю глаза, и их наполняет море, напоминая о том, что летом и в выходные на протяжении всего года я тоже был рыбаком. Это не было спортом, и я не располагал снаряжением, которое стоило в сотню раз больше того, что мог бы я выручить за день, продавай я свой улов, – что, впрочем, я иногда и делал, если рыба хорошо клевала или же крабы устраивали какое-нибудь совещание в моих ловушках. Обычно я сматывал удочки, когда улова хватало нам на пропитание.
Множество часов провел я на маленьких пляжах Кротона. Если мне хотелось половить рыбу в проливе, где вода была глубже и проходила главная рыбья магистраль, то я одолевал пять миль до самого кончика мыса Теллера. В те дни мир был моей рыбной лавкой, и я возвращался домой с морским окунем, сельдью, лососем, крабами, устрицами и моллюсками. В пресноводных прудах я ловил зубатку, окуня и раков. А еще были сезоны для черной смородины, малины, дикой земляники и тутовника. К грибам я не притрагивался, а промыслом дичи занимался исключительно отец – у меня, как у ребенка, любившего животных, совсем не лежала к этому душа. Впоследствии, став подростком, у которого убили родителей, я не переносил даже и зрелища охоты.
Для ребенка, которого лишают родителей вот таким образом, мир становится если не постоянно надломленным, то по меньшей мере постоянно согбенным. Если, как в моем случае, настоящие убийцы так и не предстают перед правосудием, то ты обречен всю свою жизнь прожить со знанием, что они где-то на свободе; что они одолели и сокрушили тебя; что они могут явиться за тобой; что любой из тех, с кем ты имеешь дело, каким бы милым и располагающим к себе он ни был, может оказаться воплощением дьявола, а потому ты не смеешь ни верить ему, ни рассчитывать на него, ни делиться с ним своими тайнами; что твоя жизнь должна стать борьбой за выживание, чтобы ты смог дожить до ста лет, чтобы ты мог быть уверен, что убийцы умрут прежде тебя, – а именно это представляется тебе самой сокровенной потребностью и самым глубоким желанием твоих родителей; и что когда твои родители умирали, то их сопровождал ужас – они страшились, что их убийцы набросятся и на тебя, на ребенка, ради которого они бы с радостью умерли, но для которого в самый последний миг своей жизни не могли сделать решительно ничего.
В пятницу, пятого июня 1914 года, на другой день после того, как я был принужден проглотить три кофейных зерна, нас освободили от занятий на два часа раньше обычного. И учителя, и ученики, и даже – или, может быть, в особенности – директор утомились и бегом в мешках, и пикниками, и перетягиванием каната. Экзамены закончились в полдень, ознаменовавшись радостными воплями нескольких десятков учеников, сдававших геометрию в костюмах и платьях, слишком жарких для душного спортивного зала, в котором они провели три часа, пролетевших как три минуты, манипулируя компасами и транспортирами с отчаянной самоотдачей орудийного расчета. Парты, за которыми они сидели, были слишком малы для того, что им приходилось делать, так что весь зал был наполнен стонами, кряхтением и напряженным дыханием.
Затем, с головами, забитыми теоремами, они освободили зал от мебели. Теперь им предстояло ждать выпуска, который должен был состояться неделей позже. Я, будучи девяти с половиной лет от роду, взирал на свой собственный выпуск с тем же священным ужасом, какой сегодня испытываю к смерти.
Некоторые из старших учеников через несколько недель собирались пожениться, а это означало, что парень и девушка получали право войти в комнату, запереться и снять с себя все одежды. Даже в девять с половиной лет я думал, что это достаточная причина для того, чтобы прилагать все старания, обучаясь в средней школе, и, хоть я и не знал точно, что происходит после закрытия двери, одна только мысль об этом вызывала волны удовольствия с легкой примесью онемения, которые пробегали от макушки до пяток. По сотне лет – на каждую лодыжку и икру, по две сотни – на губы, на плечи… И все же я не знал ничего сверх этого, никакой механики, гидравлики, биологии – только любовь и обожание.
Домой я шел через город, глазея на горчичники в аптечной витрине и на помпы и фонари – в витрине хозяйственной лавки. На магазины одежды и продуктовые лавки я не обратил внимания, мельком глянул на вырезанных из дерева обезьян, всегда обитавших в витрине парикмахера (хотя за всю эту вечность на них не осело ни пылинки), а потом поднялся на мост, направляясь к заливу.
Отец мой возделывал поле и, когда я подбежал к нему, едва на меня взглянул, следя за прямой линией борозды. Его рубашка была мокрой, и он тяжело дышал, но выглядел так, словно получал огромное удовольствие, управляя плугом и удерживая поводья. Я помню наш короткий обмен репликами, потому что он был последним.
– Пришел? – спросил он.
– Ага.
– Вот как? – сказал он, что означало: «Со школой до осени, похоже, завязано?»
– Вот так, – эхом отозвался я.
– Что собираешься делать?
По тому, как он это сказал, я понял, что речь идет не о предстоящем лете, но о сегодняшнем вечере.
– Порыбачу.
– Я пробуду здесь до восьми, – сказал он. – Потом сядем обедать.
– Ладно.
– И не уди с башни.
Когда он произнес эти слова – последние, что мне довелось от него слышать, – я уже уходил. Поскольку мне хотелось удить именно с башни, то я ничего не ответил и, промолчав, не солгал.
Мать была в доме, наверху. Войдя, я ощутил ее присутствие, я мог бы даже услышать ее, но хотел лишь взять свои рыболовные принадлежности и бежать к реке. Поскольку я пристегнул лямку своего рюкзака к поясному ремню, чтобы он не стучал мне на бегу по спине, то все делал совершенно бесшумно. А потом вышел, счастливый, но смущенный, что уклонился от матери, потому что она все же могла меня услышать и хотела бы обнять меня, как всегда делала после моего возвращения из школы, словно бы затем, чтобы удержать мое ускользающее детство, но не стал в это углубляться, потому что как только я ступил на тропу, ведшую к реке, то начал лететь, и две половинки моей удочки устремлялись вперед из моих распростертых рук, словно рассекающие ветер антенны на крыльях истребителя.
Отец мой хотел, чтобы я обходил башню стороной, не потому, что боялся, как бы я не пошел дурной дорожкой, – девятилетнему мальчишке очень трудно согрешить, даже если он этого захочет, – но потому, что хотел удержать меня от знакомства с дурными дорожками. Не столь уж необходимо, чтобы родители подавали своим детям хороший пример, – важнее, чтобы они не подали им примера дурного. Важно не столько то, чтобы ты (если рассмотреть случай нашего городского парикмахера) видел, как усердно твой отец вырезает деревянных обезьян, сколько то, чтобы ты не видел, как он курит опиум или пинает сапогом щенка. Если бы, например, родители не пили кофе на глазах у детей, то дети стали бы пить кофе не раньше, чем извели бы все деньги на пирсинг и татуировки.
Оссининг в те дни был внешне безгрешен, все пороки и большинство добродетелей, буде таковые имелись, практиковались исключительно дома. Таким образом, следуя десяти заповедям и кое-чему еще, родители мои обеспечивали мне хорошее начало. Башня, однако же, была обиталищем разнообразных мелких прегрешений.
Подоплекой данного обстоятельства (которая сама по себе была не пороком, но своеобразным преддверием мира порока) являлось то, что башня оставалась открытой всю ночь напролет. Так оно и должно было быть, поскольку она служила стрелочной станцией гудзонской линии Нью-Йоркской центральной железной дороги. Там всегда горел свет, при прибытии и отбытии поездов на пульте, отражавшем состояние путей, вспыхивали маленькие лампочки, телефон звонил круглые сутки, а частенько и «викгрола» играла много позже того часа, как почти все остальные в городе засыпали, – раструб ее высовывался из окна в сторону реки, потому что музыка была слишком уж громкой.
Хоть им и не полагалось этого делать, но в пустоте за стенными панелями стрелочники держали бутылку скотча. Если бы они чрезмерно злоупотребляли виски, им было бы крайне затруднительно воспринимать все огоньки, прыгавшие по панели наподобие светлячков, или потянуть за нужный рычаг в длинном черном ряду переключателей, которые походили на винтовки, установленные в козлы. Поэтому у них было правило, в соответствии с которым ни один из них не мог приложиться к бутылке без того, чтобы к ней приложился и другой, и в башне позволялось держать только одну бутылку зараз. Таким образом, каждый из них был автоматически ограничен половиной бутылки за смену, что, полагаю, было весьма удачным для переполненных пассажирских и тяжело груженных товарных поездов, сновавших в противоположных направлениях со скоростью семьдесят миль в час каждый.
Практика укрывания бутылки за стенной панелью впервые познакомила меня с одной из редких красот в американской системе правосудия. Однажды я был в этой башне во время снежной бури, взволнованно ожидая прохода снегоуборочного поезда, меж тем как с юга приближался товарный состав. Поскольку стрелочники тоже беспокойно ждали снегоуборочного поезда, который должен был появиться с минуты на минуту, у них руки не дошли, чтобы перекинуть один из своих рычагов, и направлявшийся на север товарняк сошел с рельсов. Два локомотива, тендер и три вагона оказались наполовину затоплены в болоте, в то время как сорок или пятьдесят остальных вагонов просто осели сбоку от пути.
Ощущение было такое, словно в помещение ворвался паводок и затопил его, поднявшись нам по самую шею. Двое стрелочников сразу же поняли, что потеряли работу, что семьи их подвергнуты опасности и что если кто-то при этом погиб, то и сами они остаток своей жизни проведут за решеткой. И все из-за того, что им, так же как и мне, не терпелось увидеть снегоуборочный поезд.
А потом, даже до того, как мы узнали, пострадал ли кто-нибудь при аварии, явился поезд-снегоуборщик. Полный усердия, катился он по пути, яркий его свет пробивался сквозь вьюгу, а когда он миновал нас, то за ним осталась расчищенная дорожка.
Прежде чем они или я бросились по расчищенному пути к болоту, у нас состоялся мгновенный суд, в котором стрелочники, бывшие ответчиками, представляли самих себя, а я выступал в роли прокурора, следователя, судьи и присяжных. Суд этот занял около десяти секунд, но был таким же прекрасным примером правосудия, как все остальные, что мне доводилось видеть. Один из стрелочников быстро поднял одну из досок стенной панели и указал на бутылку.
– Смотри, малыш, – сказал он. – Бутылка-то не распечатана!
Бутылка была непочатой. По мере прохождения секунд я осознал свою роль в этом деле и кивнул, спасая их от излишнего наказания, потому что достоверно знал причину их невнимательности и согласился не усугублять их положение.
Пока один занялся вызовом ремонтников, другой поспешил по пути. Несколькими минутами позже он вернулся с несколькими мокрыми и грязными железнодорожниками, отказывавшимися даже смотреть на нас. Когда вечером двое этих стрелочников уходили из башни, они прихватили с собой все свои вещи и никогда больше там не появлялись. Ремонтные бригады, несмотря на вьюгу, ночь напролет работали, чтобы водворить товарный поезд на рельсы, и отблески их прожекторов можно было видеть из окон нашего дома. Официально объявленной причиной происшествия стала вьюга, что по самой сути своей было совершенной правдой, хотя руководство железной дороги в этом и сомневалось.
Когда наступил следующий день, то все выглядело так, словно ничего и не случилось. Товарный состав ушел, путь был починен, поломанные шпалы засыпаны свежевыпавшим снегом, а в башне размещалась новая команда стрелочников. Они не расслаблялись до самой весны, когда наконец осознали, кому на самом деле принадлежит эта башня, и стали пускать меня ловить рыбу с железного пожарного выхода, нависавшего над Гудзоном. О бутылке я никогда никому не говорил. Если башня все еще стоит – в начале пятидесятых я часто видел ее из окна поезда компании «Двадцатый Век Лимитэд» по пути в Чикаго и обратно, – бутылка виски семидесятилетней выдержки по-прежнему спрятана в стенной нише, за третьей доской справа, со стороны реки.
Новые люди в башне не очень отличались от своих предшественников. Они тоже приносили с собой журналы, которые по меркам тех дней были бесстыдно порнографическими.
– Малыш, видал когда-нибудь голых теток?
– Не-а.
– Хошь глянуть?
– Не показывай ему этого, Ньютон, он слишком мал.
– Ничего я не мал.
– Он даже не поймет, на что такое смотрит.
– Вот я и хочу показать ему картинку, чтоб узнал что к чему.
– Это нехорошо. Не совращай младенца.
– Я хочу посмотреть на… – начал было я, но меня оборвали.
– А ты заткнись! Расскажешь мамочке, она сюда заявится и сровняет нас с землей. Я вот пирог принес. Давай налетай!
Стоя на пожарной лестнице и уплетая пирог с черникой, я видел, как их зрачки то сужались, то расширялись, в то время как они разглядывали страницы журнала. Сам я никогда в него не заглядывал. Они держали его в среднем ящике стола, и, чтобы добраться до этого ящика, надо было сдвинуть одного из стрелочников, который просто запечатывал его, когда наклонялся над столом и кричал что-нибудь по телефону. Ни один из них никогда не откидывался, разговаривая по этому аппарату, но вытягивался вперед, левитируя над зеленым сукном стола, словно какой-нибудь гиппопотам, плывущий над лужайкой.
Когда ранним вечером мимо нас проходили ночные поезда, направлявшиеся в Монреаль, Чикаго и вообще на запад, мы с вожделением заглядывали в их освещенные окна, где, как нам представлялось, могли увидеть настоящую жизнь. Башня была приговорена к постоянным сумеркам. Свет в помещение приносили только красные угольки лампочек на пульте и два фонаря над расписанием северного и южного направления, так что когда огромные поезда и вагоны проносились мимо, то это было похоже на черно-белую киноленту, мелькающую на экране в луче проектора.
Те картинки из волшебного фонаря двигались порой со скоростью семьдесят миль в час и позволяли получать искаженное видение мира, что ни в коей мере не означает, будто восприятие мое было неточным. Как и все остальные, я упорствую в упорядочении всего сущего, но полагаю, что мир подобен листу бумаги: он может быть согнут лишь определенное число раз, после чего распадается на две половинки. Циклы истории, как мне представляется, состоят именно из таких сгибаний и разгибаний, но им еще сопутствует и некий танцевальный ритм.
Прежде чем я узнал огромный город, лежавший к югу, прежде чем я узнал о преступлениях, о страданиях и о смерти, мимо моих изумленных глаз пронеслись тысячи ярко освещенных картин. Я обнаружил, что многие из этих сцен включали в себя мужчин и женщин, по большей части совершенно обнаженных и сцепившихся словно борцы на арене. Это мало что для меня значило, поскольку последовательность их действий была представлена беспорядочно и на составление общей картины из разрозненных обрывков ушло около двух лет, причем всему моему исследованию сопутствовал совершенно произвольный крен в сторону, скажем, поцелуев в ухо. Гораздо более ценимой была полная фронтальная женская нагота, нечто такое, что случалось увидеть чаще, чем можно было ожидать изначально, потому что по ночам окна в поезде становились зеркалами для тех, кто находился в полностью освещенных купе. И все же подобное происходило редко. Я бы сказал… всего-то раза четыре. При скорости в семьдесят пять, в шестьдесят, в сорок и – однажды – да благословит Господь машиниста – при скорости в пять миль в час. Тогда я узнал не только о том, какая великолепная красота укрывается от моих глаз требованиями скромности, но и о том, что даже скорость в пять миль в час может показаться чересчур быстрой.
Жемчужины видений попадались редко, зато не было недостатка в картинках жизни обитателей морского дна. Среди тысяч видений, являвшихся и исчезавших, помню я крохотного человечка с козлиной бородкой и в пенсне, разглядывавшего груду драгоценных камней, которые он высыпал из футляра для скрипки на столик. Должно быть, он был каким-то вором, но о технических его приемах все могли только догадываться. Я видел жирных мужчин в котелках, исполнявших победный танец. Полагаю, я видел, как удаляют аппендицит. Я видел девочку, проползавшую мимо со скоростью меньше мили в час, которая застряла в свитере, пытаясь снять его через голову. Сначала я не понял, что это передо мной такое. Она походила на миниатюрного носорога, колотящегося в стены купе спального вагона.
Хотя вагоны-рестораны всегда были полны и шумны, многие из пассажиров ели у себя в купе. Люди ограничены в средствах, и некоторые, по-видимому, могли позволить себе заплатить за проезд в купе, но не за обед в ресторане, а потому прихватывали с собой корзинки с едой, словно на пикник. Я частенько затевал игру, в которой палки салями выполняли роль часовых и минутных стрелок. «Двадцать минут…» – говорил я, когда салями проезжала мимо, указывая на Западную Виргинию, а потом, возможно, несколькими поездами позже, когда салями указывала на Нью-Хейвен, добавлял: «третьего».
Иногда мы видели драки, видели мужчин, избивавших женщин, хотя случалось видывать и женщин, бьющих мужчин. Однажды в поезде, шедшем на юг, из Чикаго в Нью-Йорк, мы видели двух человекообразных обезьян (я почти уверен, что это были обезьяны), глазевших друг на друга так, словно бы они были влюблены.
Как-то раз летним вечером мы наблюдали, как мимо медленно ползли несколько вагонов с приоткрытыми окнами, и во всех купе было по музыканту, каждый из которых играл ту или иную часть из одного и того же фортепианного концерта Бетховена. Либо то был гастролировавший симфонический оркестр, либо мы стали свидетелями одного из величайших совпадений в мире.
Можно назвать почти все на свете: кроликов, акробатов, плачущих женщин, борзых щенков, бухгалтеров, скучающих детей, влюбленных обезьян, смертельно больных сицилийцев, – и всех их мы видели катящимися мимо. В этой вселенной можно было определять время по расположению палок салями, а обнаженная женская фигура, полностью освещенная, всегда была захватывающе прекрасной. Хотя я никогда не мог познакомиться с той нагой красавицей, что проплыла мимо меня на скорости пять миль в час, а теперь – либо мертва, либо разменяла вторую сотню лет. На протяжении десяти секунд я видел ее во всей ее прелести – и с тех самых пор не переставал ее обожать.
Настоящей добычей, однако, становились для нас частные вагоны. В некоторых из них имелись рояли, мраморные кухни и ванны, в которых можно было искупать слона. Когда появлялись эти дачи на колесах (а это бывало по нескольку раз в день), то можно было видеть, как подаются обеды, как проводятся совещания, как промышленные магнаты занимаются подсчетом возможной прибыли за огромными столами, сидя в кожаных креслах цвета красного вина, размером с итальянский автомобиль.
Созерцать богатство интерьеров, освещенных электричеством или мерцанием огня в каминах, было интересно не из-за деталей обстановки, а благодаря тому, что они внушали всем своим видом. Они заставляли меня тянуться к подлинной жизни, хотя подлинная жизнь была именно в том, чем я обладал тогда, сам того не ведая. Я совершал ошибку, достаточно распространенную, полагая, что жить подлинной жизнью означает знать многие вещи и многих людей, подвергать себя опасностям в дальних краях, пересекать океаны, затевать сооружение электростанции на реке Колумбия или учреждать пароходную линию в Боливии. Я не переставал удивляться, откуда брались все те высокие и элегантные женщины в вагонах, великолепные одеяния которых делали их похожими на героических женщин, чьи профили выбиты на монетах. Кто они были такие, чтобы знать так много грехов и сидеть так спокойно и непринужденно, знай себе попивая вино цвета рубина? Я понимал, что когда-то они были маленькими девочками, вроде моих одноклассниц, трепетными как лани. Что пережили они, оказавшись в купе? Случится ли такое со мной, или это происходит только с теми, кто может позволить себе колесить по просторам страны в собственных вагонах, построенных из ценных пород дерева?
В свои девять лет я знал достаточно, чтобы, всего только заглядывая в окна проходящих вагонов, понять: магнаты как класс людей определенно несчастны. Запах этого несчастья исторгался из их великолепных и дорогостоящих гнезд подобно тому, как соответствующий запах доносился из вагонов для скота. Если ветер дул в определенном направлении и с определенной скоростью, то запах поезда со скотом ощущался за полчаса до его появления и долгое время после того, как вагоны пропадали из виду. То же самое было и с миллионерами, чье несчастье возвещало об их присутствии едва ли не за милю, как по волшебству.
Существовало по крайней мере четыреста сказочно богатых семейств, возможно, и больше, но мы знали только самых известных из них или тех, кто имел отношение к нашим местным делам. Мы знали их имена так же, как сегодня дети знают имена кинозвезд и бейсболистов. Здесь кроется загадка, которая поставила в тупик единственного детектива из полицейского участка Оссининга, ибо записи о вечерних поездах того дня каким-то образом исчезли из архива начальника Центрального вокзала, и из диспетчерской, и даже из справочной службы вокзала Чикаго. Происшествие, случившееся вечером 5 июня 1914 года, оставило пробел в истории железнодорожного движения.
Около двадцати минут восьмого и стрелочники, и я насторожились. Одинокий локомотив с единственным вагоном появился с юга, он, не значащийся в расписании, шел по товарному пути, и о его появлении оповестили только автоматические огоньки на пульте. Когда он незаконно следовал мимо, стрелочники изо всех сил пытались прочесть на локомотиве серийный номер и вознегодовали, потому что его вроде бы не существовало. Я, однако, имел возможность взглянуть в буксируемый им вагон с затемненными окнами и без огней. Казалось, он направлялся в депо для ремонта, но на следующий день его в депо не было. Он мог проследовать сколько угодно далеко на запад, ни разу не останавливаясь, пока не замер где-нибудь на запасном пути в Монтане или же в апельсиновой роще в Сан-Диего. Кто знает? Он сделал краткую остановку в полутораста ярдах к северу от нас, и в угасающем свете мы видели, как с обзорной платформы спрыгнули двое. Почему на локомотиве не было номера? Стрелочники были того мнения, что он был, но они упустили его из-за какого сочетания случайности и отсутствия света.
– Зато я видел буквы на вагоне, – гордо сказал я.
– Точно видел?
– Ну.
– И что это были за буквы?
Хотя я не был достаточно высок, чтобы, стоя за столом, видеть все поверх подоконника, я успел прочесть аббревиатуру кгс.
Лишь позже детектив из Оссининга изучил в поисках кага-эсов метрические книги, вынырнув оттуда с превеликим множеством подозреваемых. С Кеннетом Г. Сазерлендом, Клайдом Г. Свингом, Клиффордом Гарольдом Скофилдом и другими, каждый из которых мог отчитаться не только в своем местонахождении в этот вечер, но и в местонахождении своего личного вагона, буде таковой у него в самом деле имелся.
Первым какой-то свет на произошедшее в тот вечер преступление пролил не этот детектив, но репортер местной газеты. Детектив снял гипсовые отпечатки со следов (он был очень дотошен, но даже я знал, что родителей моих убил не олень), допросил железнодорожных рабочих о поездах, проходивших в тот вечер (десятью днями позже они ничего не вспомнили, как не вспомнило бы и большинство соседей), изучил характеристики пуль, способ ведения стрельбы и проч. Я рассказываю об этом в повседневных выражениях и так, словно бы я посторонний, но на самом деле испытываю глубочайшую тоску по родителям, которых вижу в своей памяти, как видел их в последний раз, безмолвными и неподвижными.
В отличие от детектива, репортер интересовался мотивом преступления. Были ли у моего отца долги? Ни мой дядя, ни я ничего об этом не знали. Не было ли это связано с прошлым? Возможно, с войной? Нам это было неведомо. У репортера, однако, была своя теория – теория, которую невозможно было ни доказать, ни опровергнуть. Он был очень похож на Теодора Рузвельта, только карьерой не вышел и был очень вежлив, потому что его часто отправляли интервьюировать тех, кто добился выдающихся успехов и давно привык к всеобщему преклонению.
В какой-то момент – не помню, когда именно, – он обнял меня, плачущего и безутешного, а через минуту или две усадил на подоконник и посмотрел на меня с поразительной настойчивостью.
– Перестань плакать хоть на минутку и послушай, – мягко сказал он. – Может случиться так, что мы никогда не найдем убийц твоих родителей. Если те двое, что сделали это, действительно выпрыгнули из поезда. Вопрос стоит так: кто их послал? Чтобы узнать кто, нам надо знать зачем. Здесь никто не может выдвинуть ни одного предположения. Но у меня есть теория. Один лишь Бог знает, правда ли это, и Он, если пожелает, может вечно хранить тайну. В прошлом году до меня дошел слух, что кто-то хочет построить мост через Гудзон где-то поблизости и что цена земли между дорогой и мостом повысится. Не всей земли… только там, где пройдет мост. Не помнишь ли ты, чтобы кто-нибудь спрашивал у твоего отца, не собирается ли он продать свою ферму?
Я ничего такого не помнил. Если это и имело место, то я об этом не знал. Может быть, если подобное предложение было, отец и мать обсуждали это наедине, не желая меня расстраивать. Дети не любят переезжать. А может, отец вообще никому ничего не сказал.
– Вам бы надо спросить об этом у моего дяди, – сказал я.
– Я уже спрашивал – и у него, и у всех остальных. Подумай хорошенько.
– Нет, – сказал я. – Он никогда не говорил, что кто-то хочет купить нашу землю.
– Тогда нам придется подождать. Посмотрим, клюнет ли кто на эту недвижимость.
Я не знал, что он имел в виду под недвижимостью, но он мне не объяснил.
Через год после того, как эта недвижимость перешла ради моей выгоды в доверительную собственность моего дяди, который выступал в роли опекуна и сдал наши поля в аренду нескольким фермерам-соседям, возник некий человек, сказавший, что представляет лицо, заинтересованное в приобретении этой собственности. Дядя огласил это за одним из печальных, почти безмолвных обедов, которые бывали у нас после того, как я поселился у него и его жены. Я не был обычным ребенком, и никто не ожидал, чтобы я таковым был. Большую часть времени я проводил в одиночестве, а долгое время почти ничего не говорил: слишком уж мне было не по себе. А когда все забыли, что со мной произошло, то стали обижаться на мое поведение и мое молчание, потом даже начали обижаться на меня. Но что я мог поделать? Передо мной была поставлена задача на всю жизнь, и рядом с нею мысль о том, чтобы кому-то нравиться, казалась совершенно несущественной.
За тем самым обедом я пил из хрустального стакана, а ели мы жареного цыпленка. Привыкший к альтернативному чередованию моих вспышек и периодов замкнутости и молчаливости, мой дядя, по-своему меня любивший, совершенно невинно объявил, что какой-то человек спрашивал его, не продается ли наша земля.
Я тотчас же со стуком поставил стакан, напряг все мышцы, стиснул кулаки и почувствовал, что волосы у меня встали дыбом.
– Кто?! – вскричал я, меж тем из глаз у меня полились слезы.
– Я не знаю, – сказал дядя, опешив.
– Кто?! – снова завопил я.
Впервые в жизни я опрокинул стол. Я любил дядю: я совсем не собирался опрокидывать стол.
На протяжении нескольких дней я едва не сошел с ума, пока мы не узнали, кто это был. У меня возникали планы упрятать под лестницей всех полицейских штата Нью-Йорк, когда этот джентльмен явится к нам с визитом. Я пытался устроить в подполе тюрьму, чтобы держать его там и мучить, пока он не раскроет имени своего нанимателя. Хоть я и понимал, что если убью его, то никогда не узнаю, кто его послал, но все же полировал свой одноствольный дробовик двадцатого калибра, пока он не засиял, как древнегреческий доспех. Я отполировал даже патроны и часами упражнялся в угрозах, стоя перед овальным зеркалом, глядя в которое моя мать когда-то поправляла на себе шляпку и складки своей накидки или пальто.
Когда мой дядя обнаружил две плоские доски, приколоченные изогнутыми дешевыми гвоздями к столбам подпола, он кликнул меня, чтобы я объяснил их назначение. Бельевая веревка, привязанная к изогнутым гвоздям, должна быть выступать в роли пут.
– Почему бы нам просто не подождать, что он скажет? – спросил дядя.
Тот, кого я собирался бросить в свою темницу, оказался миниатюрным седовласым старичком. Он решительно ничем не выделялся, если не считать того, что был подвижен как муравей. У него не было никакого акцента, и он не говорил ни на каком диалекте. Он не размахивал руками и ничем не выражал волнения или энтузиазма. Я был уверен, что за ним стоят убийцы моих родителей.
Запрос, по его словам, он делал от имени Доминиканских сестер. На каждой стадии я ожидал, что выявится фальшь этой легенды, – ибо полагал, что это не могло быть чем-то иным. Когда мать-настоятельница приехала обсудить с моим дядей условие, позволявшее нам сохранять фермерские права на землю до 1930 года, я навесил на нее ярлык марионетки. Когда наконец были подписаны бумаги, я счел их сплошным надувательством. Когда начали возводить аббатство, я ждал, что оно станет конторой по взиманию дорожных сборов. А когда туда въехали монахини, я решил, что это лишь трюк, что вскоре они уберутся и все будет продано магнату, хотевшему построить мост. Но Доминиканские сестры все пребывали там и пребывали, и даже когда я совершал свой ньюфаундлендский полет, то прошел над аббатством, окруженным полями, которые были по-прежнему прекрасны и каждый контур которых я знал наизусть, и там, в лощине с неровными краями, я увидел свой дом. Он был похож на сахарный куб, на модель, которой комплектовались швейцарские игрушечные железные дороги. Деревья за прошедшие годы разрослись, но черепица и кирпич оставались все теми же. Хоть я и не видел следов перемен, которые, случись мне туда когда-нибудь вернуться, разбили бы мне сердце, их нетрудно было вообразить.
Когда те двое выпрыгнули из вагона, еще не стемнело, но солнце висело низко над горизонтом, и его меркнущий свет просеивался через деревья, росшие на мысе Теллера. Из-за этого образовывался искаженный узор, который, в сочетании с гаснущим дневным светом и деревьями возле железнодорожной насыпи на заднем плане, обращал все происходящее в скользящие по земле тени.
Нам никогда не приходилось видеть, чтобы кто-нибудь покидал поезд на этом участке пути, кроме членов поездной команды, спрыгивавших и запрыгивавших обратно. Было что-то волнующее и таинственное в этих очертаниях, обрисованных, как едва различимые клубы дыма. Птицы, разумеется, смолкли, но все остальные звуки золотистого летнего вечера доносились до нас по-прежнему.
Я собрался и отправился домой. Подходя к нашему полю, я уже забыл о таинственном происшествии и начал думать об обеде.
Но стоило мне выбраться из зарослей деревьев, как я тут же остановился как вкопанный. У самого края поля, в двадцати ярдах слева от меня, стояли двое мужчин, смотревших на наш дом.
Я направился к ним и гордо сказал:
– Это частная собственность.
– Нам очень жаль, – сказал один из них. – Мы просто пытаемся выбраться на дорогу. Очень устали и проголодались.
– Ясно, – сказал я.
– Надеюсь, нам не придется возвращаться к путям. Можно, мы просто пройдем к дороге?
Одеты они были по-городскому – костюмы, жилетки, шляпы, цепочки для часов. Было бы слишком жестоко, подумал я, заставлять их идти в обход по болоту. И сказал, что они могут пройти к дороге, я не возражаю.
Они были того типа мужчин, состояние здоровья которых внушает ужас, но которые благодаря одним лишь своим размерам и весу раз в десять сильнее, чем кажутся с виду, и, возможно, из-за того, что были они такими огромными, их преувеличенная благодарность прозвучала, в некотором смысле, искренне.
– Очень любезно с твоей стороны, – сказал один из них. – Ты знаешь окрестности, так ведь? И ты проворен – ты же ребенок. Не сбегаешь ли в городок, чтоб раздобыть нам чего-нибудь съестного? Мы в пути со вчерашнего дня, без остановок прямо из Индианы, и так проголодались, просто слов нет.
– Не могу, – сказал я. – Мне надо идти обедать.
Мне показалось странным, что они приехали из Индианы, потому что у обоих был нью-йоркский выговор, одеты они были как трактирные крысы из Челси, а их поезд явился как раз со стороны города.
– Это займет всего несколько минут, а нас по-настоящему выручит.
Я помотал головой. Мне становилось не по себе, возник даже испуг. Хотелось просто броситься к дому.
– Да ты послушай, – сказал тот, кто вел все переговоры. – Нам надо лишь чуток подкрепиться, чтобы двигаться дальше. Есть здесь поблизости местечко, где можно взять чашку кофе?
– Ну, есть, – сказал я, хоть это было совсем не поблизости.
– А тогда вот, – сказал переговорщик, выуживая что-то из своего кармана. – Держи.
Он протягивал мне двадцатидолларовый золотой. Отец мой пытался копить такие, но это ему почти никогда не удавалось. Я понимал, чего он стоит, что его очень нелегко раздобыть и еще труднее удержать. Я его взял.
– А вот четвертак, – добавил он, вручая мне двадцать пять центов, – так что тебе не понадобиться разменивать золотой, когда будешь покупать кофе.
На протяжении многих лет люди твердят мне, что я ни в чем не виноват. Мне не было и десяти. Откуда я мог знать, что случится? Но я, когда бежал за кофе, чувствовал вину и что-то сродни раскаянию. Я надеялся, что обернусь достаточно быстро, чтобы отвести всякую опасность. Если я смогу ворваться туда, сразу вынырнуть и броситься обратно, то все будет в порядке.
Я так быстро бежал к кафе «Хайленд», что по прибытии слишком запыхался, чтобы говорить. Однако я не мог ждать, пока дыхание восстановится, так что брякнул серебро на прилавок, указал на кофеварку, задрал указательный и средний пальцы правой руки, а потом опустил их и зашагал ими по прилавку. Вскоре я получил два кофе навынос, отмахнувшись от обычных расспросов насчет сливок и сахара.
В те дни в большинстве ресторанов имелись вставные судки для торговли навынос. Изготовленные из жести, они устанавливались друг на друга и скреплялись ручкой, подобно тем приспособлениям, что можно видеть в китайских молочных лавках. Я нес два судка, один на другом, но ручки у меня не было, и они обжигали мне руки. Через каждые несколько шагов я вынужден был останавливаться, чтобы поставить их на землю и подуть себе на ладони. Через некоторое время, когда моя ноша перестала быть чересчур горячей, я прижал ее к груди и бросился бежать.
Я хотел вернуться к полю, чтобы снова увидеть тех двоих. Лишь тогда намеревался я замедлить шаг, когда увижу, что они по-прежнему там. Когда я бежал, кофе выплескивался из судков и ошпаривал мне ладони. Он стекал по рукам и мочил рукава. Им пропиталась моя рубашка, а на штанах вокруг ширинки образовалось овальное пятно.
Хотя оставалась только половина кофе, золотой в моем кармане был цел, и я думал, что если те двое окажутся недовольны качеством моего обслуживания, то я всегда смогу вернуть им деньги. Но, еще не достигнув края поля, я увидел через деревья, что их там нет.
Когда я застыл на месте, бережно прижимая к груди жестяные судки с кофе, то больше всего боялся, как бы мои родители не подумали, что я их предал. Мысли мои пребывали в беспорядке: я знал, что происходит, и в то же время не знал. Отец мой все повидал. Он оставался сдержанным, какая бы судьба его ни ждала. Как-то раз он сказал мне, что каждый день его жизни заставляет его все меньше бояться смерти и что под конец никакое потрясение, никакая неожиданность не окажутся непереносимыми. Но мать была совсем другой. Она всегда вникала в происходящее всем сердцем, и оно могло разбиться.
Я швырнул судки наземь и побежал. Приближаясь к дому, я увидел, что один из передних ставней медленно раскачивается под ветром. Отец подобного не потерпел бы. Он непременно закрыл бы его.
Меня подташнивало от страха. В то же самое время я был уверен, что меня будут бранить за то, что пришел на полтора часа позже да еще и запачкал всю одежду кофе. Я боялся, что отец накажет меня за то, что я взял деньги у незнакомцев, за то, что оставил хозяйство, и даже за то, что не принес им кофе, а бросил его наземь. Как ужасно неловко будет, думал я, если эти двое сидят в гостиной и ждут своего кофе, который давно впитался в землю.
Но я также и осознавал, что нечто совершенно неведомое и гораздо худшее могло позволить мне избежать этих мелких неприятностей. В силу этого даже самая ужасная вещь, какую я мог только вообразить, имела некие привлекательные стороны. Подбегая к дому, я пытался отогнать эту мысль, но что толку пытаться забыть о мыслях, которые уже пришли в голову?
Несмотря на предчувствия, я был уверен, что все будет хорошо, что детство мое не оборвется так внезапно, и, когда я открывал нашу парадную дверь, терзания мои уже начали убывать. Если не считать того, что одежда моя пропиталась кофе, выглядел я более или менее прилично. Если те двое здесь, я отдам им их деньги и извинюсь. Всякое, мол, бывает. Они подумают, что я честный парень, который старался изо всех сил, но столкнулся с досадной случайностью.
Но в гостиной их не было, и во всем доме стояла тишина. Я подал голос:
– Мама?
Ответа не последовало.
– Мама? – позвал я снова дрожащим голосом.
Весь мир изменился для меня, когда я увидел, что стол в гостиной опрокинут и все, что на нем было, – еда, тарелки, вилки, ножи, ложки, свечи, хлеб – оказалось на полу.
Я вошел в кухню, где мои отец и мать лежали в нескольких футах друг от друга, мертвые.
Я тихонько окликнул их, но они не пошевелились. Глаза их были открыты. Отец сжимал в руке кухонный нож, покрытый кровью. Он сражался. И все же на лице у него читалось удовлетворение. А у матери лицо выражало страшную муку.
В затылке у нее было маленькое пулевое отверстие. У отца в виске тоже было отверстие от мелкокалиберной пули, но к тому же он получил несколько выстрелов в разные части тела из револьвера сорок пятого калибра, и кровь на полу была его. Должно быть, там была и кровь его убийц, ибо лезвие ножа тоже было все в крови.
Сказал я лишь: «Боже мой». Я повторял это снова и снова, а потом замолчал. Из глаз у меня непрерывно лились слезы, но я не издавал ни звука. Я лег между ними, прямо в кровь отца. Положил руки на их тела и ощутил кончиками пальцев, что они, по крайней мере, рядом, что я могу их касаться. Потом закрыл глаза. Засыпая, я был уверен, что присоединюсь к ним, как оно, разумеется, однажды и случится.
Ледник Сан-Конрадо
(Если вы этого еще не сделали, верните, пожалуйста, предыдущие страницы в чемодан.)
Ребенком я часто слышал выражение «поразительная стойкость духа», и мне посчастливилось воспринять его как «б-б-брази-тельная стойкость духа». Это заблуждение исподволь внушило мне едва ли не благоговейное преклонение перед бразильцами, которых в противном случае я воспринимал бы просто как людей, безнадежно погрязших в грехе. Хотя все они сексуально озабоченные пьяницы и транжиры, благодаря случаю, имевшему место в раннем детстве, я не могу не видеть их с лучшей, чем они заслуживают, стороны.
Когда шел снег, а в печи потрескивал огонь, мать обращалась ко мне из полумрака, призывая меня никогда не недооценивать «б-б-бразигельной» стойкости духа. «Когда ты вырастешь, – говорила она, – то столкнешься со многими испытаниями, которых сейчас не можешь себе даже представить, и ты все их выдержишь, если тебе хватит веры в… б-б-бразительную стойкость духа».