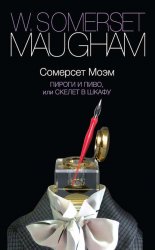Гарики предпоследние. Штрихи к портрету (сборник) Губерман Игорь
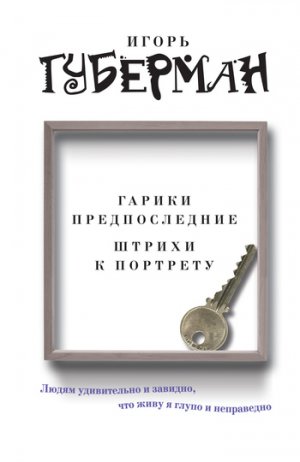
Гарики предпоследние
Друзьям, которые уже ушли
Залог душевного спокойствия —
цветы и фрукты удовольствия
- Я глупо жил и опрометчиво,
- был раб любого побуждения,
- зато порой с утра до вечера
- изнемогал от наслаждения.
*
- На нас огромное влияние
- (и на победы, и на бедствия)
- оказывает возлияние,
- включая все его последствия.
*
- В деньгах есть тоже благодать,
- зависит жизнь от них,
- и чем их тупо проедать —
- я пропиваю их.
*
- Свой век я прогулял на карнавале,
- где много было женщин и мужчин,
- потери мне веселья придавали,
- находки добавляли мне морщин.
*
- Багрово, лилово и красно,
- и даже порой фиолетово
- алеют носы не напрасно,
- а лишь от того и от этого.
*
- Ценя покой в душе и нервах,
- я пребываю в людях средних,
- и хоть последний между первых,
- зато я первый из последних.
*
- Попался я, как рыбка на крючок,
- мне страсть моя, как бабочке — сачок,
- а кролику — охотничий зрачок,
- но сладок наживленный червячок,
- и счастлив загулявший старичок.
*
- Ушел наплыв похмельной грусти,
- оставил душу змей зеленый:
- меня родители в капусте
- нашли, мне кажется, в соленой.
*
- Вот чудо века: после пьянки
- среди таких же дураков
- лететь в большой консервной банке
- над белой пеной облаков.
*
- Блаженство витает шальное,
- стихают надрыв и надлом,
- когда закипает хмельное
- вампиршество душ за столом.
*
- Глаза не прикрыл я рукой,
- а занял закуской на блюде,
- и жизнь принимаю такой,
- какой ее нет и не будет.
*
- Я пленник любых искушений,
- все планы успехов — просрочены,
- я шел по дороге свершений,
- но лег отдохнуть у обочины.
*
- От выпивки душа нежней и пористей,
- и видно сквозь ледок житейской стужи,
- что корни наших радостей и горестей
- ветвятся изнутри, а не снаружи.
*
- К искушениям холодно стоек,
- воздержанье не числя бедой,
- между ежевечерних попоек
- обхожусь я водой и едой.
*
- Бутылка без повода круче всего
- калечит и губит мужчину,
- дурак может пить
- ни с того ни с сего,
- а умный — находит причину.
*
- Загадочная русская душа
- вселяется в отзывчивое тело:
- душа как только выпить захотела,
- так тело тащит выпивку спеша.
*
- Внезапно понял я сегодня,
- каким высоким занят делом
- желудок наш — лихая сводня
- души с умом и мысли с телом.
*
- Мы не глупы, не злы, не спесивы,
- любим женщин, азарт и вино
- и всегда будем так же красивы,
- как мы были когда-то давно.
*
- Закончив шумную попойку,
- игру идей и мыслей пир,
- зови к себе подругу в койку
- и смело плюй на Божий мир.
*
- Отнюдь я, выпив, не пою,
- а учиняю праздник духа,
- плетя мелодию свою
- душой без голоса и слуха.
*
- Черной зависти жар —
- горячее огня,
- и душа моя стонет больная,
- если знаю, что где-то
- сейчас без меня
- затевается песня хмельная.
*
- Не было у выпивки причин,
- в песне пьяной не было резона,
- каждый ощутимо получил
- порцию душевного озона.
*
- Снова пьянка тянется шальная,
- в мире всюду — ясная погода,
- радость в каждом госте мне двойная —
- от его прихода и ухода.
*
- Смотрю, садясь попить-поесть,
- на пятки дней мелькающих,
- у пьянства тоже много есть
- последствий вытекающих.
*
- Не зря на склоне лет
- я пить люблю и есть:
- на свете счастья нет,
- но вместе с тем и есть.
*
- А если где-то ждет попойка
- и штоф морозится большой,
- то я лечу, как птица-тройка,
- хотя еврейская душой.
*
- Пускай расходятся в улет
- последние гроши:
- Бог дал нам душу — Он пошлет
- и на пропой души.
*
- Меж нас гуляет бес похмелья,
- вступая с душами в игру:
- он после пьяного веселья
- их тянет выпить поутру.
*
- С радостью по жизни я гуляю
- в мире, лютой злобой поврежденном,
- жажду выпить — водкой утоляю,
- жажду просто — пивом охлажденным.
*
- Ценю я в игре винопития —
- помимо иных услаждений —
- возможность подергать мыслителя
- за яйца его убеждений.
*
- Живу я славно и безбедно,
- поскольку мыслю государственно:
- народу в целом — пьянство вредно,
- а каждой личности — лекарственно.
*
- Курить, конечно, бросить надо бы,
- загвоздка — в бедах совокупных,
- а корни этой мелкой пагубы
- растут во мне из дурей крупных.
*
- В цепи причин и соответствий,
- несущих беды, хворь и срам,
- я не нашел дурных последствий
- от пития по вечерам.
*
- Люблю я проследить, как возлияние,
- просачиваясь в мироощущение,
- оказывает веское влияние
- на духа и ума раскрепощение.
*
- Забавный знаю феномен:
- от генерала до портного
- у нас химический обмен
- устроен так, что ждет спиртного.
*
- Пока еще в душе чадит огарок
- печалей, интереса, наслаждения,
- я жизнь воспринимаю как подарок,
- мне посланный от Бога в день рождения.
*
- Сокрыта в разных фазах опьянения
- таинственная сила врачевания,
- играющая ноты упоения,
- текущие до самобичевания.
*
- Когда бы век я начал заново,
- то к людям был бы я внимательней,
- а гул и чад гулянья пьяного —
- любил сильнее и сознательней.
*
- Я злоупотребляю возлиянием,
- здоровье подрывая наслаждением,
- под личным растлевающим влиянием
- и с жалостливым самоосуждением.
*
- Душа, мягчея от вина,
- вступает с миром в компромисс,
- и благ любой, сидящий на,
- идущий по и пьющий из.
*
- Мне грустно думать в час ночной,
- что подлежу я избавлению
- и чашу горечи земной
- закончу пить я, к сожалению.
*
- Экклезиаст еще заметил:
- соблазну как ни прекословь,
- но где подует шалый ветер,
- туда он дуть вернется вновь.
*
- Хоть пили мы, как пить не стоит, —
- за это вряд ли ждет нас кара,
- в нас только будущий историк
- учует запах перегара.
*
- Ко мне по ходу выпивания —
- о чем бы рядом ни кричали —
- приходит радость понимания,
- что дух наш соткан из печали.
*
- Верный путь, на самом деле,
- различим по двум местам:
- то во храме, то в борделе
- вьется он то здесь, то там.
*
- Виднее в нас после бутылки,
- как истрепались в жизни бывшей;
- мы не обломки, мы обмылки
- эпохи, нас употребившей.
*
- Наш путь извилист и неровен,
- а жребий — тёмен и превратен,
- и только жирный чад жаровен
- везде всегда надежно внятен.
*
- В года весны мы все грешили,
- но интересен ход явления:
- те, кто продолжил, — дольше жили,
- Бог ожидал их исправления.
*
- Каким ни вырос любомудром
- и даже просто будь мудрец,
- а все равно охота утром
- к похмельной рюмке огурец.
*
- Смотрю без тени раздражения
- на огнедышащий вулкан,
- и сразу после извержения
- готов налить ему стакан.
*
- После пьянства
- лихие творятся дела
- в ошалело бессонных ночах:
- мрак женился на тьме,
- згу она родила,
- мы сидим вчетвером при свечах.
*
- Живя весьма благообразно
- при нашем опыте и стаже,
- мы не бежим на зов соблазна,
- а просто надо нам туда же.
*
- Ленив, лукав и невынослив,
- я предан выпивке и блуду,
- перенося дела на после
- того, как я о них забуду.
*
- Хвала Творцу, что время длится,
- что мы благих не ждем вестей,
- и хорошеют наши лица
- от зова низменных страстей.
*
- В виду кладбищенского склепа,
- где замер времени поток,
- вдруг понимаешь, как нелепо
- не выпить лишнего глоток.
*
- В основном из житейского опыта
- мной усвоено важное то,
- что пока еще столько не допито,
- глупо брать в гардеробе пальто.
*
- Я думал всегда, что соблазны,
- которые всем нам являются,
- хоть как-то годам сообразны,
- но бесы, увы, не меняются.
*
- От вида ландшафта, пейзажа
- (и речки чтоб вилась тесьма)
- хочу сразу выпить, и даже
- не просто хочу, а весьма.
*
- Угас дурак, тачая жалобы
- на мир жестокий и тупой,
- а для здоровья не мешало бы
- менять занудство на запой.
*
- У Бога я ни льготы, ни поблажки
- ни разу не просил, терпя убытки,
- за это у меня всегда во фляжке
- божественные булькают напитки.
*
- Моя душа передо мной
- была душою ясновидца —
- я мигом чувствую спиной,
- что сзади выпивка струится.
*
- Ко мне явилось откровение
- о смысле жизни и нирване,
- но было выпить настроение,
- и я забыл его по пьяни.
*
- Еще я на радость имею талоны,
- но пристально если взглянуть —
- питейной бутыли покатые склоны
- рисуют мой жизненный путь.
*
- Спешу с утра опохмелиться я,
- чтоб горем не была беда,
- если начнется репетиция
- премьеры Страшного суда.
*
- А в чем действительно я грешен,
- и это мне припомнит Бог, —
- я в этой жизни баб утешил
- намного менее, чем мог.
*
- Пока не позвала в себя кровать,
- которая навеки нас уложит,
- на кладбище должны мы выпивать
- за тех, кто выпивать уже не может.
*
- Не с горечью влачу я жизнь мою,
- а круто благоденствую, доколе
- все видимое ясно сознаю
- и черпаю блаженство в алкоголе.
*
- Первую без чоканья нередко
- пьем теперь, собравшись за столом:
- некто близкий выдернут, как репка,
- и исчез у жизни за углом.
*
- Плывя со всеми к райским кущам,
- я только с теми теплю связь,
- кто видит вечное в текущем
- и плавно пьет, не торопясь.
*
- Растает в шуме похорон
- последних слов пустая лесть,
- и тихо мне шепнет Харон:
- — А фляжка где? Стаканы есть.
Есть мысли — ходят по векам,
как потаскушки — по рукам
- Забавы Божьего глумления —
- не боль и тяжесть испытаний,
- а жуткий вид осуществления
- иллюзий наших и мечтаний.
*
- Крайне просто природа сама
- разбирается в нашей типичности:
- чем у личности больше ума,
- тем печальней судьба этой личности.
*
- Прекрасен мир, судьба права,
- полна блаженства жизнь земная,
- и все на свете трын-трава,
- когда проходит боль зубная.
*
- Наш ум и дух имеют свойство
- цвести, как майская природа,
- пока жирок самодовольства
- их не лишает кислорода.
*
- Стихий — четыре: воду, воздух,
- огонь и землю чтили греки,
- но оказалась самой грозной
- стихия крови в человеке.
*
- Пускай оспорят как угодно
- и пригвоздят ученой фразой,
- но я уверен: зло — бесплодно,
- а размножается — заразой.
*
- Мне совсем в истории не странны
- орды разрушителей лихих:
- варвары захватывают страны,
- скапливаясь тихо внутри них.
*
- Я не люблю любую власть,
- мы с каждой не в ладу,
- но я, покуда есть что класть,
- на каждую кладу.
*
- Навряд ли может быть улучшен
- сей мир за даже долгий срок,
- а я в борьбе плохого с худшим
- уже, по счастью, не игрок.
*
- Бездарность — отнюдь не болото,
- в ней тайная есть устремленность,
- она выбирает кого-то
- и мстит за свою обделенность.
*
- Светится душевное величие
- в миг, когда гримасой и смешком
- личность проявляет безразличие
- к выгоде с заведомым душком.
*
- Когда б не запахи и краски,
- когда б не звук виолончели,
- когда б не бабушкины сказки —
- давно бы мы осволочели.
*
- В зыбком облаке марева мутного
- суетливо катящихся дней
- то, что вечно, слабее минутного
- и его различить тяжелей.
*
- Так жаждем веры мы, что благо —
- любая искра в поле мглистом,
- и тяжела душе отвага
- оставить разум атеистом.
*
- Готовность жить умом чужим
- и поступать по чьей-то воле —
- одна из дьявольских пружин
- в устройствах гибели и боли.
*
- Мы так то ранимы, то ломки,
- что горестно думаю я:
- душа не чужая — потемки,
- потемки — родная своя.
*
- До мудрых мыслей домолчаться,
- чтоб восхитилась мной эпоха,
- всегда мешают домочадцы
- или зашедший выпивоха.
*
- В воздухе клубится,
- словно в чаше,
- дух былых эпох, и поневоле
- впитывают с детства души наши
- это излучающее поле.
*
- Все трое — Бог, эпоха, случай —
- играют в карты — не иначе,
- и то висят над нами тучей,
- то сыпят блестками удачи.
*
- У нас полно разумных доводов,
- из фактов яркий винегрет,
- и много чисто личных поводов,
- чтобы в любой поверить бред.
*
- Опиум вдыхает наркоман,
- водкой душу пьяница полощет,
- я приемлю с радостью обман,
- если от него светлей и проще.
*
- В нашем человеческом семействе,
- в нашей беспорядочной игре
- гений проявляется в злодействе
- ярче и полнее, чем в добре.
*
- Тяжко жить нам как раз потому,
- что возводим глаза к небесам,
- а помочь может Бог лишь тому,
- кто способен помочь себе сам.
*
- Когда повсюду страх витает
- и нрав у времени жесток,
- со слабых душ легко слетает
- культуры фиговый листок.
*
- Вряд ли в нашем разуме на дне —
- мыслей прихотливые изыски,
- там, боюсь я, плавают в вине
- книжные окурки и огрызки.
*
- Рассекая житейское море,
- тратить силы не стоит напрасно;
- если вовсе не думать, то вскоре
- все на свете становится ясно.
*
- Быть может, потому душевно чист
- и линию судьбы своей нашел,
- что я высокой пробы эгоист —
- мне плохо, где вокруг нехорошо.
*
- Не зря про это спорят бесконечно:
- послушная небесному напутствию,
- душа — это витающее нечто,
- заметное нам только по отсутствию.
*
- Любое сокрушительное иго
- кончается, позора не минуя,
- подпоркой, где возносится квадрига,
- ничейную победу знаменуя.
*
- Не только из дерева, камня, гвоздей
- тюремные сложены своды —
- сперва их возводят из чистых идей
- о сути и смысле свободы.
*
- Те, кто обивает нам пороги,
- те, кто зря стучится в наши двери, —
- выяснится позже, что пророки,
- первые по вере в новой эре.
*
- Всегда в июле неспроста
- меня мыслишка эта точит:
- вот летний день длиннее стал,
- вот жизнь моя на год короче.
*
- Забавная подробность мне видна,
- которую отметил бы я плюсом:
- в делах земных и Бог, и Сатана
- отменным обладают оба вкусом.
*
- Куда чуть зорче ни взгляни —
- везде следы вселенской порчи;
- чем мысли глубже, тем они
- темнее, тягостней и горче.
*
- Много еще черного на свете
- выползет чумой из-под обломков:
- прах и пепел нашего столетия
- радиоактивен для потомков.
*
- Я разумом не слишком одарен,
- однако же теперь, на склоне дней,
- я опытом житейским умудрен.
- Отнюдь не став от этого умней.
*
- Умом нисколько не убогие,
- но молят Бога люди многие,
- трепя губами Божье имя,
- как сосунки — коровье вымя.
*
- Прости мне, Боже, мой цинизм,
- но я закон постиг природный:
- каков народный организм,
- таков, увы, и дух народный.
*
- В морали, это знает каждый,
- нужна лишь первая оплошка;
- нельзя терять невинность дважды
- или беременеть немножко.
*
- В любом из нас
- витает Божий дух
- и бродит личный бес
- на мягких лапах,
- поэтому у сказанного вслух
- бывает соответствующий запах.
*
- Часто сам себе необъясним,
- носит человек в себе, бедняга,
- подло поступающее с ним
- некое глухое альтер-Яго.
*
- Подлинного счастья
- в мире мало,
- с этим у Творца ограничения,
- а кого судьба нещадно мяла —
- счастливы уже от облегчения.
*
- Мир иллюзий нам отечество —
- всё, что кажется и мнится;
- трезвый взгляд на человечество —
- это почва, чтобы спиться.
*
- А кроме житейских утех, —
- негромко напомнит мне Бог, —
- еще ты в ответе за тех,
- кому хоть однажды помог.
*
- В одном лишь
- уравнять Господь решил
- и гения, и темного ублюдка:
- в любом из нас гуляние души
- зависит от исправности желудка.
*
- Увы, но играм интеллекта
- извечно всюду не везло:
- всегда являлся некий некто,
- чтоб их использовать во зло.
*
- Пока живем и живы — мы играем;
- до смертной неминуемой поры
- то адом озаренные, то раем,
- мы мечемся в чистилище игры.
*
- Только с возрастом
- грустно и остро
- часто чувствует честный простак,
- что не просто все в мире непросто,
- но и сцеплено как-то не так.
*
- Реки крови
- мы пролили на планете,
- восторгаясь, озаряясь и балдея;
- ничего не знаю гибельней на свете,
- чем высокая и светлая идея.
*
- В наших каменных
- тесных скворечниках,
- где беседуют бляди о сводниках,
- Божий дух объявляется в грешниках
- несравненно сильней,
- чем в угодниках.
*
- Я не трачусь ревностно и потно,
- я живу неспешно и беспечно,
- помня, что еще вольюсь бесплотно
- в нечто, существующее вечно.
*
- В коктейле гнева, страха, злобы, —
- а пьется он при всяком бедствии —
- живут незримые микробы,
- весьма отравные впоследствии.
*
- От первой до последней
- нашей ноты
- мы живы без иллюзий и прикрас
- лишь годы,
- когда любим мы кого-то,
- и время,
- когда кто-то любит нас.
*
- У зла такая есть ползучесть
- и столько в мыслях разных но,
- что, ненароком и соскучась,
- легко добро творит оно.
*
- Есть мера у накала и размаха
- способностей — невнятная, но мера,
- и если есть у духа область паха,
- то грустен дух от холодности хера.
*
- С чего, подумай сам и рассуди,
- душа твоя печалью запорошена?
- Ведь самое плохое — позади.
- Но там же все и самое хорошее.
*
- Дыхание растлительного яда
- имеет часто дьявольский размах:
- бывают мертвецы, которых надо
- убить еще в отравленных умах.
*
- Формулы, при нас еще готовые,
- мир уже не примет на ура,
- только народятся скоро новые
- демоны всеобщего добра.
*
- Возможность новых приключений
- таят обычно те места,
- где ветви смыслов и значений
- растут из общего куста.
*
- Педантичная рассудочность
- даже там, где дело просто,
- так похожа на ублюдочность,
- что они, наверно, сестры.
*
- Много блага
- в целебной способности
- забывать, от чего мы устали,
- жалко душу,
- в которой подробности
- до малейшей сохранны детали.
*
- В истории нельзя не удивиться,
- как дивны все начала и истоки,
- идеи хороши, пока девицы,
- потом они бездушны и жестоки.
*
- Падшие ангелы, овцы заблудшие,
- все, кому с детства
- ни в чем не везло, —
- это заведомо самые худшие
- из разносящих повсюдное зло.
*
- Зря в кишении мы бесконечном
- дребезжим, как пустая канистра;
- вечно занятый — занят не вечным,
- ибо вечное — праздная искра.
*
- Я научность не нарушу,
- повторив несчетный раз:
- если можно плюнуть в душу —
- значит, есть она у нас.
*
- Нечто я изложу бессердечное,
- но среди лихолетия шумного
- даже доброе сеять и вечное
- надо только в пределах разумного.
*
- Всегда витает тень останков
- от мифа, бреда, заблуждения,
- а меж руин воздушных замков
- еще гуляют привидения.
*
- Все восторги юнцов удалых —
- от беспечного гогота-топота,
- а угрюмый покой пожилых —
- от избытка житейского опыта.
*
- В этом мире, где смыслы неясны,
- где затеяли — нас не спросили,
- все усилия наши — напрасны,
- очевидна лишь нужность усилий.
*
- Известно веку испокон
- и всем до одного:
- на то закон и есть закон,
- чтоб нарушать его.
*
- Так как чудом
- Господь не гнушается,
- наплевав на свои же формальности,
- нечто в мире всегда совершается
- вопреки очевидной реальности.
*
- Искусство — наподобие куста,
- раздвоена душа его живая:
- божественное — пышная листва,
- бесовское — система корневая.
*
- Вот нечто, непостижное уму,
- а чувством — ощутимое заранее:
- кромешная ненужность никому —
- причина и пружина умирания.
*
- Свято предан разум бедный
- сказке письменной и устной:
- байки, мифы и легенды
- нам нужнее правды гнусной.
*
- Страдания и муки повсеместные
- однажды привлекают чей-то взгляд,
- когда они уже явились текстами,
- а не пока живые и болят.
*
- От вина и звучных лир
- дико множатся народы;
- красота спасла бы мир,
- но его взорвут уроды.
*
- Забавное пришло к нам испытание,
- душе неся досаду и смущение:
- чем гуще и сочней
- у нас питание,
- тем жиже и скудней
- у нас общение.
*
- Несчастны чуть ли не с рождения,
- мы горько жалуемся звездам,
- а вся печаль — от заблуждения,
- что человек для счастья создан.
*
- Когда мы раздражаемся и злы,
- обижены, по сути, мы на то,
- что внутренние личные узлы
- снаружи не развяжет нам никто.
*
- Пока, пока, мое почтение,
- приветы близким и чужим…
- Жизнь — это медленное чтение,
- а мы — бежим.
*
- А пока мы кружим в хороводе
- и пока мы пляшем беззаветно,
- тление при жизни к нам приходит,
- просто не у всех оно заметно.
*
- Словами невозможно изложить,
- выкладывая доводы, как спички,
- насколько в этой жизни тяжко жить
- и сколько в нас божественной привычки.
*
- Я бы мог, на зависть многих,
- сесть, не глянув, на ежа —
- опекает Бог убогих,
- у кого душа свежа.
*
- Мне лезет в голову охальство
- под настроение дурное,
- что если есть и там начальство —
- оно не лучше, чем земное.
*
- Никто не в силах вразумительно
- истолковать устройство наше,
- и потому звучит сомнительно
- мечта о зернах в общей каше.
*
- Мир хочет и может устроиться,
- являя комфорт и приятство,
- но правит им темная троица —
- барыш, благочестие, блядство.
*
- Давным-давно уже замечено
- людской молвой непритязательной,
- что жить на свете опрометчиво —
- залог удачи обязательной.
*
- Мы и в познании самом
- всегда готовы к темной вере:
- чего постичь нельзя умом,
- тому доступны в душу двери.
*
- А жалко, что на пире победителей,
- презревших ради риска отчий кров,
- обычно не бывает их родителей —
- они не доживают до пиров.
*
- Споры о добре,
- признаться честно, —
- и неразрешимы, и никчемны,
- если до сих пор нам не известно,
- кто мы в этой жизни и зачем мы.
*
- Пути судьбы весьма окружны,
- и ты плутать ей не мешай;
- не искушай судьбу без нужды
- и по нужде не искушай.
*
- Я вижу, глядя исподлобья,
- что цепи всюду неослабны;
- свободы нет, ее подобья
- везде по-своему похабны.
*
- Боюсь, что Божье наказание
- придет внезапно, как цунами,
- похмелье похоти познания
- уже сейчас висит над нами.
*
- Молчат и дремлют небеса,
- внизу века идут;
- никто не верит в чудеса,
- но все их тихо ждут.
*
- Предел земного нахождения
- всегда означен у Творца:
- минута нашего рождения —
- начало нашего конца.
*
- Хотя я мыслю крайне слабо,
- забава эта мне естественна;
- смешно, что Бог ревнив, как баба,
- а баба в ревности — божественна.
*
- Числим напрасно
- мы важным и главным —
- вызнать у Бога секрет и ответ:
- если становится тайное явным,
- то изменяется, выйдя на свет.
*
- Похожи на растения идеи,
- похожи на животных их черты,
- и то они цветут, как орхидеи,
- то пахнут, как помойные коты.
*
- Бежать от века невозможно
- и бесполезно рваться вон,
- и внутривенно, и подкожно
- судьбу пронизывает он.
*
- Стихийные волны истории
- несут разрушенья несметные,
- и тонут в ее акватории
- несчетные частные смертные.
*
- Здоровым душам нужен храм —
- там Божий мир уютом пахнет,
- а дух, раскрытый всем ветрам, —
- чихает, кашляет и чахнет.
*
- Природа почему-то захотела
- в незрячем равнодушии жестоком,
- чтоб наше увядающее тело
- томилось жизнедеятельным соком.
*
- Развилка у выбора всякого
- двоится всегда одинаково:
- там — тягостно будет и горестно,
- там — пакостно будет и совестно.
*
- С переменой настроения,
- словно в некой детской сказке,
- жизни ровное струение
- изменяется в окраске.
*
- Наши головы — как океаны,
- до сих пор не открытые нами:
- там течения, ветры, туманы,
- волны, бури и даже цунами.
*
- Устроена забавно эта связь:
- разнузданно, кичливо и успешно
- мы — время убиваем, торопясь,
- оно нас убивает — непоспешно.
*
- Уставших задыхаться в суете,
- отзывчиво готовых к зову тьмы,
- нас держат в этой жизни только те,
- кому опора в жизни — только мы.
*
- Хоть пылью все былое запорошено,
- душа порою требует отчета,
- и помнить надо что-нибудь хорошее,
- и лучше, если подлинное что-то.
*
- Тихой жизни копошение —
- кратко в юдоли земной,
- ибо жертвоприношение
- Бог теперь берет войной.
*
- Не разум быть повыше мог,
- но гуще — дух добра,
- когда б мужчину создал Бог
- из женского ребра.
*
- Хоть на ответ ушли года,
- не зря душа ответа жаждала:
- Бог есть не всюду, не всегда
- и существует не для каждого.
*
- Все твари зла — их жутко много —
- нужны по замыслу небес,
- ведь очень часто к вере в Бога
- нас обращает мелкий бес.
*
- Я вдруг понял —
- и замер от ужаса,
- словно гнулись и ехали стены:
- зря философы преют и тужатся —
- в Божьих прихотях нету системы.
*
- Покуда все течет и длится,
- свет Божий льется неспроста
- и на высокие страницы,
- и на отхожие места.
*
- Как бы ни было зрение остро,
- мы всего лишь наивные зрители,
- а реальность и видимость — сестры,
- но у них очень разны родители.
*
- Когда устали мы резвиться
- и чужды всякому влечению,
- ложится тенями на лица
- печать покорности течению.
*
- По жизни понял я, что смог,
- о духе, разуме и плоти,
- а что мне было невдомек —
- душа узнает по прилете.
*
- На торжествах любой идеи,
- шумливо празднуя успех,
- различной масти прохиндеи
- вздымают знамя выше всех.
*
- Дабы не было слово пустым
- в помогании душам пропащим,
- чтобы стать полноценным святым,
- надо грешником быть настоящим.
*
- Когда б достало мне отваги
- сказать мораль на все века,
- сказал бы я: продажа шпаги
- немедля тупит сталь клинка.
*
- Веря в расцвет человеческой участи,
- мы себе искренне врали,
- узкие просеки в нашей дремучести —
- это круги и спирали.
*
- Давно томят меня туманные
- соображения о том,
- что все иллюзии гуманные —
- смешными кажутся потом.
*
- Звуков симфония, зарево красок,
- тысячи жестов ласкательных —
- у одиночества множество масок,
- часто весьма привлекательных.
*
- От жизни утробной до жизни загробной
- обидно плестись по судьбе
- низкопробной.
*
- Природы пышное убранство
- свидетельствует непреложно,
- что наше мелкое засранство
- ей безразлично и ничтожно.
*
- Страх бывает овечий и волчий:
- овцы блеют и жмутся гуртом,
- волчий страх переносится молча
- и становится злобой потом.
*
- Прекрасна образованная зрелость,
- однако же по прихоти небес
- невежество, фантазия и смелость
- родили много более чудес.
*
- Сценарист, режиссер и диспетчер,
- Бог жестокого полон азарта,
- и, лишь выдохшись, жизни под вечер,
- мы свободны, как битая карта.
*
- При Творце с его замашками,
- как бы милостив Он ни был,
- мир однажды вверх тормашками
- все равно взлетит на небо.
*
- Одни летят Венеру посмотреть,
- другие завтра с истиной сольются…
- На игры наши
- молча смотрит смерть
- и прочие летающие блюдца.
*
- Чувствую угрюмое томление,
- глядя, как устроен белый свет,
- ведь и мы — природное явление:
- чуть помельтешили — и привет.
*
- Мне любезен и близок порядок,
- чередующий пламя и лед:
- у души за подъемом — упадок,
- за последним упадком — полет.
*
- Киснет вялое жизни течение —
- смесь докуки, привычки и долга,
- но и смерть — не ахти приключение,
- ибо это всерьез и надолго.
Птицу видно по полету,
а скотину — по помету
- В череде огорчений и радостей
- дни земные ничуть не постылы,
- только вид человеческих слабостей
- отнимает последние силы.
*
- В духе есть соединенности,
- неразрывные в их парности, —
- как веселость одаренности
- и уныние бездарности.
*
- Крупного не жажду ничего,
- я земное мелкое творение,
- из явлений духа моего
- мне всего милей пищеварение.
*
- Так он мыслить умел глубоко,
- что от мудрой его правоты
- кисло в женской груди молоко
- и бумажные вяли цветы.
*
- Умом хотя совсем не Соломоны,
- однако же нисколько не калеки,
- балбесы, обормоты, охламоны —
- отменные бывают человеки.
*
- Шалопай, вертопрах и повеса,
- когда в игры уже отыграли,
- для утехи душевного беса
- учат юных уму и морали.
*
- Битвы и баталии мои
- спутаны концами и началами,
- самые жестокие бои
- были у меня с однополчанами.
*
- Клопы, тараканы и блохи —
- да будет их роль не забыта —
- свидетели нашей эпохи,
- участники нашего быта.
*
- Травя домашних насекомых,
- совсем не вредных и не злых,
- мы травим, в сущности, знакомых,
- соседей, близких и родных.
*
- Такой останется до смерти
- натура дикая моя,
- на симфоническом концерте —
- и то, бывало, пукал я.
*
- Рука фортуны загребает
- из неизведанных глубин,
- и в оголтелом разъебае
- вдруг объявляется раввин.
*
- Увы, но все учителя,
- чуть оказавшись возле кассы,
- выкидывают фортеля
- и сотворяют выкрутасы.
*
- Жар любви сменить морозами
- норовит любой народ:
- обосрет, засыпет розами,
- а потом — наоборот.
*
- Усердия смешная добродетель
- поскольку мне природой не дана,
- то я весьма поверхностный свидетель
- эпохи процветания гавна.
*
- Рассказы об экземе и лишае,
- о язве и капризах стоматита
- текут, почти нисколько не лишая
- нас радости живого аппетита.
*
- Про загадку факта важного
- каждый знает, но молчит:
- время жизни в ухе каждого
- с разной скоростью журчит.
*
- Зима! Крестьянин, торжествуя,
- наладил санок легкий бег,
- ему кричат: какого хуя,
- еще нигде не выпал снег!
*
- Есть люди редкого разлива,
- у них и мужество — отдельное:
- являть, не пряча боязливо,
- живое чувство неподдельное.
*
- Даже наш суровый век
- полноту ничуть не судит:
- если славный человек,
- пусть его побольше будет.
*
- Взор у него остер и хищен,
- а рот — немедля станет пастью;
- мы оба в жизни что-то ищем,
- но очень разное, по счастью.
*
- Я ощутил сегодня снова —
- так были споры горячи, —
- что в нас помимо кровяного
- есть и давление мочи.
*
- Есть люди с тяжкими кручинами,
- они не видны в общей массе,
- но чувствуют себя мужчинами
- не возле бабы, а при кассе.
*
- Тернистый путь к деньгам и власти
- всегда лежит через тоннель,
- откуда лица блядской масти
- легко выходят на панель.
*
- Желанье темное и страстное
- в любом хоть раз, но шевелилось:
- уйти пешком в такое странствие,
- чтоб чувство жизни оживилось.
*
- От неких лиц не жду хорошего —
- они, как язвой, тайно мучимы,
- что были круто недоношены,
- а после — крепко недоучены.
*
- Блажен любой, кто образован;
- я восхищался многократно,
- как дух у них организован
- и фарширован аккуратно.
*
- Хочу богатством насладиться
- не для покоя и приятства,
- а чтобы лично убедиться,
- что нету счастья от богатства.
*
- Я за умеренную плату —
- за двести грамм и колбасу —
- иду к себе в ума палату
- и, пыль обдув, совет несу.
*
- Заранее я знаю о соседе,
- в вагоне оказавшемся бок о бок:
- дежурное меню в такой беседе —
- истории наебов и поебок.
*
- Новых мифов нынче много,
- личной жажде сообразно
- кто-то всуе ищет Бога,
- кто-то — общего оргазма.
*
- Гуманность волнительным кружевом
- окутала быт наших лет:
- наружу выходят с оружием
- и плачутся в бронежилет.
*
- Мы очень прагматично и практично,
- весьма рационально мы живем,
- и все наши дела идут отлично,
- а песни мы — унылые поем.
*
- Забавно мне, что поле брани
- всех политических страстей
- влечет к себе потоки срани
- различных видов и мастей.
*
- Любую кто собрал коллекцию,
- ее холопы и фанаты —
- глухую чувствуют эрекцию,
- чужие видя экспонаты.
*
- Суке, недоноску и бездарности
- выдано Творцом для утешения
- дьявольское чувство солидарности
- и хмельная пена мельтешения.
*
- Имеют острые глаза
- и мудрецы, и прохиндеи:
- они пластичны, как лоза,
- когда им виден ствол идеи.
*
- Есть люди — их усилия немалы, —
- хотящие в награду за усердствие
- протиснуться в истории анналы,
- хотя бы сквозь анальное отверстие.
*
- Кто к жалостным склонен рыданиям
- и ранен мельчайшим лишением —
- завидует ярким страданиям
- и даже высоким крушениям.
*
- Кругам идейного актива
- легко понять посредством нюха,
- что слитный запах коллектива —
- отнюдь не есть единство духа.
*
- Известно даже медицине
- и просто видно трезвым глазом,
- что кто романтик, а не циник,
- тому запудрить легче разум.
*
- Стихает и вянет
- мыслительный бум,
- на днях колосившийся тучно;
- решили, как видно,
- властители дум
- насиживать яйца беззвучно.
*
- В улыбке, жесте, мелкой нотке —
- едина личная черта,
- есть люди —
- видно по походке,
- что плохо пахнет изо рта.
*
- Везде, где дорожки ковровые,
- есть тихие люди живучие —
- то ветки сплетают лавровые,
- то петлю завяжут при случае.
*
- Я тех люблю, что опоздали —
- хотя бы раз, но навсегда —
- к раздаче, к должности, к медали,
- к дележке с запахом стыда.
*
- Благословенны лох и лапоть,
- себя хотящие сберечь
- и вдоль по жизни тихо капать,
- а не кипеть и бурно течь.
*
- Есть люди —
- тоньше нюх, чем у собаки,
- они вдыхают запахи и ждут;
- едва лишь возникают сучьи знаки,
- они уже немедля тут как тут.
*
- Не злобы ради, не с похмелья
- дурак — орудие судьбы —
- стрижет кудрявые деревья
- под телеграфные столбы.
*
- Гляну что направо, что налево —
- все на свете ясно всем вокруг,
- так умудрена бывает дева,
- истину познав из первых брюк.
*
- Мне порою встречаются лица —
- поневоле вздохнешь со смущением,
- что мечта наша в детях продлиться
- так убога своим воплощением.
*
- Все же я ценю ханжу
- за безудержный размах:
- всем Венерам паранджу
- он готов надеть на пах.
*
- Спокойно плюнь и разотри —
- забудь о встрече с этой мразью…
- Но что-то хрустнуло внутри,
- и день заляпан липкой грязью.
*
- Повсюдные растут провинциалы,
- накачивая сталь мускулатуры,
- чтоб вырезать свои инициалы
- на дереве науки и культуры.
*
- Глядя пристально, трезво и здраво,
- можно много чего насмотреться;
- омерзение — тоже забава,
- только зябко в душе и на сердце.
*
- В себе таит зачатки вредности
- и может вспыхнуть, как чума,
- слиянный сок душевной бедности
- и ярой пылкости ума.
*
- По службе жаждал повышения,
- смотрел в экран от делать нечего,
- а ночью штопал отношения,
- в семье сложившиеся вечером.
*
- Все вообразимое — и более —
- в меру современной технологии
- вытворит над нами своеволие
- и к нему примкнувшие убогие.
*
- Люблю я в личности следы
- учительского дарования,
- но просвещения плоды
- гниют еще до созревания.
*
- Своя у каждого таинственность,
- и мы вокруг напрасно кружим:
- Творец дает лицу единственность,
- непостижимую снаружи.
*
- Поскольку был мой дом распахнут
- любым и всяким людям риска —
- я знаю, как живут и пахнут
- герои, видимые близко.
*
- Тому на свете всё видней,
- в ком есть апломб и убеждения;
- чем личность мельче, тем крупней
- ее глобальные суждения.
*
- А наблюдая лица потные
- и то, как люди мельтешат,
- забавно думать, что животные
- нисколько в люди не спешат.
*
- Томясь в житейском общем тесте,
- вдруг замечаешь тайным взглядом,
- что мы живем отнюдь не вместе,
- а только около и рядом.
*
- Хотя покуда все в порядке,
- такая к худу в нас готовность,
- что вдруг душа уходит в пятки
- и в пах уносится духовность.
*
- Я соблюдаю такт и честь
- по месту, в коем нахожусь, —
- то я кажусь умней, чем есть,
- то я умней, чем я кажусь.
*
- Рожденные кидаться на врага —
- томятся, вырастая, и скучают,
- потом их держат быта берега,
- где чахнут эти люди и мельчают.
*
- Вижу я за годом год
- заново и снова,
- что поживший идиот —
- мягче молодого.
*
- О, я отнюдь не слеп и глуп:
- везде, где чинно и серьезно,
- внутри меня большой тулуп
- надет на душу, чтоб не мерзла.
*
- Забавные печали нас измучили,
- былые сокрушая упования:
- не знали мы,
- что при благополучии
- угрюмее тоска существования.
*
- Потоки знания волной
- бурлят уже вдоль носоглотки,
- поскольку разум бедный мой —
- не безразмерные колготки.
*
- При спорах тихо я журчу,
- чтоб не являлась пена злая;
- когда не знаю, то молчу,
- или помалкиваю, зная.
*
- Хотя уже ушли те времена
- и чисто на житейском небосводе,
- подонков и мерзавцев имена
- в душе моей болят к сырой погоде.
*
- Терпя с утра зеркал соседство,
- я бормочу себе под нос,
- что время — сказочное средство
- для выпадения волос.
*
- Нет, я умнее стал навряд ли,
- но безразличнее — стократ,
- и руку жму я всякой падле,
- и говорю, что видеть рад.
*
- Увы, над этим неуклонно
- трудились лучшие умы:
- дерьмо сегодня благовонно
- намного более, чем мы.
*
- К работе азарт у меня —
- от опыта жизни простого:
- гулять после полного дня
- приятней, чем после пустого.
*
- Порой дойдешь до обалдения
- от жизни кряканья утиного,
- и в сон тогда плывут видения,
- и все про бегство до единого.
*
- Сейчас такая знаний бездна
- доступна всякому уму,
- что стало спорить бесполезно
- и глупо думать самому.
*
- Мы сколько ни едим совместной соли,
- а в общую не мелемся муку,
- у всех национальные мозоли
- чувствительны к чужому башмаку.
*
- Изрядным будет потрясение,
- когда однажды — смех и плач —
- везде наступит воскресение,
- и с жертвой встретится палач.
*
- На всем пути моем тернистом —
- давно мы с Богом собеседники;
- Он весь играет светом чистым,
- но как темны Его посредники!
*
- Во мне, безусловном уже старожиле,
- колышется страх среди белого дня:
- а что, если те, кто меня сторожили,
- теперь у котла ожидают меня?
*
- Я в поезде — чтоб ноги подышали,
- ботинки снял
- и с ними спал в соседстве,
- а память в лабиринте полушарий
- соткала грустный сон
- о бедном детстве.
*
- Уже я к мотиву запетому
- не кинусь, распахнут и счастлив, —
- я знаю себя, и поэтому
- с людьми я не сух, но опаслив.
*
- Случайная встреча на улице с другом,
- досуг невеликий — на две сигареты,
- но мы холоднее к житейским недугам,
- когда наши души случайно согреты.
*
- Мне мило все:
- игра чужих культур
- на шумных площадях земной округи
- и дивное различие фактур
- у ручек чемодана и подруги.
*
- О чем-то говорить я не хочу,
- о многом — ядовиты словопрения,
- поэтому все чаще я молчу,
- в немые погрузившись умозрения.
*
- Время сыпется струйкой песка,
- мухи памяти дремлют в черниле;
- ностальгия — смешная тоска
- по тому, что ничуть не ценили.
*
- В душе сильнее дух сиротства,
- и нам поделать с этим нечего,
- когда оплошность или скотство
- мы совершаем опрометчиво.
*
- Давно уже не верю в пользу споров
- и беганья за истиной гурьбой,
- я больше почерпнул из разговоров,
- которые веду с самим собой.
*
- Теперь я только волей случая
- знакомых вижу временами,
- тяжелый дух благополучия
- висит уныло между нами.
*
- Семью надо холить и нежить,
- особо заботясь о том,
- чтоб нелюди, нечисть и нежить
- собой не поганили дом.
*
- Пребывая в уверенном мнении
- обо всем, ибо тесно знаком,
- дело славное — в этом затмении
- величаво прожить мудаком.
*
- В порядочности много неудобства,
- что может огорчать и даже злить:
- испытываешь приступ юдофобства,
- а чувство это — некому излить.
*
- То, что я вижу, — омерзительно,
- уже на гибельной ступени,
- но страшно мне лишь умозрительно,
- а чисто чувственно — до фени.
*
- Утратил я охоту с неких пор
- вершить высоколобый устный блуд,
- ведут меня на умный разговор,
- как будто на допрос меня ведут.
*
- Смешны сегодня страхи предка,
- и жизнь вокруг совсем не та:
- зло демоническое редко,
- а больше — мразь и сволота.
*
- Черты похожести типичной
- есть у любви, семьи, разлуки —
- Творец, лишенный жизни личной,
- играет нашими со скуки.
*
- Мне кажется, что смутное брожение,
- тревогой расползаясь неуемной, —
- большое обещает извержение
- скопившейся по миру злобы темной.
*
- Моей мужицкой сути естество,
- чувствительную совесть не колыша,
- глухое ощущает торжество,
- о праведном возмездии услыша.
*
- Если б человеку довелось,
- пользуясь успехами прогресса,
- как-то ухватить земную ось —
- он ее согнет из интереса.
*
- Не то чтобы одно сплошное свинство
- цвело везде туземно и приблудно,
- однако же большое сукинсынство
- творится потаенно и прилюдно.
*
- Пока не уснешь, из былого
- упрямо сочится звучание,
- доносится каждое слово
- и слышится даже молчание.
*
- Алкающим света мужчинам,
- духовных высот верхолазам,
- в дороге к незримым вершинам
- обузой становится разум.
*
- Я понял, роясь в мире личном
- и наблюдая свой интим,
- что не дано сполна постичь нам,
- чего от жизни мы хотим.
*
- С такой осанкой — чисто лебеди
- (и белоснежность поразительна) —
- по жизни мне встречались нелюди,
- что красота мне подозрительна.
*
- Порою встречаюсь я
- с мудростью чистой,
- ее глубина мне близка и видна,
- однако для жизни,
- крутой и гавнистой,
- она бесполезна и даже вредна.
*
- Початый век уму неведом,
- и всуе тужится наука,
- но стойкость к самым лютым бедам
- хотел бы видеть я у внука.
*
- Забавно мне,
- что время увядания
- скукоживает нас весьма непросто,
- чертами благородного страдания
- то суку наделяя, то прохвоста.
*
- Слежу с неослабным вниманием,
- как ровно журчат за столом
- живые обмены незнанием
- и вялым душевным теплом.
*
- Только выйдя, еще на пороге,
- при любых переменах погоды
- ощущаю я токи тревоги,
- предваряющей смутные годы.
*
- Я верю аргументу, постулату,
- гипотезе, идее, доказательству,
- но более всего я верю блату,
- который возникает по приятельству.
*
- Вся беда разве в том,
- что творится вовне?
- Это вряд ли, ведь было и хуже.
- Просто смутное время
- клубится во мне,
- крася в черное все, что снаружи.
*
- Ровесник мой душой уныл
- и прозябает в мудрой хмурости,
- зато блажен, кто сохранил
- в себе остатки юной дурости.
*
- Везде, где все несутся впрыть, —
- моя незримая граница:
- решая, быть или не быть,
- я выбрал быть, но сторониться.
*
- Судьба у большинства — холмы и сопки,
- в ней очень редки скалы или горы,
- зато у всех у нас на пятой стопке —
- о кручах и вершинах разговоры.
*
- Давая вслух оценки фактам,
- полезно помнить каждой личности,
- что такт ума с душевным тактом —
- две очень разные тактичности.
*
- Я не боюсь дурного слуха,
- не страшно мне плохое мнение,
- поскольку слушаю вполуха
- и мне противно вдвое менее.
*
- Слова пусты, напрасны знаки
- и всуе предостережения,
- когда подземный дух клоаки
- созрел для самовыражения.
*
- Мы к житейской приучены стуже,
- в нас от ветра и тьмы непроглядной
- проступила внутри и снаружи
- узловатость лозы виноградной.
*
- Мы не знаем хотя ни бельмеса,
- как устроены разумы наши,
- только разум крутого замеса
- мы легко отличаем от каши.
*
- Сегодня мания лечения —
- почти повсюдный вид недуга,
- творят искусные мучения
- душа и тело друг для друга.
*
- В мире много всякого всего,
- надобны ухватка и замашка,
- каждый — повар счастья своего,
- только подобрать продукты тяжко.
*
- Хотя окрестная история
- творит судьбе немало хамства,
- но личной жизни траектория —
- рисунок личного упрямства.
*
- Больших умов сижу промеж
- и жду с надеждой весть благую,
- но в каждой мысли вижу плешь,
- а то и лысину нагую.
*
- Не знаю в жизни я плачевней,
- чем то мгновение в пути,
- когда любуешься харчевней,
- а внутрь — не на что войти.
*
- Я с русской речью так повязан,
- любя ее ручьи и реки,
- что я по трем порою фразам
- судить могу о человеке.
*
- Поскольку мы в рутинном быте
- к волненьям склонны гомерическим,
- то в нем достаточно событий,
- равновеликих историческим.
*
- Обживая различные страны,
- если выпало так по судьбе,
- мы сначала их жителям странны,
- а чуть позже мы странны себе.
*
- Мои греховные уста
- в порывах радости и страсти
- лобзали разные места
- за исключеньем зада власти.
*
- Забрать меня в жестокие тиски
- еще покуда хвори не полезли,
- а приступы беспочвенной тоски —
- естественность пожизненной болезни.
*
- Найдется ли, кому нас помянуть,
- когда про нас забудут даже дети?
- Мне кажется, найдется кто-нибудь,
- живущий на обочине в кювете.
*
- Жизни многих легко наперед
- описать, исключая подробности,
- человек — это то, что он врет,
- во вранье проступают способности.
*
- Живя суверенно, живя автономно
- и чуждо общественным ломкам,
- расходуешь чувства весьма экономно,
- но тихо становишься волком.
*
- Страсть к телесной чистоте
- зря людьми так ценится:
- часто моются лишь те,
- кто чесаться ленится.
*
- Как моралисты ни старались
- и ход их мыслей как ни вился,
- а хомо сапиенс вульгарис
- ни в чем ничуть не изменился.
*
- Кипит разруха моровая,
- но подрастает поколение,
- и торжествует жизнь живая
- себе самой на удивление.
*
- Любой обязан помнить,
- всяк и каждый,
- свой тягловый
- верша по жизни труд,
- что рельсы наши
- кончатся однажды,
- а после их и вовсе уберут.
*
- При проводах на жизненном вокзале —
- немногое сказать нам удается,
- а всё, что мы, волнуясь, не сказали,
- тупой и долгой болью остается.
*
- Завершатся однажды и враз
- наши подвиги, наше засранство,
- и закончится время для нас,
- а душе — распахнется пространство.
Лучшее духовное питание —
это в облаках душой витание
- Скажи мне, друг и современник, —
- уже давно спросить пора:
- зачем повсюду столько денег,
- а мы сидим без ни хера?
*
- Был создан мир Творцом, а значит —
- и Божий дух огнем горит
- не в тех, кто молится и плачет,
- а в тех, кто мыслит и творит.
*
- Чтобы наш мятежный дух земной
- стиснут был в разумных берегах —
- чуть окрепли крылья за спиной,
- гири повисают на ногах.
*
- Все мои затеи наповал
- рубятся фортуной бессердечно;
- если б я гробами торговал,
- жили бы на свете люди вечно.
*
- С душой у нас не все в порядке,
- подобны мы слепым и нищим,
- а Бог играет с нами в прятки,
- грустя, что мы Его не ищем.
*
- Ручьи грядущих лет журчат
- о том, что не на что надеяться,
- и подрастающих внучат
- еще помелет та же мельница.
*
- Именно пробелы и зазоры,
- а не толчея узлов и нитей,
- тихо сопрягаются в узоры
- истинного кружева событий.
*
- Небесный простор пустоты
- не то чтоб мешал моей вере,
- но если, Господь, это Ты,
- то в дождь я не выйду за двери.
*
- Всегда был занят я везде —
- всерьез, а не слегка —
- резьбой по воздуху, воде
- и дыму табака.
*
- Лень — это борьба, погони, кражи,
- мыслей оживленное брожение,
- только лень активно будоражит
- вялое мое воображение.
*
- Если ноет душевный ушиб,
- очень давит чужое присутствие,
- мне нужней, чтоб вокруг ни души
- не толпилось, являя сочувствие.
*
- Учился много я, но скверно,
- хотя обрывки помню прочно,
- и что я знаю, то неверно,
- а все, что верно, то неточно.
*
- Я в мудрецы хотя не лезу,
- но мыслю я башкой кудлатой,
- и неглубоких истин бездну
- я накопал моей лопатой.
*
- Есть между сном и пробуждением
- души короткая отрада:
- я ощущаю с наслаждением,
- что мне вставать еще не надо.
*
- Свой собственный мир я устроил
- усилием собственных рук,
- а всюду, где запись в герои,
- хожу стороной и вокруг.
*
- Я попадал моим ключом
- в такие скважины случайные,
- что нынче знаю, что почем,
- и мысли все мои — печальные.
*
- Угрюмо думал я сегодня,
- что в нашей тьме,
- грызне, предательстве
- вся милость высшая Господня —
- в Его безликом невмешательстве.
*
- В мире все расписано по нотам,
- гаммы эти вовсе не сложны:
- служат мысли умных идиотам,
- ибо только им они нужны.
*
- Когда меня от гибели на дне
- лишь тонкая удерживала нить,
- мгновение подмигивало мне,
- зовя его забавность оценить.
*
- Что суета течет впустую,
- нам не обидно и не жалко,
- активность нашу холостую
- огонь бенгальский греет жарко.
*
- Затем лишь я друзей бы попросил
- хоть капельку здоровья уберечь,
- чтоб дольше у души достало сил
- на радость от нечастых наших встреч.
*
- В небесной синей райской выси
- меня тоска бы съела — в ней
- метать нельзя и скучно бисер
- ввиду отсутствия свиней.
*
- Течет покоя зыбь текучая,
- и тишь да гладь отсель досель;
- идиотизм благополучия
- неописуем, как кисель.
*
- Мы спорим, низвергаем и бунтуем
- в запале сокрушенья и борения,
- а после остываем и бинтуем
- ожоги от душевного горения.
*
- Доволен я житьем-бытьем,
- покоем счастлив эфемерным,
- и все вокруг идет путем,
- хотя, по-моему, неверным.
*
- Кто отрешен и отчужден
- от суеты с ее кипением,
- зато сполна вознагражден
- живой души негромким пением.
*
- Давно уже домашен мой ночлег,
- лучусь, покуда тлеет уголек,
- и часто, недалекий человек,
- от истины бываю недалек.
*
- Сонливый облик обормота
- предъявит Божьему суду
- моя высокая дремота,
- надменно чуждая труду.
*
- В одинокую дудочку дуя,
- слаб душою и выпить непрочь,
- ни от Бога подачек не жду я,
- ни Ему я не в силах помочь.
*
- Моя уже хроническая праздность,
- владычица души моей и тела,
- корнями утекает в безобразность
- того, что сотворяют люди дела.
*
- Излишних сведений кирпич
- меня не тянет в каждый спор,
- но жажда истину постичь
- меня сусанит до сих пор.
*
- Чтобы глубоким мыслителем
- слыть у наивных людей,
- быть надо краном-смесителем
- нескольких крайних идей.
*
- Я стал отшельник,
- быт мой чист
- и дышит воздухом интимности,
- и жалко мне врагов моих,
- беднягам хочется взаимности.
*
- Век живу я
- то в конфузе, то в контузии —
- от азарта, от надежды, от иллюзии;
- чуть очухиваюсь —
- верен, как и прежде,
- я иллюзии, азарту и надежде.
*
- Проснувшись
- в неосознанной тревоге,
- я воду пью, рассеянно курю,
- и вовсе я не думаю о Боге,
- но с кем-то безусловно говорю.
*
- Был я слеп,
- опрометчив, решителен,
- скор и падок на дело и слово;
- стыд за прошлое мне утешителен
- и для глупостей новых основа.
*
- Я давно уже заметил, насколько
- человек умом и духом непрочен,
- полагаться на себя можно только,
- да и то, если признаться, не очень.
*
- Из лени, безделья и праздности,
- где корни порока гнездятся,
- рождаются разные разности,
- а в частности — песни родятся.
*
- Нигде, по сути, не был я изгой,
- поскольку был не лучше и не хуже,
- а то, что я существенно другой,
- узналось изнутри, а не снаружи.
*
- Человек, обретающий зрелость,
- знака свыше не ждет и не просит;
- только личной анархии смелость
- в Божий хаос порядок привносит.
*
- Жду я мыслей,
- как мух ожидает паук, —
- так они бы мне в дело сгодились!
- А вчера две глубоких
- явились мне вдруг —
- очевидно, они заблудились.
*
- Сухой букет желаний —
- вот утрата
- из частых по житейскому течению.
- Я столького всего хотел когда-то!
- А ныне — очень рад неполучению.
*
- Я не лучшие,
- а все потратил годы
- на блаженное бездельное томление,
- был послушен я велению природы,
- ибо лень моя — природное явление.
*
- Творец упрямо гнет эксперимент,
- весь мир деля на лагерь и бардак,
- и бедствует в борделе импотент,
- а в лагере блаженствует мудак.
*
- Я книжный червь и пьяный враль,
- а в мире празднуют верховность
- широкоплечая мораль
- и мускулистая духовность.
*
- Мне как-то понять повезло,
- и в памяти ныне витает,
- что деньги тем большее зло,
- чем больше нам их не хватает.
*
- На то, что вышел из тюрьмы,
- на то, что пью не по годам, —
- у Бога я беру взаймы,
- и оба знаем, что отдам.
*
- В ночи на жизнь мою покой
- ложится облачным пластом,
- он изумительно такой,
- каков, быть может, в мире том.
*
- Лижут вялые волны былого
- зыбкий берег сегодняшних лет,
- с хилой злобностью снова и снова
- люто плещут в лицо и вослед.
*
- Все пока со мной благополучно,
- профилю не стыдно за анфас,
- мне с самим собой бывает скучно,
- только если спит один из нас.
*
- А люблю я сильнее всего,
- хоть забава моя не проста, —
- пощипать мудреца за его
- уязвимые спору места.
*
- Ни тучки нет на небе чистом,
- а мне видна она вполне,
- поскольку светлым пессимистом
- я воспитал себя во мне.
*
- На днях печалясь, невзначай
- нашел я смуты разрешение:
- я матом выругал печаль,
- и ощутилось облегчение.
*
- На будущие беды мне плевать,
- предвидеть неизбежное — обидно,
- заранее беду переживать —
- и глупо, и весьма недальновидно.
*
- Насмешливость лелея и храня,
- я в жизни стал ей пользоваться реже:
- ирония — прекрасная броня,
- но хуже проникает воздух свежий.
*
- Тертые, бывалые, крученые,
- много повидавшие на свете,
- сделались мы крупные ученые
- в том, что знают с детства наши дети.
*
- Процессом странствия влеком,
- я в путешествие обычно
- весь погружаюсь целиком,
- а что я вижу — безразлично.
*
- Люди нынче жаждут потреблять,
- каждый занят миской и лоханкой,
- смотрится на фоне этом блядь —
- чистой древнегреческой вакханкой.
*
- Мне снился сон: бегу в толпе я,
- а позади — разлив огней,
- там распростертая Помпея,
- и жизнь моя осталась в ней.
*
- А если все заведомо в судьбе
- расписано, играется с листа,
- и мы — всего лишь гайки на резьбе,
- то лень моя разумна и чиста.
*
- Не мы плетем событий нить,
- об этом знал и древний стоик,
- а то, что можно объяснить, —
- уже усилия не стоит.
*
- Прислушавшись
- к оттенкам и нюансам,
- улавливаешь Божью справедливость:
- мы часто терпим горести авансом
- за будущую алчную блудливость.
*
- Неужели где-то в небе
- с равнодушной гениальностью
- сочиняется та небыль,
- что становится реальностью?
*
- Я мыслю без надрыва и труда,
- немалого достиг я в этом деле,
- поскольку, если целишь в никуда,
- никак не промахнешься мимо цели.
*
- Давно и в разном разуверясь,
- но, веря в Божью широту,
- еще сыскать надеюсь ересь,
- в которой веру обрету.
*
- По воздуху, по суше и воде
- добрался я уже до многих стран,
- еще не обнаружил я нигде
- лекарство от душевных наших ран.
*
- И все течет на самом деле
- по справедливости сейчас:
- мы в Бога верим еле-еле,
- а Бог — совсем не верит в нас.
*
- В судьбе
- бывают мертвые сезоны —
- застой и тишина, тоска и муть,
- и рвемся мы тогда, как вор из зоны,
- а нам давалось время отдохнуть.
*
- Тоска, по сути, неуместна,
- однако, скрыться не пытаясь,
- она растет в душе, как тесто,
- дрожжами радости питаясь.
*
- Мне дней земных мила текучка,
- а рай — совсем не интересен:
- там целомудренниц толкучка
- и не поют печальных песен.
*
- В шарме внешнем нету нужности
- одинокому ежу,
- красоту моей наружности
- я внутри себя держу.
*
- Нет, я на время не в обиде,
- что источилась жизни ось,
- я даже рад, что все предвидел,
- но горько мне, что все сбылось.
*
- Мой дух неярок и негромок,
- но прячет каплю смысла зрелого
- самодостаточный обломок
- несуществующего целого.
*
- Напрасно мы то стонем бурно,
- то глянем в небо и вздохнем.
- Бог создал мир весьма халтурно
- и со стыда забыл о нем.
*
- С наслаждением спать я ложусь,
- от уюта постели счастливый,
- потому что во сне не стыжусь,
- что такой уродился ленивый.
*
- Тому, кто себя не щадит
- и стоек в сей гибельной странности,
- фортуной дается кредит
- заметной душевной сохранности.
*
- На нас, мечтательных и хилых,
- не ловит кайфа Божий глаз,
- а мы никак понять не в силах,
- что Он в упор не видит нас.
*
- Сегодня спросили: а что бы
- ты сделал от имени Бога?
- Я в мире боюсь только злобы,
- и я б ее снизил намного.
*
- Былое нас так тешит не напрасно,
- фальшиво это мутное кино,
- но прошлое тем более прекрасно,
- чем более расплывчато оно.
*
- Для жизни полезно явление
- неясной печали тупой,
- то смутное духа томление,
- которое тянет в запой.
*
- В какие упоительные дали
- стремились мы, томлением пылая!
- А к возрасту, когда их повидали,
- увяла впечатлительность былая.
*
- Выделывая па и пируэты,
- немало начудил я интересного,
- земные я не чту авторитеты,
- но радуюсь молчанию небесного.
*
- Мне сладок перечень подсудный
- душегубительных пороков,
- а грех уныния паскудный —
- дурь от нехватки сил и соков.
*
- Душа моя заметно опустела
- и к жизни потеряла интерес —
- похоже, оставлять собралась тело
- и ей уже земной не нужен вес.
*
- Всегда на самочувствие весеннее,
- когда залито все теплом и светом,
- туманное влияет опасение,
- что все же будет осень вслед за летом.
*
- По существу событий личных
- в любых оказываясь точках,
- душа болит в местах различных
- и даже — в печени и почках.
*
- Тише теперь мы гуляем и пляшем,
- реже в судьбе виражи,
- даже иллюзии в возрасте нашем —
- призрачны, как миражи.
*
- В тесное чистилище пустив
- грешников заядлых и крутых,
- селят их на муки в коллектив
- ангелов, монахов и святых.
*
- Творец жесток,
- мы зря воображаем,
- что благостна земная наша тьма,
- мы многое легко переживаем,
- но после — выживаем из ума.
*
- Не просто ради интереса
- я глаз держу настороже:
- святой, пожавший руку беса, —
- святой сомнительный уже.
*
- Затем на небо нету моста,
- чтоб мог надеяться простак,
- что там совсем не все так просто,
- а просто все совсем не так.
*
- Я в молодости жить себе помог
- и ясно это вижу с расстояния:
- я понял, ощутив, как одинок,
- пожизненность такого состояния.
*
- Весьма порой мешает мне уснуть
- волнующая, как ни поверни,
- открывшаяся мне внезапно суть
- какой-нибудь немыслимой херни.
*
- В душе моей многое стерто,
- а скепсис — остатки загваздал;
- я верю и в Бога, и в черта,
- но в черта — сильнее гораздо.
*
- Многих бед моих источник —
- наплевавший на мораль
- мой язык — болтун и склочник,
- обаяшка, змей и враль.
*
- Душа, когда она уже в полете
- и вся уже вперед обращена,
- вдруг чувствует тоску по бренной плоти
- и болью ностальгии смущена.
*
- Творцу живется вряд ли интересно,
- от нас Ему то муторно, то дурно;
- а боги древних греков, как известно, —
- те трахались и сами очень бурно.
*
- Творец отвел глаза напрасно,
- когда мы падали во тьму;
- что Бога нет, сегодня ясно
- и нам не меньше, чем Ему.
*
- Подрезая на корню
- жажду веры острую,
- порют мутную херню
- все Его апостолы.
*
- Уже не глупость, а кретинство —
- любое пылкое учение
- про гармоничное единство
- и лучезарное сплочение.
*
- Я слухом не ловлю,
- не вижу взглядом,
- но что-то существует с нами рядом,
- невнятицу мне в душу говоря
- словами из иного словаря.
*
- Время льется то жидко, то густо,
- то по горло, то ниже колен,
- а когда оно полностью пусто —
- наступает пора перемен.
*
- На вопрос мой даруя ответ,
- песня чья-то звучит надо мной,
- и опять проливается свет
- на изгаженный век наш чумной.
*
- Несчетных звезд у Бога россыпи
- и тьма кружащихся планет,
- и для двуногой мелкой особи
- душевных сил у Бога нет.
*
- Тоска моя не легче, но ясней:
- в душе иссяк терпения запас,
- трехмерность бытия обрыдла ей,
- и боль ее окутывает нас.
*
- Теперь, когда я крепко стар,
- от мира стенкой отгорожен,
- мне Божий глас народа стал
- докучлив и пустопорожен.
*
- Слушая полемик жаркий бред,
- я люблю накал предубеждения,
- ибо чем туманнее предмет,
- тем категоричнее суждения.
*
- Повсюду нынче злобой
- пахнет скверно,
- у Бога созревает новый план,
- Его ведь консультируют, наверно,
- Аттила, Чингисхан и Тамерлан.
*
- Заглядывая в канувшее прошлое,
- я радуюсь ему издалека:
- уже оно красивое, киношное,
- и даже театральное слегка.
*
- Нет, я не зябко и не скудно
- жил без единого кумира,
- но без него ужасно трудно
- во мгле безжалостного мира.
*
- Мечта — весьма двусмысленный росток,
- и Бог, хотя сочувствует мечтам,
- скорее милосерден, чем жесток,
- давая расцвести не всем цветам.
*
- Я у философа Декарта
- прочел и помню с той поры,
- что, если прет худая карта,
- разумней выйти из игры.
*
- Наш каждый возраст — как гостиница:
- мы в разных думаем о разном,
- и только легкость оскотиниться
- живет везде живым соблазном.
*
- Все слухи, сплетни, клевета
- и злой молвы увеселения —
- весьма нужны, чтоб не пуста
- была душа у населения.
*
- Наш мир уже почти понятен,
- загадки тают, словно снег,
- из непостижно белых пятен
- остался только человек.
*
- Когда весь день бывал я весел
- и не темнело небо синее,
- то я намного меньше весил —
- не вес ли клонит нас в уныние?
*
- Я, даже не смыкая век,
- лежать люблю — до обожания,
- ведь сам по сути человек —
- продукт совместного лежания.
*
- Хоть мысли наши Господу угодны,
- в одном забавно схожи все они:
- высокие раздумья — многоводны,
- что делает их реками херни.
*
- Кормежка служит нам отрадой,
- Бог за обжорство нас простит,
- ведь за кладбищенской оградой
- у нас исчезнет аппетит.
*
- Я личное имею основание
- не верить сильной пользе от учения:
- я лично получал образование,
- забытое в минуту получения.
*
- В душе — глухая безнадега,
- в уме кипит пустой бульон;
- а вариант поверить в Бога
- давно отвергли я и Он.
*
- Почему-то порою весенней
- часто снится, внушая мне страх,
- будто я утопаю в бассейне,
- где вода мне всего лишь по пах.
*
- Года мои стремглав летели,
- и ныне — Бог тому свидетель —
- в субботу жизненной недели
- мое безделье — добродетель.
*
- Из мелочи, случайной чепухи,
- из мусора житейского и сора
- рождаются и дивные стихи,
- и долгая мучительная ссора.
*
- Я часто думаю теперь —
- поскольку я и в мыслях грешен, —
- что в судьбах наших счет потерь
- числом даров уравновешен.
*
- Не грусти, обращаясь во прах,
- о судьбе, что случилась такой,
- это тяжко на первых порах,
- а потом — тишина и покой.
*
- Наш небольшой планетный шарик
- давно живет в гавне глубоком,
- Бог по нему уже не шарит
- своим давно уставшим оком.
*
- А там и быт совсем другой —
- в местах, куда Харон доставит:
- то черт ударит кочергой,
- то ангел в жопу свечку вставит.
*
- Об этом я задумался заранее:
- заведомо зачисленный в расход,
- не смерти я боюсь, а умирания,
- отсутствие мне проще, чем уход.
*
- Я писал, как думал, а в итоге
- то же, что в начале, ясно мне:
- лучше легкомысленно — о Боге,
- чем высокопарно — о хуйне.
*
- Забавный все-таки транзит:
- вдоль по судьбе через года
- волочь житейский реквизит
- из ниоткуда в никуда.
*
- Ты ничего не обещаешь,
- но знаю: Ты меня простишь,
- ведь на вранье, что Ты прощаешь,
- основан Твой земной престиж.
Пылкое любовное соитие —
важное житейское событие
- Везде, где вслух галдят о вечном,
- и я, любуясь нежной птахой,
- печально мыслю: где бы лечь нам,
- послав печаль и вечность на хуй?
*
- С той поры не могу я опомниться,
- как позор этот был обнаружен:
- я узнал, что мерзавка-любовница
- изменяла мне с собственным мужем.
*
- Мы лето разве любим за жару?
- За мух? За комаров?
- Намного проще:
- за летнюю повсюдную игру
- в кустах, на берегу и в каждой роще.
*
- Судьбы случайное сплетение,
- переплетенье рук и ног,
- и неизбежное смятение,
- что снова так же одинок.
*
- Появилось ли что-то во взгляде?
- Стал угрюмее с некой поры?
- Но забавно, как чувствуют бляди,
- что уже я ушел из игры.
*
- Прекрасна юная русалка,
- предела нету восхищению,
- и лишь до слез матросу жалко,
- что хвост препятствует общению.
*
- Начал я с той поры, как подрос,
- разбираться во взрослых игрушках,
- и немало кудрявых волос
- на чужих я оставил подушках.
*
- Беда с романами и шашнями,
- такими яркими в начале:
- едва лишь делаясь вчерашними,
- они тускнели и мельчали.
*
- Во флирте мы весьма поднаторели
- и, с дамой заведя пустую речь,
- выводим удивительные трели,
- покуда размышляем, где прилечь.
*
- У мужиков тоску глобальную
- понять-постичь довольно просто:
- мы ищем бабу идеальную,
- а жить с такой — смертельно постно.
*
- Любовным играм обучение —
- и кайф, и спорт, и развлечение.
*
- Смешной забаве суждено
- плыть по течению столетий:
- из разных мест сойдясь в одно,
- два пола шаркают о третий.
*
- Мы все танцуем идеально,
- поскольку нет особой сложности
- напомнить даме вертикально
- горизонтальные возможности.
*
- Не зря ли мы здоровье губим,
- виясь телами в унисон?
- Чем реже мы подругу любим,
- тем чаще нас ласкает сон.
*
- Постичь я не могу,
- но принимаю
- стихию женских мыслей и причуд,
- а если что пойму, то понимаю,
- что понял это поздно чересчур.
*
- Всюду плачется загнанный муж
- на супружества тяжкий обет,
- но любовь — это свет наших душ,
- а семья — это плата за свет.
*
- Неправда, что женщины — дуры,
- мужчины умней их едва ли,
- домашние нежные куры
- немало орлов заклевали.
*
- Идея найдена не мной,
- но это ценное напутствие:
- чтоб жить в согласии с женой,
- я спорю с ней в ее отсутствие.
*
- В нас от юных вишен и черешен
- память порастает незабудками;
- умыслом и помыслом я грешен
- больше, чем реальными поступками.
*
- Девушка, зачем идешь ты мимо
- и меня не видишь на пути?
- Так ведь и Аттила мимо Рима
- мог однажды запросто пройти.
*
- У бабы во все времена —
- жара на дворе или стужа —
- потребность любви так сильна,
- что любит она даже мужа.
*
- Едино в лысых и седых —
- как иудеев, так и эллинов,
- что вид кобылок молодых
- туманит взор у сивых меринов.
*
- Растет моя дурная слава
- среди ханжей и мелких равов,
- поскольку свято чту я право
- участия в упадке нравов.
*
- Мужики пустой вопрос
- жарко всюду обсуждают:
- почему у наших роз
- их шипы не увядают?
*
- Мне часто доводилось убедиться
- в кудрявые года моей распутности,
- что строгая одежда на девице
- отнюдь не означает недоступности.
*
- Занявшись темной дамы просветлением
- и чары отпустив на произвол,
- я долго остаюсь под впечатлением,
- которое на даму произвел.
*
- Я не стыжусь и не таюсь,
- когда палюсь в огне,
- я сразу даме признаюсь
- в ее любви ко мне.
*
- Мужику в одиночестве кисло,
- тяжело мужику одному,
- а как баба на шее повисла,
- так немедленно легче ему.
*
- По женщине значительно видней,
- как лечит нас любовная игра:
- потраханная женщина умней
- и к миру снисходительно добра.
*
- Мне было с ней настолько хорошо,
- что я без умышлений негодяйства
- завлек ее в постель и перешел
- к совместному ведению хозяйства.
*
- Дух весенний полон сострадания
- к темным и таящимся местам:
- всюду, где углы у мироздания,
- кто-нибудь весной ебется там.
*
- Липла муха-цокотуха
- на любые пиджаки,
- позолоту стерли с брюха
- мимолетные жуки.
*
- Здоровый дух в здоровом теле
- влечет его к чужой постели.
*
- Где музыка звучит,
- легко тревожа,
- где женщины танцуют равнобедренно,
- глаза у мужиков
- горят похоже:
- хочу, и по возможности немедленно.
*
- Легко текла судьба моя,
- минуя храм и синагогу,
- и многим черным кошкам я
- перебежал тогда дорогу.
- Теперь давно я не жених,
- но шелушится в голове,
- что были светлые меж них,
- и даже рыжих было две.
*
- Ведя семейную войну,
- где ищет злость похлеще фразу,
- я побеждаю потому,
- что белый флаг подъемлю сразу.
*
- Мужчин рассеянное воинство
- своей особостью гордится,
- хотя у всех — одно достоинство:
- любой козел в мужья годится.
*
- Занявшись опросов пустыми трудами —
- а к личным секретам
- охоч я и лаком, —
- я в мысли простой
- утвердился с годами:
- семья — это тайна,
- покрытая браком.
*
- Из некоего жизненного круга
- нам выйти с неких пор
- не удается,
- поэтому случайная подруга —
- нечаянная влага из колодца.
*
- Ведем ли мы беседы грустные,
- ворчим ли — всюду прохиндеи,
- а в нас кипят, не зная устали,
- прелюбодейные идеи.
*
- От искры любовной — порой сгоряча —
- в ночи зажигается жизни свеча.
- Какой ни являет она собой вид,
- а тоже свечу запалить норовит.
- И тянется так по капризу Творца —
- забыто начало, не видно конца.
- Покуда слова я увязывал эти,
- пятьсот человек появилось на свете.
*
- К ней шел и старец, и юнец,
- текли ученые и школьники,
- и многим был сужден конец
- в ее Бермудском треугольнике.
*
- Связано весьма кольцеобразно
- мира устроение духовное,
- и в любом отказе от соблазна
- есть высокомерие греховное.
*
- Люблю журчанье этой речки,
- где плещет страсть о берега,
- и тонковрунные овечки
- своим баранам вьют рога.
*
- Привязан к мачте, дышит жарко
- плут Одиссей. И жутко жалко —
- сирен, зазря поющих страстно
- в неодолимое пространство.
*
- Когда вокруг галдит семья,
- то муж, отец и дед,
- я тихо думаю, что я
- скорее жив, чем нет.
*
- Весьма крута метаморфоза
- с мозгами, выпивкой сожженными,
- и мы от раннего склероза
- с чужими путаемся женами.
*
- Будь гений ты или герой,
- мудрец и эрудит —
- любви сердечный геморрой
- тебя не пощадит.
*
- История — не дважды два четыре,
- история куда замысловатей,
- не знает ни один историк в мире
- того, что знают несколько кроватей.
*
- С одной отменной Божьей шуткой
- любой мужик весьма знаком:
- полгода бегаешь за юбкой —
- и век живешь под каблуком.
*
- У девушек пальтишки были куцые,
- и — Боже, их судьбу благослови —
- досадуя, что нету проституции,
- они нам отдавались по любви.
*
- Какой-нибудь
- увлекшись кошкой драной
- (обычно с легкой пылью в голове),
- томился я потом душевной раной
- и баб терпеть не мог недели две.
*
- Мужья по малейшей причине
- к упрекам должны быть готовы;
- изъянов не видеть в мужчине
- умеют одни только вдовы.
*
- Поют юнцы свои запевки
- про нежных кралей и зазноб,
- а мы при виде юной девки
- не в жар впадаем, а в озноб.
*
- В острые периоды влюбленности —
- каждый убеждался в этом лично —
- прочие порочные наклонности
- ждут выздоровления тактично.
*
- Мы проявляем благородство
- и дарим радость Божьим сферам,
- когда людей воспроизводство
- своим поддерживаем хером.
*
- С тугими очертаниями зада
- иметь образование не надо.
*
- В этом гомоне и гаме,
- в этой купле и продаже
- девки делают ногами,
- что уму не снилось даже.
*
- Любовь немыслима без такта,
- поскольку он — важнейший клей
- и для игры, и для антракта,
- и для согласия ролей.
*
- Живет еще во мне былой мотив,
- хотя уже я дряхлый и седой,
- красотку по соседству ощутив,
- я с пылкостью болтаю ерундой.
*
- Овеян двусмысленной славой,
- ласкаю сустав подагрический,
- а где-то с распутной шалавой
- гуляет мой образ лирический.
*
- Многим птицам вил я гнезда
- на ветвях души моей,
- только рано или поздно
- пташки гадили с ветвей.
*
- Поскольку в жизненном меню —
- увы — нам большего не дали,
- я женщин искренне ценю
- за обе стороны медали.
*
- По весне, как козырная карта,
- без жеманства, стыда и надменности
- для поимки любовного фарта
- оголяются все сокровенности.
*
- Увы, но в жизни скоротечной
- с годами вянет благодать
- уменья вспыхнуть к первой встречной
- и ей себя всего отдать.
*
- Профан полнейший в туфлях, бусах —
- эстетской жилки я лишен,
- зато сходился я во вкусах
- с мужьями очень разных жен.
*
- Загадочно мне женское сложение —
- духовного и плотского смешение,
- где мелкое телесное движение
- меняет наше к бабе отношение.
*
- Семья — устройство не вчерашнее,
- уже Сенека замечает:
- мужик — животное домашнее,
- но с удовольствием дичает.
*
- Податливость мою хотя кляну,
- однако же перечить не рискую:
- мужчина, не боящийся жену,
- весьма собой позорит честь мужскую.
*
- Многим дамам ужимками лестными
- я оказывал знаки внимания,
- потому что с учтивыми жестами
- тесно связан успех вынимания.
*
- Любовь — не только наслаждение:
- и по весне, и в ноябре
- в любви есть самоутверждение,
- всегда присущее игре.
*
- Зная книгу жизни назубок,
- текста я из виду не теряю,
- важную главу про поебок
- я весьма усердно повторяю.
*
- Глубоким быть философом не надо,
- повсюду видя связи и следы:
- любовью мир удержан от распада,
- а губят этот мир — ее плоды.
*
- Наукой все границы стерты,
- на днях читал уже в печати я,
- что девки делают аборты
- от непорочного зачатия.
*
- Необходим лишь первый шаг
- туда, где светит согрешение,
- а после слабая душа
- сама впадает в искушение.
*
- За мелким вычетом подробностей
- невмочь ни связям, ни протекции
- помочь ни в области способностей,
- ни в отношении эрекции.
*
- Весной зацвел горох толченый,
- влюбился в рыбу крокодил,
- пошел налево кот ученый
- и там котят себе родил.
*
- Меняются каноны и понятия,
- вид мира и событий, в нем текущих,
- одни только любовные объятия —
- такие же, как были в райских кущах.
*
- В беседе с дамой много проще
- воспринимать ее на ощупь.
*
- Когда мы видим лик прелестный
- и слов уже плетется вязь,
- то блекнет весь пейзаж окрестный,
- туманным фоном становясь.
*
- Порой грущу при свете лунном,
- томясь душой перед рассветом,
- что снюсь, возможно, девам юным,
- но не присутствую при этом.
*
- Под фиговым порой таится листиком
- такое, что не снилось даже мистикам.
*
- Пускай на старческой каталке
- меня сей миг везут к врачу,
- когда вакханку от весталки
- я в первый раз не отличу.
*
- Пройдет и канет час печальный,
- и я меж ангелов небесных
- увижу свет первоначальный
- и грустно вспомню баб телесных.
*
- Сыграет ангел мой на дудочке,
- что мне пора пред Божье око,
- и тут же я смотаю удочки,
- и станет рыбкам одиноко.
*
- С какой-нибудь
- из дивно зрелых дам
- пускай застигнет смерть
- меня на ложе,
- окликнет Бог меня:
- — Ты где, Адам?
- А я ему отвечу:
- — Здесь я, Боже!
*
- Всуе прах мой не тревожь,
- а носи бутылки,
- пусть ебется молодежь
- на моей могилке.
Поскольку ни на что уже не годен,
теперь я относительно свободен
- Видя старческую прыть,
- бабы разбегаются,
- дед их дивно мог покрыть,
- а они пугаются.
*
- Время хворей и седин —
- очень тяжкая проверка
- утлых банок от сардин,
- серых гильз от фейерверка.
*
- Это враки, что выдохся я,
- сочинялись бы книжка за книжкой,
- но состарилась Муза моя
- и стихи мне диктует с одышкой.
*
- Хоть пыл мой возрастом уменьшен,
- но я без понта и без фальши
- смотрю на встречных юных женщин
- глазами теми же, что раньше.
*
- Сейчас, когда уже я старожил,
- я верен обывательским пределам —
- не то чтобы я жизнью дорожил,
- но как-то к ней привык
- душой и телом.
*
- Хотя проходит небольшой
- отрезок нашей биографии,
- хоть мы такие же душой —
- нас жутко старят фотографии.
*
- Когда мы начинаем остывать
- и жизнь уже почти что утекла,
- мы ценим нашу ветхую кровать
- как средство сохранения тепла.
*
- Дряхлый турист повсеместно
- льется густыми лавинами:
- старым развалинам лестно
- встретиться взглядом с руинами.
*
- Старушке снятся дни погожие
- из текших много лет назад,
- когда кидались все прохожие
- проситься к ней в нескучный сад.
*
- Творец расчислил наперед
- любое наше прекословье:
- вторая молодость берет
- у нас последнее здоровье.
*
- Я вязну в тоскливых повторах,
- как будто плывут миражи;
- встречаются сутки, в которых
- уже точно так же я жил.
*
- От чего так устал?
- Ведь не камни таскал.
- А подвыпив,
- еще порываюсь я петь;
- но все время тоска,
- и повсюду тоска —
- помоги мне, Господь,
- эту жизнь дотерпеть.
*
- Если ближе присмотреться,
- в самом хилом старикашке
- упоенно бьется сердце
- и шевелятся замашки.
*
- Вместе со всеми впадая в балдеж
- и на любые готовы падения,
- вертятся всюду,
- где есть молодежь,
- дедушки легкого поведения.
*
- Наше время ступает, ползет и идет
- по утратам, потерям, пропажам,
- в молодые годится любой идиот,
- а для старости — нужен со стажем.
*
- Да, молодые соловьи,
- мое былое — в сером пепле,
- зато все слабости мои
- набрали силу и окрепли.
*
- Уже не позавидует никто
- былой моей
- загульной бесноватости,
- но я обрел на старости зато
- все признаки святого,
- кроме святости.
*
- Не манят ни слава, ни власть,
- с любовью — глухой перекур,
- осталась последняя страсть —
- охота на жареных кур.
*
- Негоже до срока
- свечу задувать,
- нам это веками твердят,
- однако тому,
- чье пространство — кровать,
- нет лучше лекарства, чем яд.
*
- Я не только снаружи облез,
- я уже и душевно такой,
- моего сластолюбия бес
- обленился и ценит покой.
*
- Судьба ведет нас и волочит
- на страх и риск, в огонь и в воду,
- даруя ближе к вечной ночи
- уже ненужную свободу.
*
- Душа поет, хотя не птица,
- и стать легка не по годам,
- и глаз, как странствующий рыцарь,
- прекрасных сыскивает дам.
*
- Горизонт застилается тучами,
- время явно уже на излете,
- ибо стали печально докучливы
- все волнения духа и плоти.
*
- Провалился житейский балет
- или лысина славой покрыта —
- все равно мы на старости лет
- у разбитого дремлем корыта.
*
- Стал верить я глухой молве,
- что, выйдя в возраст стариковский,
- мы в печени и в голове
- скопляем камень философский.
*
- Годы создают вокруг безлюдие,
- полон день пустотами густыми;
- старческих любовей скудоблудие —
- это еще бегство из пустыни.
*
- Ходят цыпочки и лапочки —
- словно звуки песнопений;
- половина мне до лампочки,
- остальные мне до фени.
*
- Копчу зачем-то небо синее,
- меняя слабость на усталость,
- ежевечернее уныние —
- на ежеутреннюю вялость.
*
- Угрюмо сух и раздражителен,
- еще я жгу свою свечу
- и становиться долгожителем
- уже боюсь и не хочу.
*
- Еще несет нас по волнам,
- еще сполна живем на свете,
- но в паруса тугие нам
- уже вчерашний дует ветер.
*
- Не назло грядущим бедам,
- не вкушая благодать,
- а ебутся бабка с дедом,
- чтобы внуков нагадать.
*
- Дотла сгоревшее полено,
- со мной бутыль распив под вечер,
- гуняво шамкало, что тлена
- по сути нет и дух наш вечен.
*
- Меня спроси или Его —
- у нас один ответ:
- старенье — сумерки всего,
- что составляло свет.
*
- Уже немалые года
- мой хер со мной
- отменно дружен,
- торча во младости всегда,
- а ныне — только если нужен.
*
- Я дряхлостью нисколько не смущен,
- и в частом алкогольном кураже
- я бегаю за девками еще,
- но только очень медленно уже.
*
- Вчера с утра
- кофейной гущей
- увлекся я, ловя узор,
- и углядел в судьбе грядущей
- на склоне лет мужской позор.
*
- К любым неприятностям
- холодно стоек,
- я силы души
- берегу про запас;
- на старости лет
- огорчаться не стоит:
- ведь самое худшее
- ждет еще нас.
*
- Порой жалеть я стал себя:
- уже ничей не соблазнитель,
- нить жизни вяло теребя,
- ловлю конец не свой, а нити.
*
- Вонзается во сне
- мне в сердце спица
- и дико разверзается беда;
- покой, писал поэт,
- нам только снится;
- увы, теперь и снится не всегда.
*
- Стынет буквами речка былого,
- что по веку неслась оголтело,
- и теперь меня хвалят за слово,
- как недавно ругали за дело.
*
- Для счастья надо очень мало,
- и рад рубашке старичок,
- если добавлено крахмала,
- чтобы стоял воротничок.
*
- Ближе к ночи пью горький нектар
- под неспешные мысли о том,
- как изрядно сегодня я стар,
- но моложе, чем буду потом.
*
- Мне забавна картина итога
- на исходе пути моего:
- и вполне я могу еще много,
- и уже не хочу ничего.
*
- Мы видные люди в округе,
- в любой приглашают нас дом,
- но молоды наши подруги
- все с большим и большим трудом.
*
- Я вкушаю отдых благодатный,
- бросил я все хлопоты пустые:
- возраст у меня еще закатный,
- а в умишке — сумерки густые.
*
- Принять последнее решение
- мешают мне родные лица,
- и к Богу я без приглашения
- пока стесняюсь появиться.
*
- Старюсь я приемлемо вполне,
- разве только горестная штука:
- квелое уныние ко мне
- стало приходить уже без стука.
*
- Судьбе не так уж мы покорны,
- и ждет удача всех охочих;
- в любви все возрасты проворны,
- а пожилые — прытче прочих.
*
- Молодое забыв мельтешение,
- очень тихо живу и умеренно,
- но у дряхлости есть утешение:
- я уже не умру преждевременно.
*
- Создался
- облик новых поколений,
- и я на них смотрю,
- глуша тревогу;
- когда меж них родится
- ихний гений,
- меня уже не будет, слава Богу.
*
- Приблизившись
- к естественному краю,
- теряешь наплевательскую спесь,
- и я уже спокойно примеряю
- себя к существованию не здесь.
*
- Слава Творцу,
- мне такое не снилось,
- жил я разболтанно, шало и косо,
- все, что могло, у меня износилось,
- но безупречно и после износа.
*
- Я огорчен печальной малостью,
- что ближе к сумеркам видна:
- ум не приходит к нам со старостью,
- она приходит к нам одна.
*
- Любое знает поколение,
- как душу старца может мучить
- неутолимое стремление
- девицу юную увнучить.
*
- Нет сил на юное порхание,
- и привкус горечи острей,
- но есть весеннее дыхание
- в расцвете дряхлости моей.
*
- Еще мы хватки в острых спорах,
- еще горит азарт на лицах,
- еще изрядно сух наш порох,
- но вся беда — в пороховницах.
*
- Состарясь, мы уже другие,
- но пыл ничуть не оскудел,
- и наши помыслы благие
- теперь куда грешнее дел.
*
- Смешно грустить о старости, друзья,
- в душе не затухает Божья искра;
- склероз, конечно, вылечить нельзя,
- но мы о нем забудем очень быстро.
*
- Все толкования меняются
- у снов периода старения,
- и снится пухлая красавица —
- к изжоге и от несварения.
*
- К очкам привыкла переносица,
- во рту протезы, как родные,
- а после пьянки печень просится
- уйти в поля на выходные.
*
- В последней, стариковской ипостаси
- печаль самолюбиво я таю:
- на шухере, на стреме, на атасе —
- и то уже теперь не постою.
*
- Растаяла, меня преобразив,
- цепочка улетевших лет и зим,
- не сильно был я в юности красив,
- по старости я стал неотразим.
*
- Я курю, выпиваю и ем,
- я и старый — такой же, как был,
- и практически нету проблем
- даже с этим — но с чем, я забыл.
*
- Вот женщина шлет зеркалу вопрос,
- вот зеркало печальный шлет ответ,
- но женщина упрямо пудрит нос
- и красит увядание в расцвет.
*
- Памяти моей истерлась лента,
- вся она — то в дырах, то в повторах,
- а в разгаре важного момента —
- мрак и зга, хрипение и шорох.
*
- Наплывает на жизнь мою лед.
- Он по праву и вовремя он.
- Веет холод. И дни напролет
- у меня не звонит телефон.
*
- Знает каждый,
- кто до старости дорос,
- как похожа наша дряхлость
- на влюбленность,
- потому что это вовсе не склероз,
- а слепая и глухая просветленность.
*
- Мое уже зимнее сердце —
- грядущее мы ведь не знаем —
- вполне еще может согреться
- чужим зеленеющим маем.
*
- И в годы старости плачевной
- томит нас жажда связи тесной —
- забытой близости душевной,
- былой слиянности телесной.
*
- Уже в наших шутках и пении —
- как эхо грядущей нелепости —
- шуршат и колышутся тенями
- знамена сдающейся крепости.
*
- Что старику надрывно снится,
- едва ночной сгустился мрак?
- На ветках мается жар-птица,
- шепча: ну где же ты, дурак?
*
- С того и грустны стариканы,
- когда им налиты стаканы,
- что муза ихнего разврата
- ушла куда-то без возврата.
*
- …Но вынужден жить,
- потому что обязан
- я всем, кто со мною
- душевно завязан.
*
- Как пенится музыка
- в юных солистах!
- Как дивна игра их
- на скрипках волнистых!
- А мы уже в зале, в толпе старичков,
- ушла музыкальность
- из наших смычков.
*
- Ощущая свою соприродность
- с чередой уходящего множества,
- прихожу постепенно в негодность
- и впадаю в блаженство убожества.
*
- Я хотя немало в жизни видел,
- в душу много раз ронялась искра,
- все-таки на Бога я в обиде:
- время прокрутил Он очень быстро.
*
- В тиши укромного жилища
- я жду конца пути земного,
- на книжных полках — духа пища,
- и вдоволь куплено спиртного.
*
- Я под раскаты вселенского шума
- старость лелею мою;
- раньше в дожди я читал или думал,
- нынче я сплю или пью.
*
- Я часто бываю растерян:
- хотя уже стал я седым,
- а столь же в себе не уверен,
- как был, когда был молодым.
*
- Печаль моя — не от ума,
- всегда он был не слишком ярок,
- но спит во мне желаний тьма,
- а сил — совсем уже огарок.
*
- От возраста поскольку нет лечения,
- то стоит посмотреть на преимущества:
- остыли все порочные влечения,
- включая умножение имущества.
*
- Уже я начал хуже слышать,
- а видеть хуже — стал давно,
- потом легко поедет крыша,
- и тихо кончится кино.
*
- Утопая в немом сострадании,
- я на старость когда-то смотрел,
- а что есть красота в увядании,
- я заметил, когда постарел.
*
- Годы меня знанием напичкали,
- я в себе глазами постаревшими
- вижу коробок, набитый спичками —
- только безнадежно отсыревшими.
*
- Время жизни летит, как лавина,
- и — загадка, уму непомерная,
- что вторая ее половина
- безобразно короче, чем первая.
*
- Начал я слышать с течением лет —
- жалко, что миг узнавания редок:
- это во мне произносит мой дед,
- это — отец, но возможно, что предок.
*
- Забавно мне, что старческие немощи
- в потемках увядания глухих
- изрядно омерзительны и тем еще,
- что тянут нас рассказывать о них.
*
- Дико мне порой сидеть в гостях,
- мы не обезумели, но вроде:
- наши разговоры о смертях
- будничны, как толки о погоде.
*
- В те года, что еще не устал,
- я оглядывал женщин ласкательно,
- только нынче, хотя уже стар,
- а на баб я смотрю вынимательно.
*
- Блаженна пора угасания:
- все мысли расплывчато благостны,
- и буйственной жизни касания
- скорее докучны, чем радостны.
*
- Едва пожил — уже старик,
- Создатель не простак,
- и в заоконном чик-чирик
- мне слышится тик-так.
*
- Текут по воздуху года,
- легко струясь под каждой крышей,
- и скоро мы войдем туда,
- откуда только Данте вышел.
*
- Как найти эту веху в пути
- на заметном закатном сползании,
- чтоб успеть добровольно уйти,
- оставаясь в уме и сознании?
*
- Лично мне, признаться честно,
- вместо отдыха в суглинке
- было б весело и лестно
- посетить мои поминки.
*
- Мы дожили
- до признания и внуков,
- до свободы
- в виде пакостной пародии,
- и уходим мы
- с медлительностью звуков
- кем-то сыгранной и тающей мелодии.
*
- По складу нашего сознания —
- мы из реальности иной,
- мы допотопные создания,
- нас по оплошке вывез Ной.
*
- Кончается жизни дорога,
- я много теперь понимаю
- и знаю достаточно много,
- но как это вспомнить — не знаю.
*
- Друзья, вы не сразу меня хороните,
- хочу посмотреть — и не струшу,
- как бес-искуситель
- и ангел-хранитель
- придут арестовывать душу.
*
- Сегодня, выпив кофе поутру,
- я дивный ощутил в себе покой;
- забавно: я ведь знаю, что умру,
- а веры в это нету никакой.
*
- Нехитрым совпадением тревожа,
- мне люстра подмигнула сочинить,
- что жизнь моя — на лампочку похожа,
- и в ней перегорит однажды нить.
*
- Звезде далекой шлю привет
- сквозь темноту вселенской стужи;
- придя сюда, ответный свет
- уже меня не обнаружит.
*
- Пили водку дед с бабулькой,
- ближе к ночи дед косел,
- но однажды он забулькал
- и уже не пил совсем.
Яркий признак мысли и культуры —
горы и моря макулатуры
- Не я нарушил рабское молчание,
- однако был мой вклад
- весьма заметным:
- я в ханжеской стране вернул звучание
- народным выражениям заветным.
*
- Проста моя пустая голова,
- и я не напрягаюсь, а играю:
- кипят во мне случайные слова,
- а мысли к ним я после подбираю.
*
- Как пахнут лучшие сыры,
- не стоит пахнуть человеку,
- а ты не мылся с той поры,
- когда упал ребенком в реку.
*
- В те годы, когда сопли подсыхали
- и стала созревать мужская стать,
- гормоны изживали мы стихами,
- а после не сумели перестать.
*
- Собой меж нас он дорожил,
- как ваза — местом в натюрморте,
- и потому так долго жил
- и много воздуха испортил.
*
- Жить с утра темно и смутно
- до прихода первой строчки,
- а потом уже уютно,
- как вокруг отпитой бочки.
*
- По лени сам я не коплю
- сор эрудиции престижной,
- но уважаю и люблю
- мешки летучей пыли книжной.
*
- Пишу эстрадные программы,
- соединив, дохода ради,
- величие Прекрасной Дамы
- с доступностью дворовой бляди.
*
- Читать — не вредная привычка:
- читаю чушь, фуфло, утиль,
- и вдруг нечаянная спичка
- роняет искру в мой фитиль.
*
- Почти не ведая заранее,
- во что соткется наша речь,
- тоску немого понимания
- мы в текст пытаемся облечь.
*
- Поэту очень важно уважение,
- а если отнестись к нему иначе,
- лицо его являет выражение
- просящего взаймы и без отдачи.
*
- Чужое сочинительство — докука,
- и редко счастье плакать и хвалить;
- талант я ощущаю с полузвука
- и Моцарту всегда готов налить.
*
- Творцам, по сути, хвастать нечем,
- их дар — ярмо, вериги, крест,
- и то клюет орел им печень,
- то алкоголь им печень ест.
*
- Тоску по журчанью монет
- и боль от любовной разлуки
- в мотив облекает поэт,
- собрав туда вздохи и пуки.
*
- На меня влияло чтение
- хоть весьма всегда по-разному,
- но уменьшило почтение
- к человеческому разуму.
*
- В мир повально текущей мистерии
- окунули мы дух и глаза,
- по экранам ожившей материи
- тихо катится Божья слеза.
*
- Никто уже не пишет на века,
- посмертной вожделея
- долгой славы:
- язык меняет русло, как река,
- и чахнут оставляемые травы.
*
- Все стихи — графомания чистая,
- автор горькую выбрал судьбу,
- ибо муза его неказистая
- вдохновенна, как Ленин в гробу.
*
- Забаву не чтя как художество,
- я складывал мысли и буквы
- и вырастил дикое множество
- роскошной развесистой клюквы.
*
- Вся книга — на пороге идеала:
- сюжет, герои, дивная обложка;
- а в гуще мыслей — ложка бы стояла;
- однако же, стоять должна не ложка.
*
- Бывало — вылетишь в астрал,
- паришь в пространстве безвоздушном,
- а там в порыве простодушном
- уже коллега твой насрал.
*
- Я в чаще слов люблю скитаться,
- бредя без цели и дороги
- на тусклый свет ассоциаций
- под эхо смутных аналогий.
*
- Моя поэзия проста,
- но простоты душа и жаждала,
- я клею общие места
- с местами, личными у каждого.
*
- Забавно: стих когда отточен,
- пускай слегка потяжелев,
- то смыслом более он точен
- чем изначальное желе.
*
- Во мне игры духовной нет,
- но утешаюсь я зато,
- что все же, видимо, поэт,
- поскольку иначе — никто.
*
- Убедился уже я не раз —
- от пожизненной творческой прыти
- только брызги перевранных фраз
- остаются, как пена в корыте.
*
- Я шлю приятельской запиской
- тебе совет мой, а не лесть:
- с такой писательской пипиской
- не стоит к Музе в койку лезть.
*
- Поскольку вырос полным неучем,
- и нету склонности к труду,
- то мне писать, по сути, не о чем,
- и я у вечности краду.
*
- Наш мирок убог и тесен,
- мы по духу и по плоти
- много жиже наших песен,
- текстов наших и полотен.
*
- Я рою так неглубоко,
- что, если что-то обнаружу,
- мне замечательно легко
- добычу вытащить наружу.
*
- В моем интимном песнопении
- довольно част один рефрен:
- в объятья муз, где были гении,
- зачем ты лезешь, хилый хрен?
*
- Чесалась и сохла рука,
- но я модернистом не стал,
- пускай остается строка
- проста, как растущий кристалл.
*
- Я мучаюсь — никак я не пойму,
- куда меня ведут мечты и звуки;
- я лиру посвятил народу моему,
- народу наплевать на наши муки.
*
- Не жалуясь, не хныча и не сетуя,
- сбывая по дешевке интеллект,
- с бубенчиками
- шастаю по свету я,
- опознанный летающий субъект.
*
- Только потому ласкаю слово,
- тиская, лепя и теребя,
- что не знаю лучшего иного
- способа порадовать себя.
*
- Заметил я, что медленное чтение,
- подобное любовному касанию,
- рождает непонятное почтение
- к ничтожнейшему жизнеописанию.
*
- Главное — не в пользе и продаже,
- главное — в сохранности огня,
- мысли я записываю, даже
- если нету мыслей у меня.
*
- Нет, зубами я голодными не клацаю,
- потому что, от нужды меня храня,
- Бог наладил из России эмиграцию,
- чтобы слушатели были у меня.
*
- Читаю с пылом и размахом,
- зал рукоплещет и хохочет,
- а я томлюсь тоской и страхом:
- зубной протез мой рухнуть хочет.
*
- Подойди, поэтесса, поближе,
- я шепну тебе в нежное ухо:
- вдохновение плоти не ниже
- воспарений ума или духа.
*
- Моя мечта — на поговорки
- растечься влагой из бутылки,
- придурок сядет на пригорке
- и мой стишок прочтет дебилке.
*
- Я писал, как видел, и пардон,
- если я задел кого мотивом,
- только даже порванный гандон
- я именовал презервативом.
*
- Оды, гимны, панегирики,
- песнопенья с дифирамбами —
- вдохновенно пишут лирики,
- если есть торговля ямбами.
*
- Зря пузырится он так пенисто,
- журчит напрасно там и тут,
- на пальме подлинного первенства
- бананы славы не растут.
*
- Весь век я с упоением читал,
- мой разум до краев уже загружен,
- а собранный духовный капитал —
- прекрасен и настолько же не нужен.
*
- Цель темна у чтенья моего,
- с возрастом ничто не прояснилось,
- я читаю в поисках того,
- что пока никем не сочинилось.
*
- Из шуток, мыслей, книг и снов,
- из чуши, что несут,
- я подбираю крошки слов,
- замешивая в суп.
*
- Нет, я не бездарь, не простак,
- но близ талантов горемычных
- себя я стыдно вижу, как
- пивной сосуд меж ваз античных.
*
- Заметил я, что к некоему времени
- за творческие муки и отличия
- заслуживаем мы у Бога премии —
- удачу или манию величия.
*
- Дерзайте и множьтесь, педанты,
- культурным зачатые семенем,
- вы задним числом секунданты
- в дуэли таланта со временем.
*
- Сюда придет под памятник толпа
- сметливых почитателей проворных;
- к нему не зарастет народная тропа,
- пока неподалеку нет уборных.
*
- Давно была во мне готовность
- культуре духа наловчиться,
- а нынче мне с утра духовность
- из телевизора сочится.
*
- Хоть лестна слава бедному еврею,
- но горек упоения экстаз:
- я так неудержимо бронзовею,
- что звякаю, садясь на унитаз.
*
- На север и запад,
- на юг и восток,
- меняя лишь рейсов названия,
- мотаюсь по миру —
- осенний листок
- с российского древа познания.
*
- Блажен ведущий дневники,
- интимной жизни ахи-охи,
- ползет из-под его руки
- бесценная херня эпохи.
*
- Я не мог на провинцию злиться —
- дескать, я для столицы гожусь,
- ибо всюду считал, что столица —
- это место, где я нахожусь.
*
- Похожа на утехи рыболова
- игра моя, затеянная встарь,
- и музыкой прихваченное слово
- трепещет, как отловленный пескарь.
*
- Зря поэт с повадкой шустрой
- ищет быстрое признание,
- мир научен Заратустрой:
- не плати блядям заранее.
*
- Мне сочинить с утра стишок,
- с души сгоняя тень, —
- что в детстве сбегать на горшок —
- и светел новый день.
*
- Когда горжусь, как вышла строчка,
- или блаженствую ночами,
- в аду смолой исходит бочка,
- скрипя тугими обручами.
*
- Где жили поэты, и каждый писал
- гораздо, чем каждый другой, —
- я в этом квартале на угол поссал
- и больше туда ни ногой.
*
- У сытого, обутого, одетого
- является заноза, что несчастен,
- поскольку он хотел
- совсем не этого
- и должен быть искусству сопричастен.
*
- Был мой умишко недалек
- и не пылал высоким светом,
- однако некий уголек
- упрямо тлел в сосуде этом.
*
- Век меня хотя и сгорбил,
- и унял повадку резвую,
- лирой пафоса и скорби
- я с почтительностью брезгую.
*
- В радужных не плаваю видениях —
- я не с литераторской скамьи,
- ценное в моих произведениях —
- только прокормление семьи.
*
- Впадали дамы в упоение,
- и было жутко жаль порой,
- что я еблив гораздо менее,
- чем мой лирический герой.
*
- Приметой, у многих похожей
- (кивнув, я спешу удалиться), —
- недоданность милости Божьей
- с годами ложится на лица.
*
- Время всё стирает начисто,
- оставляя на листе
- только личное чудачество
- в ноте, слове и холсте.
*
- Полезности ничто не лишено,
- повсюду и на всем есть Божий луч,
- и ценного познания пшено
- клевал я из больших навозных куч.
*
- Мы пишем ради радости связать
- все виденное в жизненной игре;
- и пылкое желанье досказать
- на смертном даже теплится одре.
*
- Хотя поэт на ладан дышит,
- его натура так порочна,
- что он подругам письма пишет,
- их нежно трахая заочно.
*
- Будет камнем земля,
- будет пухом ли —
- все равно я на небо не вхож,
- а портрет мой,
- засиженный слухами, —
- он уже на меня не похож.
*
- Все было в нем весьма обыкновенное,
- но что-нибудь нас вечно выдает:
- лицо имел такое вдохновенное,
- что ясно было — полный идиот.
*
- В организме какие-то сдвиги
- изменяют душевный настрой,
- и мои погрустневшие книги
- пахнут прелой осенней листвой.
*
- Мечта сбылась: мои тома,
- где я воспел закалку стали,
- у всех украсили дома,
- и все читать их перестали.
*
- Я в тексты скрылся, впал и влез,
- и строчки вьются, как тесьма,
- но если жизнь моя — процесс,
- то затухающий весьма.
*
- Смешно подведенье итога,
- я был и остался никто,
- но солнечных зайчиков много
- успел наловить я зато.
*
- Господь вот-вот меня погасит,
- зовя к ответу,
- и понесусь я на Пегасе
- с Парнаса в Лету.
Евреев большинство еще и ныне
блуждает, наслаждаясь, по пустыне
- В пыльных рукописьменных просторах
- где-то есть хоть лист из манускрипта
- с текстом о еврейских бурных спорах,
- как им обустроить жизнь Египта.
*
- Евреев выведя из рабства,
- Творец покончил с чудесами,
- и путь из пошлого похабства
- искать мы вынуждены сами.
*
- Да, искрометностью ума
- по праву славен мой народ,
- но и по мерзости дерьма
- мы всем дадим очко вперед.
*
- С банальной быстротечностью
- хотя мы все умрем,
- еврейство слиплось с вечностью,
- как муха — с янтарем.
*
- Что ты мечешься, Циля, без толку,
- позабыв о шитье и о штопке?
- Если ты потеряла иголку,
- посмотри у себя ее в попке.
*
- Мы вовсе не стали похожи,
- но век нас узлом завязал,
- и с толком еврей только может
- устроить славянский базар.
*
- Ход судьбы — как запись нотная,
- исполнитель — весь народ;
- Божья избранность — не льготная,
- а совсем наоборот.
*
- Нас мелочь каждая тревожит,
- и мы не зря в покой не верим:
- еврею мир простить не может
- того, что делал он с евреем.
*
- Без угрызений и стыда
- не по-еврейски я живу:
- моя любимая еда
- при жизни хрюкала в хлеву.
*
- Евреи не только
- на скрипках артисты
- и гости чужих огородов,
- они еще всюду лихие дантисты —
- зуб мудрости рвут у народов.
*
- Еврей тоскует не о прозе
- болот с унылыми осинами,
- еврей мечтает о березе,
- несущей ветки с апельсинами.
*
- Россию иностранцы не купили,
- и сыщутся охотники едва ли,
- Россию не продали, а пропили,
- а выпивку — евреи наливали.
*
- То ветра пронзительный вой,
- то бури косматая грива,
- и вечно трепещет листвой
- речная плакучая Рива.
*
- Гордыня во мне иудейская
- пылает, накал не снижая:
- мне мерзость любая еврейская
- мерзей, чем любая чужая.
*
- В заоблачные веря эмпиреи
- подобно легкомысленным поэтам,
- никто так не умеет, как евреи,
- себе испортить век на свете этом.
*
- Одна загадка в нас таится,
- душевной тьмой вокруг облита,
- в ней зыбко стелется граница
- еврея и антисемита.
*
- Во всякой порче кто-то грешен,
- за этим нужен глаз да глаз,
- и где один еврей замешан —
- уже большой избыток нас.
*
- Чему так рад седой еврей
- в его преклонные года?
- Старик заметно стал бодрей,
- узнав про Вечного жида.
*
- В узоре ткущихся событий
- не все предвидеть нам дано:
- в руках евреев столько нитей,
- что нити спутались давно.
*
- В евреях действительно
- много того,
- что в нас осуждается дружно:
- евреям не нужно почти ничего,
- а все остальное им нужно.
*
- Если бабы с евреями
- ночи и дни
- дружно делят заботы и ложе,
- столько выпили
- крови еврейской они,
- что еврейками сделались тоже.
*
- Евреи в беседах пространных —
- коктейлях из мифа и были —
- повсюду тоскуют о странах,
- в которых рабы они были.
*
- Сосновой елью пахнет липа
- в семи воскресных днях недели,
- погиб от рака вирус гриппа,
- евреи в космос улетели.
*
- Для всей планеты мой народ —
- большое Божье наказание;
- не будь меж нас такой разброд —
- весь мир бы сделал обрезание.
*
- В евреях оттуда, в евреях отсюда —
- весьма велики расхождения,
- еврей вырастает по форме сосуда,
- в который попал от рождения.
*
- Спешите знать: с несчастной Ханной
- случился казус непростой
- (она упала бездыханной),
- и Зяма снова холостой.
*
- Евреи не витают в эмпиреях,
- наш ум по преимуществу — земной,
- а мир земной нуждается в евреях,
- но жаждет их отправить в мир иной.
*
- Обилен опыт мой житейский,
- я не нуждался в этом опыте,
- но мой характер иудейский
- толкал меня во что ни попадя.
*
- Еврейское счастье превратно,
- и горек желудочный сок,
- судьба из нас тянет обратно
- проглоченный фарта кусок.
*
- Родился сразу я уродом,
- достойным адского котла:
- Христа распял, Россию продал
- (сперва споив ее дотла).
*
- Выбрав голые фасоны,
- чтоб укрыться в неглиже,
- днем сидят жидомасоны
- в буквах М и в буквах Ж.
*
- Повсюду пребывание мое
- печалит окружающий народ:
- евреи на дыхание свое
- расходуют народный кислород.
*
- Еврей живет на белом свете
- в предназначении высоком:
- я корни зла по всей планете
- пою своим отравным соком.
*
- Пока торговля не в упадке,
- еврей не думает о Боге,
- Ему на всякий случай взятки
- платя в районной синагоге.
*
- В еврейской жизни театральность
- живет как духа естество,
- и даже черную реальность
- упрямо красит шутовство.
*
- Среди еретиков и бунтарей —
- в науке, философии, искусстве —
- повсюду непременно част еврей,
- упрямо прозябавший в безрассудстве.
*
- Большая для мысли потеха,
- забавная это удача,
- что муза еврейского смеха —
- утешница русского плача.
*
- С тех пор, как Бог небесной манной
- кормил народ заблудший наш,
- за нами вьется шлейф туманный
- не столько мифов, как параш.
*
- Забавно, что, слабея и скудея,
- заметно остывая день за днем,
- в себе я ощущаю иудея
- острее, чем пылал когда огнем.
*
- Всегда евреям разума хватало,
- не дергаясь для проигрышной битвы,
- журчанием презренного металла
- купить себе свободу для молитвы.
*
- Вспоминая о времени прожитом,
- я мотаю замшелую нить,
- и уже непонятно мне, что же там
- помешало мне сгинуть и сгнить.
*
- — Как чуден вид Альпийских гор! —
- сказал Василию Егор.
- — А мне, — сказал ему Василий, —
- милее рытвины России.
*
- Я с покорством тянул мой возок
- по ухабам той рабской страны,
- но в российский тюремный глазок
- не с постыдной смотрел стороны.
*
- Россия уже многократно
- меняла, ища, где вольготней,
- тюрьму на бардак и обратно,
- однако обратно — охотней.
*
- Подлая газета душу вспенила,
- комкая покоя благодать;
- Господи, мне так остоебенело
- бедствиям российским сострадать!
*
- В России сегодня большая беда,
- понятная взрослым и чадам:
- Россия трезвеет, а это всегда
- чревато угаром и чадом.
*
- В России знанием и опытом
- делились мы простейшим способом:
- от полуслова полушепотом
- гуляка делался философом.
*
- Прошлых песен у нас не отнять,
- в нас пожизненна русская нота:
- я ликую, узнав, что опять
- объебли россияне кого-то.
*
- Мы у Бога всякое просили,
- многое услышалось, наверно,
- только про свободу для России
- что-то изложили мы неверно.
*
- Весной в России жить обидно,
- весна стервозна и капризна,
- сошли снега, и стало видно,
- как жутко засрана отчизна.
*
- А Русь жила всегда в узде,
- отсюда в нас и хмель угарный:
- еще при Золотой Орде
- там был режим татаритарный.
*
- Видно, век беспощадно таков,
- полон бед и печалей лихих:
- у России — утечка мозгов,
- у меня — усыхание их.
*
- Уже былой России нет
- (хоть нет и будущей покуда),
- но неизменен ход планет,
- и так же любит нас Иуда.
*
- Две породы лиц
- в российском месиве
- славятся своей результативностью:
- русское гавно берет агрессией,
- а гавно еврейское — активностью.
*
- Когда Российская держава,
- во зле погрязшая по крыши,
- на лжи и страхе нас держала,
- у жизни градус был повыше.
*
- Клюя рассеянное крошево,
- свою оглядывая младость,
- я вижу столько там хорошего,
- что мне и пакостное в радость.
*
- Дух воли, мысли и движения
- по русской плавает отчизне,
- а гнусный запах разложения
- везде сменился вонью жизни.
*
- Среди российских духа инвалидов,
- хмельных от послабления узды,
- я сильно опасаюсь индивидов,
- которым все на свете — до звезды.
*
- Худшие из наших испытаний
- вырастились нашими же предками:
- пиршество иллюзий и мечтаний
- кончилось реальными объедками.
*
- Забавно, что в бурные дни
- любую теснят сволоту
- рожденные ползать — они
- хватают и рвут на лету.
*
- Не чувствую ни света, ни добра
- я в воздухе мятущейся России,
- она как будто черная дыра
- любых душевно-умственных усилий.
*
- Я вырос в романтическом настрое,
- и свято возле сердца у меня
- стоят папье-машовые герои
- у вечного бенгальского огня.
*
- Увы, в стране, где все равны,
- но для отбора фильтров нет,
- сочатся суки и гавны
- во всякий властный кабинет.
*
- При папах выросшие дети
- в конце палаческой утопии
- за пап нисколько не в ответе,
- хотя отцов — живые копии.
*
- Всегда бурлил, кипел и пенился
- народный дух, и, мстя беде,
- он имя фаллоса и пениса
- чертил воинственно везде.
*
- Понятие фарта, успеха, удачи
- постичь не всегда удается:
- везде неудачник тоскует и плачет,
- в России — поет и смеется.
*
- Свобода обернулась мутной гнусью,
- все стало обнаженней и острей,
- а если пахнет некто светлой Русью,
- то это — засидевшийся еврей.
*
- На всех осталась прошлого печать,
- а те, кто были важными людьми,
- стараются обычно умолчать,
- что, в сущности, работали блядьми.
*
- Свободу призывал когда-то каждый,
- и были мы услышаны богами,
- и лед российский тронулся однажды,
- но треснул он — под нашими ногами.
*
- Присущий и воле,
- и лагерным зонам,
- тот воздух, которым в России дышали,
- еще и сейчас овевает озоном
- извилины шалых моих полушарий.
*
- Чего-нибудь монументального
- все время хочется в России,
- но непременно моментального
- и без особенных усилий.
*
- Все так сейчас разбито и расколото,
- оставшееся так готово треснуть,
- что время торжества серпа и молота —
- стирается, чтоб заново воскреснуть.
*
- Тягостны в России передряги,
- мертвые узлы повсюду вяжутся;
- лишь бы не пришли туда варяги —
- тоже ведь евреями окажутся.
*
- Воздух еще будет повсеместно
- свеж, полезен жизни и лучист,
- ибо у России, как известно,
- время — самый лучший гавночист.
*
- Россия свободе не рада,
- в ней хаос и распря народов,
- но спячка гнилого распада
- сменилась конвульсией родов.
*
- Хоть густа забвения трава,
- только есть печали не избытые:
- умерли прекрасные слова,
- подлым словоблудием убитые.
*
- А прикоснувшись к низкой истине,
- что жили в мерзости падения,
- себя самих мы вмиг очистили
- путем совместного галдения.
*
- Всюду больше стало света,
- тени страшные усопли,
- и юнцы смеются вслед нам,
- утирая с носа сопли.
*
- Как витаминны были споры
- в кухонных нищих кулуарах!
- Мы вспоминали эти норы
- потом и в залах, и на нарах.
*
- Мы свиристели, куролесили,
- но не виляли задним местом,
- и потому в российском месиве —
- дрожжами были, а не тестом.
*
- Кто полон сил и необуздан,
- кто всю страну зажег бы страстью —
- в России мигом был бы узнан,
- однако нет его, по счастью.
*
- Настежь раскрыта российская дверь,
- можно детей увезти,
- русские кладбища тоже теперь
- стали повсюду расти.
*
- Хотя за годы одичания
- смогли язык мы уберечь,
- но эхо нашего молчания
- нам до сих пор калечит речь.
*
- Народ бормочет и поет,
- но пьяный взгляд его — пронзителен:
- вон тот еврей почти не пьет,
- чем безусловно подозрителен.
*
- Берутся ложь, подлог и фальшь,
- и на огне высокой цели
- коптится нежный сочный фарш,
- который мы полжизни ели.
*
- Мы крепко власти не потрафили
- в года, когда мели метели,
- за что российской географии
- хлебнули больше, чем хотели.
*
- Народного горя печальники
- надрывно про это кричали,
- теперь они вышли в начальники,
- и стало в них меньше печали.
*
- Мне до сих пор
- загадочно и дивно,
- что, чуждое Платонам и Конфуциям,
- еврейское сознание наивно —
- отсюда наша тяга к революциям.
*
- Мы поняли сравнительно давно,
- однако же не раньше, чем воткнулись:
- царь вырубил в Европу лишь окно,
- и, выпрыгнув, мы крепко наебнулись.
*
- Я брожу по пространству и времени,
- и забавно мне, книги листая,
- что спасенье от нашего семени —
- лишь мечта и надежда пустая.
*
- Судьба нас дергает, как репку,
- а случай жалостлив, как Брут;
- в России смерть носила кепку,
- а здесь на ней чалма внакрут.
*
- Тут вечности запах томительный,
- и свежие фрукты дешевые,
- а климат у нас — изумительный,
- и только соседи хуевые.
*
- Забавно здесь под волчьим взглядом
- повсюдной жизни колыхание,
- а гибель молча ходит рядом,
- и слышно мне ее дыхание.
*
- Ничуть былое не тая,
- но верен духу парадокса,
- любить Россию буду я
- вплоть до дыхания Чейн-Стокса.
*
- Придет хана на мягких лапах,
- закончу я свой путь земной,
- и комиссары в черных шляпах
- склонятся молча надо мной.
Людям удивительно и завидно,
что живу я глупо и неправедно
Читать бесплатно другие книги:
Роман «Пироги и пиво, или Скелет в шкафу» – это история жизни знаменитого английского писателя Эдуар...
Зачем понадобилось знаменитому московскому артисту Власову обращаться за помощью к Елене – частному ...
В данное издание включены работы известного философа двадцатого столетия Карла Ясперса и выдающегося...
Имя выдающегося мыслителя, математика, общественного деятеля Игоря Ростиславовича Шафаревича не нужд...
М7 – бывший Владимирский тракт, по которому гнали каторжан, Горьковское шоссе, трасса Москва-Волга, ...
Если хотите вернуть и сохранить здоровье, немедленно снимайте очки и начинайте восстанавливать зрени...