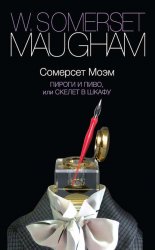Гарики предпоследние. Штрихи к портрету (сборник) Губерман Игорь
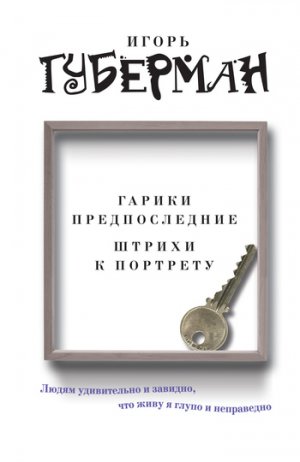
Старик вдруг негромко засмеялся. Рубин поднял голову и тут же снова опустил ее, словно подсмотрел нечто неприличное. Лицо старика оставалось застывшим, только клокочущие звуки вырывались из горла, это было малосимпатичное зрелище. А старик, оказывается, вспомнил байку, некогда уже слышанную Рубиным.
— Где-то в Азербайджане, мне рассказывали, взяли и пытали какого-то начальника, чтобы выдал соучастников своего заговора. Тот оказался сметливым и начитанным человеком: сказал, что его завербовали трое москвичей — Дюма, Бальзак и Мопассан. Следователь местный с гордостью послал признание в столицу и ждал повышения. А оттуда срочная депеша по начальству: отпустите сумасшедшего и увольте идиота.
Рубин засмеялся вежливо и сделал вид, что записал, хотя запись была о жутковатом впечатлении от горлового клокочущего смеха при лице-маске. Начинающий беллетрист, он дорожил деталями бытия, усердно веря в их художественную ценность.
Старик размеренно и диктующе продолжал:
— Удивительный был человек Шор. Моисей, а отчество не помню. Он в сорок первом появился. Сильно за шестьдесят, мне древним старцем он тогда казался. Маленький, щуплый, мужественный необыкновенно. От ума. И оптимист от того же. Знаете, есть ведь гормональные оптимисты, уж такая биохимия у них счастливая, а есть — от мудрости. Вот он такой был. Главный раввин Варшавской синагоги. Занесла его нелегкая во Львов, когда Сталин с Гитлером земли делили, что кому заглатывать. Сенатор Польского сейма. Профессор древней истории. И еще кто-то, уже не помню. В нем столько жизни было! Простой, общительный, спокойный. Учености фантастической. Каждый день молился, но аккуратно как-то, личное дело свое делал душевно, без демонстрации. Очень мне это нравилось. А то я много верующих встречал, они с надрывом часто к Богу обращались, с показухой — то ли к нему, то ли привлекая публику в свидетели, что молятся с должным рвением. Множество языков он знал — и древних, и современных. Оцените, кстати, уровень нашей камеры: на классическом немецком он читал нам лекции про археологические раскопки в древней Палестине — что они дают для понимания Библии, и его чуть ли не половина камеры отлично понимала. Он воспалялся весь, о Библии разговаривая. А свиную колбасу охотно ел. У него своих не было передач, ни родных в Москве, ни близких, ни знакомых. Он мне объяснил, что когда еврей в смертельной беде, то от запретов наступает разрешение или послабление ритуальное. И послабление это строго соответствует размерам беды, сам должен по совести решать. И что даже худший грех — просить притом прощения у Бога, ибо не следует его обижать неверием в его всевидение и милосердие. Очень я тогда бесстрашию жизненному у Шора научился и благодарности за любое существование. Вы понимаете, надеюсь?
Рубин кивнул, не отрываясь. Старик размеренно продолжал:
— Еще поляк один был. Высокий, худой, костистый. Тоже сильно пожилой. Не сгибалась правая нога у него, как-то я спросил о причине. Он так просто и приветливо мне ответил: в колене у меня, сынок, застряла пуля вашего Буденного. Князь Евстафий Сапега, первый министр Польши после войны. Философ, шутник, аристократ. Мало говорил, но только с шуткой и всегда по сути. Юмор, правда, висельный, но нам тогда как раз годился. Отчего-то висельный в такой обстановке сильней поддерживает. Очень тоже был спокойный и твердый. Эдакое мужество обреченности.
Рубин взмолился об отдыхе, выразительно помахав пальцами. Старик прищурился и чуть кивнул.
— А Блока нам читал изумительный актер из Художественного театра, — мечтательно сказал он. — Какое это было чтение! Блока я стихи только знал, а полюбил и почувствовал — в Бутырках. Знаете, если сосчитать, сколько людей к поэзии и знаниям приохотились в тюрьмах и лагерях, то на многие университеты хватило бы. Только погибали они потом, вот что. А еще одна троица была, тоже не без творческой жизни, я их уже не помню по именам. Современная очень идея им в голову пришла. В Москву много всяких тогда гостей приезжало. Летчики, полярники, стахановцы, выдвиженцы — помните, наверно, это время? Впрочем, что же я мелю, простите, вы ведь сопляк юный. Много было шума вокруг них. Бенгальского, разумеется, но понимаешь только задним числом. И эта троица решила: награды — наградами, почет — почетом, но и женщинами их надо обслужить. И устроили подпольный публичный дом. Где-то в старой квартире на Покровке. С творческой выдумкой, заметьте: девиц спускали с антресолей на качелях, и цветы при этом сверху сыпались. Шампанское, разумеется, в ассортименте. Полный провинциальный размах. Так они себе роскошную жизнь представляли. Девиц вербовали где-то в училище или институте, там они, по-моему, и работали, эти умельцы. От клиентов отбоя не было. А под утро всех гостей обирали дочиста. Только паспорт и партбилет оставляли. И все молчали, разумеется. Пока кто-то спросонья не выпрыгнул утром из окна. Тогда их и накрыли всех. Что, отдохнули? — И старик переменил тон: — Очень было много искалеченных на допросах. А у одного на спине между лопаток от самой шеи и почти до копчика полоса шла неширокая, коричневая, клином чуть сужаясь. Знаете, на что похожая? На сморщенную выделанную кожу — переплеты старинных книг напоминала. Это ему следователь сделал. Каждые полчаса приносил чайник крутого кипятка, слегка заправленный чаем, и лил за шиворот, чтоб он признание подписал. А в чае ведь дубильные вещества имеются — как раз для разделки кожи, я уж о кипятке не говорю.
Рубин вскинул голову, чтобы сказать что-нибудь, но старик немигающим и невидящим взглядом смотрел на руку и тетрадь. Он ведь, собственно, и не мне это рассказывает, подумал Рубин. Куда я все это дену? Теперь ведь обязательно куда-то надо деть.
— И еще один был. Гарбер, кажется. Нет, Фарбер. Это легко восстановить. Он был один из первых кавалеристов, славу Конармии составивших, орден Красного Знамени тогда за так не давали. Вот он, возможно, вашего Бруни знал. Потому что он после Гражданской войны служил начальником в какой-то авиаконторе. У него было навязчивое действие, он непрерывно себе лицо раздирал — будто выщипывал невидимые волосы. С кожей, в кровь. Щеки у него и скулы были — сплошные раны кровавые, страшно смотреть, уж на что мы привыкли ко всему. Это после следствия такое у него началось. Ему изо дня в день несколько человек, сменяясь, часами в лицо плевали. Крича при этом: сознавайся, жидовская морда, за сколько ты Россию продал? Вот он с тех пор себе лицо и раздирал.
А один был нелюдимый, очень замкнутый. Однажды словом перекинулись по случаю. Он астрономом оказался, но не это важно. Главное, что был он председателем большой масонской ложи. Вот они как гениально поступили: объявили великое молчание и уход в анабиоз. До лучших, так сказать, времен. И не распустились, заметьте, не распались, а в молчание все вместе ушли. Что-то в этом есть величественное, согласитесь. Гастев была его фамилия. Был еще поэт такой известный тогда. Из романтиков, энтузиастов, подвижников. Он еще раньше был расстрелян. Или наш не Гастев был? Астров, может быть?
Страшно напряглись, словно выламываясь в негнущуюся сторону, толстые пальцы неподвижной руки. И, медленно расслабляясь, опять легли на одеяло.
— Больше не могу рассказывать, Илья Аронович. Я правильно вас величаю? Извините, но самое худшее, чего я так боялся… Я забыл. И все тогда теряет смысл. И в том числе я сам. Как я упустил это время, когда начал забывать фамилии?
Рубин поднял голову. Растерянно и недоуменно смотрели на него маленькие мутные глаза. Острую жалость и сочувствие ощутив, Рубин сказал:
— Если не устали еще, Владимир Михайлович, расскажите о себе немного.
Старик выпятил толстую нижнюю губу, задумавшись, взгляд его уплыл куда-то, пальцы на одеяле распластались и напряглись. Он начал медленно и словно нехотя, но сразу увлекся.
— Благополучная семья, интерес к математике, университет, ранняя любовь к загулу и к игре. Картежный долг повис однажды крупный, решили с другом нэпмана одного пощипать. В Москве он на Остоженке платьем торговал.
А у него в тот вечер в гостях районная милиция пьянствовала. Хорошо, хоть не пристрелили на месте. Три года дали. Очень справедливо, хочу заметить, и весьма гуманно. По сегодняшним временам — великодушно и милостиво, ибо одного служивого мы крепко помяли, а он в форме был, нынче бы втрое дали. Вот отсюда и Бутырка. Лучше я о ней вам расскажу. В двадцатых это рай был, а не тюрьма. — Старик мечтательно закрыл глаза, и лицо его снова чуть одрябло в подобии сентиментальной улыбки. — Я бы этот период назвал наивным и романтическим. Нет, я о расстрелах в те годы знаю. Но система еще была патриархальной. Достаточно сказать, что на выходные некоторых домой отпускали — до утра понедельника. Камеры утром открывались, и общение — свободное. По коридору гуляли, как по бульвару. Снова запирали только на ночь. А библиотека какая! Кстати, на многих книгах был экслибрис «Вацлав Боровский» — видно, всю его библиотеку тюрьме отдали, когда его в Лозанне пришили. Замочили беднягу на глушняк.
— У вас блатная музыка в разговоре прорывается, — вставил Рубин, чтобы показать, что понимает.
— Я когда-то с легкостью по фене ботал, — хвастливо подтвердил старик. — От молодого любопытства. Кстати, Шор мне интересно объяснил: оказывается, много слов на уголовной фене из еврейского языка заимствовано. Вы иврит или идиш не знаете?
— Нет, к сожалению, — ответил Рубин. — Хотела бабушка когда-то научить, а я ленился. Очень теперь жалею.
— Да, вы здесь крепко обрусели, — подтвердил старик. — Я даже помню обрывки этимологии. Мы вот все говорим — мусор, мусора — на милицию, а ведь это не от презрения, это от слова «мусер» — сообщающий то есть, на идише или на иврите.
— А еще? — Рубину впервые довелось об этом слышать.
— Ну! — старик еле уловимо улыбнулся-ощерился, и лицо его порозовело. — Хавира, шмон, хевра, ксива, хипеж, фраер. Да их десятки, не упомню сразу. Очень вы блатной язык обогатили.
— Забавно, — протянул Рубин. — При таком духовном вкладе странно, что евреев до сих пор с ростом преступности не увязали.
— Еще увяжут, — бодро сказал старик, и оба помолчали секунду, с пониманием глядя друг на друга.
Старик прервал молчание первым.
— А я теперь вернусь в Бутырку, не пожалеете. Башни бутырские как сейчас помню. Пугачевская, Полицейская, Северная и Часовая. Прогулка каждый день была два часа. Летом вообще — вы не поверите — многие вытаскивали одеяла и загорали во дворе в эти часы.
— Оглянись на свою молодость — как она похорошела, — усмешливо вставил Рубин чью-то припомнившуюся шутку.
— Не спорю, — откликнулся старик. — Но мы все там усердно работали. Между прочим, одно это я считаю огромным плюсом. И не из-под палки, а за сдельную плату. Сначала одна прачечная была. Туда гостиницы, санатории, больницы, дома отдыха белье привозили. После швейная мастерская открылась. Там ведь, кстати, фабрика «Москвошвей» прямо за стеной располагалась. Даже дверь туда была, но при мне уже заложенная.
— «Я человек эпохи „Москвошвея“», — вспомнил Рубин строчку из Мандельштама, удивленно ощутив, что от нового знания она новое звучание обрела. Собеседник запальчиво ответил:
— А что вы думаете? Мы красили там трикотаж и шили майки и трусы. Это именно в них комсомольцы тех лет шли на митинги и демонстрации.
— Потрясающе, — искренне выдохнул Рубин.
— Знаменательно, во всяком случае, — с удовольствием подтвердил старик.
— Простите меня, Владимир Михайлович, — быстро пробормотал Рубин. — Не могу вам не прочесть одно четверостишие. Совпадение дьявольское. Можно?
И торопливо прочитал: «В первый тот субботник, что давно датой стал во всех календарях, бережно Ильич таскал бревно, спиленное в первых лагерях».
— Смешно, — без улыбки сказал старик. — Ваше?
— Приятеля одного, — уклонился Рубин.
— Значит, ваше. Что же, оно ведь так и было. Могло, во всяком случае, быть. А сапожная мастерская? Она отменную обувь выпускала. Где-то на Тверской-Ямской был наш обувной магазин. Фирменный, как по-нынешнему сказать.
Там на подошве штамп стоял — Бутюр. Просто не задумывались, покупая. Думали — иностранная работа. Очень ценилась эта обувь. А столярка наша какую мебель делала! Для клубов, для домов культуры, для контор.
Тут Рубин захохотал, не выдержав. Старик недоуменно замолчал.
— Извините, просто живо я вообразил сцену партийной чистки где-нибудь в клубе. Они все в ваших костюмах, в исподнем белье тюремного пошива и в ваших башмаках — на стульях вашего производства. А президиум сидит — за столом из Бутырок. На стене портреты висят…
— Художников полно у нас было, — поддержал старик.
— И сидят они, друг друга из партии вычищая, готовя новые кадры вашему производству, — поторопился Рубин завершить картину.
— Так ведь и это еще не всё, — продолжал старик, и пальцы его на одеяле проиграли что-то плавное и гармоничное. — Булочная своя у нас была. На углу теперешней Новослободской, наискосок как раз от нашей тюрьмы. И кондитерское у нас обильно пекли, знатоки-любители туда ездили специально. Пекли в бывшей синагоге для арестантов-евреев. А вот что было в бывшей православной церкви, уже не помню. Кажется, пустой она стояла. В ее притворе протодьякон Лебедев свои метлы и скребки хранил, он был дворником, когда сидел. Кто-то мне рассказывал по секрету, что он всякий раз, когда не было начальства, в церковь быстро заскакивал и большевикам с амвона анафему возглашал.
Рубин писал со скоростью, какой не знала ранее его рука. Старик ушел в воспоминания целиком и говорил, уже о записи не заботясь.
— Духовенства сидело очень много. Тогда ведь только что это бандитское изъятие прошло, когда у церкви ее ценности отобрали, веками скопленные. Ильича благословенная идея. С понтом — для помощи голодающим Поволжья. Вот у сидевших иерархов церкви было часто обвинение: за противодействие изъятию. Чтоб неповадно было. Очень, правда, быстро их на Соловки поотправляли. Мы ведь тогда не знали, что на смерть.
— Еще припомните, — попросил Рубин, — что-нибудь про ваш тюремный коммунизм.
— Трудовую армию скорее, — строго поправил его старик. — Коммунизм намного тяжелей. Уже той хотя бы малостью, что у нас не было ни единого стукача, и говорили обо всем на свете, и было с кем поговорить. Завхозом этого всего хозяйства был фантастической энергии еврей Модров. Уже не молодой, старик скорее. Это он отладил все и организовал, а на дворе, где начальство обреталось, еще устроил закуток для свиней — их отходами от нашей пищи кормили, были в те года еще отходы от еды арестантской. А вы говорите — коммунизм. И, естественно, колбасу производили. Ветчину и окорока. Слушаю сейчас себя и сам не верю. Баснословная какая-то эпоха. Сидел бы и сидел. Но на волю, между прочим, хотелось до обморочного кружения в голове. Особенно после шахмат почему-то. Много я там играл с одним. Коробовский Сережа. Музыкант он был, его Рахманинов хвалил когда-то. Шахматист тоже высокого класса. Уж не знаю, как и где он жизнь закончил. Но до старости навряд ли дожил — больно светлая была голова и норов крутой и яркий. Такие не уцелевали.
— О себе расскажите дальше, — попросил Рубин, боясь, что скоро усталость прервет их разговор.
И сразу же увидел исподлобья, как напряглись и выгнулись пальцы на одеяле.
— Да, пора теперь и обо мне, — сказал старик. — На воле кинулся я сломя голову по военной стезе. Как учился, как карьеру ломил, как унизительно в свои просачивался — гнусь эту не стану излагать. Только скажу, что пошел я в гору очень шибко в конце тридцатых, поскольку много мест освободилось, военных тысячами крошили. А я взбирался и взбирался. Правду сказать, работал я по-настоящему. И для души спасительно мне это было, потому что и на пользу дела, и от разных мыслей отвлекает. И войной частично оправдался мой тогдашний трудовой запал. А послевоенный мне покрыть уж нечем. Но до этого дойдем.
— А страшно не было? — спросил Рубин, отрываясь от тетради. — Когда вокруг сотрудники исчезали или просто знакомые?
Старик в упор посмотрел на него невидящими мутными глазами.
— Один раз так было страшно, что картину эту помню до сих пор, — медленно и тягуче сказал он.
В очень тихом месте стало страшно. На Сретенке. Там был уникальный магазин открыт в тридцатые годы. Во всемирном, думаю, масштабе уникальный. Магазин случайных вещей. Торговал конфискованным имуществом. Сразу при входе жуткое было скопление мебели.
Старик шумно и глубоко вздохнул и продолжал, словно идя по магазину:
— Диваны были, кресла, кровати, стулья. На них — резьба, позолота, парча, кожа. Секретеры, шкафы, буфеты. Часы напольные, настенные, каминные. В бронзе, в малахите, в дереве. Картины в музейных рамах витых. Люстры, сервизы, вазы. Ковров невообразимо много разных. Шали какие-то цветастые, халаты, платья. Скатерти, накидки, покрывала. Кожанок всяких очень много. Бекеши, френчи, кители всех родов войск с оторванными петлицами и ромбами. Следы были видны на каждом. Галифе всякие, брюки, клеши. Сапоги. Яловые, шевровые, хромовые. Не солдатская кирза, а командирская обувка. Всякое белье, даже детское. Все, что душе угодно. Все, что вчера еще носили. Едва остывшее. А трубок курительных! И объявление аккуратное: новый товар в начале каждой недели. Вот объявление меня и доконало. Не соображал, как вышел, опомнился где-то на Садовой. Бежал, похоже. Только вот что прошу отметить непременно: я от пережитого страха стал еще усердней работать. Вроде как в запой, словно в побег ударился — чтоб и не помнить, и не думать.
А еще вроде заручка от судьбы, отмазка и оправдание: меня, мол, не за что, я вон какой насквозь прозрачный и старательный. Даже и не помню эти годы. В себя пришел, когда арестовали.
Рубин поднял голову: взгляд старика был мягок и добродушен, даже немного посмеивались маленькие посветлевшие глаза.
— Обвинение мне стали шить, будто я на отдыхе в Сочи в октябре тридцать пятого получил от Блюхера секретный пакет и его тайно переправил для Тухачевского. Я до таких высот никогда не поднимался, разве что пару раз таких начальников видел издалека. Крутили меня крепко. Из тюрьмы в тюрьму переводили для чего-то. И в Лефортове я побывал тогда, и в подвале под Курским вокзалом, где нас набито было много сотен. Это мне потом, правда, рассказывали, где я был, потому что подвал — он подвал и есть, я лично поездов не слышал. Тут меня сын и спас. Вернее, призрак сына.
Рубин встревоженно поднял голову. Глаза старика также спокойно и усмешливо, вполне здраво смотрели на него.
— Галлюцинация была у меня странная. Видел сына, как вас сейчас. А он уже подросток был, я после первой тюрьмы женился сразу. Вот он под утро как-то и спустился ко мне в подвал по лестнице, по которой нам еду носили. И все обыденно так, привычно: люк открылся, свет, потом закрылся, а на лестнице сын стоит. Сердце у меня чуть не оборвалось: неужели забрали парня? А он меня в толпе глазами отыскал и ясно говорит родным голосом: зачем же, папа, ты им не сказал, что ты тогда не в Сочи был, а на опытном полигоне под Ашхабадом, а на юге были только мы с мамой, и твоя путевка пропала. Тут я спохватился, что ведь так оно и было — не успел я к ним тогда, хотя путевку взял. А сын спокойно повернулся и ушел. Ночью это было, но никто не спал, на полу у нас вода стояла. Да еще и шевельнуться было трудно, так нас тесно туда набили. Никто, кроме меня, сына не видел. И еще одна деталь запомнилась: он как будто высвечен был на этой лестнице невидимым светом — знаете, как в театрах это делают? Как я до утра с ума не сошел? Утром попросился к следователю. К вечеру повезли. Вхожу к нему и говорю: здравствуйте, товарищ следователь. Он мне в ответ: не товарищ ты мне, а сволочь предательская. Я говорю — нет, товарищ. Идиот я был, ну что с меня взять. Не лучше всех других, одно утешение. Следователя фамилия Федоскин. Между прочим, слесарь из Ярославля. Всё он ругал меня: из-за вас, мерзавцев, пришлось работу оставить привычную, с дерьмом возиться, а не с благородным железом. Тоже идиотом еще был но там, наверно, быстро в понятие входили. Да. Посмотрите, говорю, у вас на столе моя военная книжка в деле лежит, запись там должна быть, где я был в тот месяц, потому что благодарность от командования тогда получил, так что я никак не мог при всем желании быть курьером у врагов народа. Он посмотрел, челюсть отвисла, позвонил кому-то. Пришел в штатском, молодой совсем, тоже посмотрел и следователю говорит: ну ты и мудила! И ко мне: идите, разберемся, вызовем. Я так понял, что на свободу, нет — конвоиры снова, квитанция какая-то, и я в Бутырках. Месяца три ждал, вызвали, дали прямо в коридоре клочок папиросной бумаги: восемь лет как социально опасный. Тут я и понял всё. Впрочем, еще не всё, по будущему опыту судя. Еще несколько месяцев этапа ждал. О войне я в камере узнал. Заявлений написал несчетно, на фронт просился. Кровью искупить вину. Какую? Тут этап. Как-то мне ясно стало, что выбор невелик: смерть или в животное превратиться. То есть тоже ненадолго смерть отсрочив. Я из этих двух вариантов выбрал третий. И бежал.
— С этапа? — изумился Рубин.
— С этапа? — переспросил старик презрительно. — В конце последнего вагона в эшелоне арестантском, чтоб вы знали, были стальные грабли приделаны, вы такое в кинофильмах о фашистах могли видеть. Зубья эти тело захватывали, в бесформенное мясо обращали. Нет, я из лагеря бежал. Из-под Канска — слышали о таком?
Размеренная речь, грузная неподвижность старика, его в упор смотрящие глаза — все это ввело Рубина в странное гипнотическое состояние: тихо падающие слова завораживали и обволакивали, держа в нервном и неприятном возбуждении.
— Как-нибудь вам расскажу о подробностях, сейчас уж неохота вдаваться. Я с двумя уголовниками бежал. Одни боялись, а другие — кто в амнистию верил, кто надеялся, что на фронт пошлют. Почти до станции втроем мы дошли, они меня там раздели и бросили. Пришибли, конечно, малость для надежности. Объяснили они мне, что несподручно им со мной, с Фан-Фанычем, если поймают. Их-то измолотят просто и вернут, а если со мной — пристрелят наверняка. Вот. Но я догнал их. Словом, оба они там остались. Я никак не мог их недобитыми бросать, тоже рисковать не хотел. Удивительно другое: до Москвы я доехал и ни разу не нарвался на патрули. Это в войну, заметьте.
Старик замолк, уйдя в себя, и даже пальцы его не шевелились. Рубин завороженно ожидал, изнывая от желания спросить подробности, но не решаясь. Старик пошевелил губами, будто жуя что-то невидимое, и сочно разлепил их.
— Две сестры у меня жили в Подольске. Испугались, но ничего, пригрели. Тут наш двоюродный брат умер в Калуге, они поехали. Как ухитрились его паспорт сохранить и не сдать, уже не помню. Стал я Владимир Михайлович Гинак, свыкся довольно скоро с этим именем — и, конечно, сразу на фронт. А уж там никто не разбирался. В сорок четвертом один приятель изготовил мне копию диплома университетского, так что я пошел после войны по той же артиллерийской части. Сметкой был почище молодых, только осторожней не в пример. Волновало меня, как бы старых сослуживцев не встретить. Ну, кого поубивало, конечно, кто-то сидел, а однако же троих повстречал. И все трое сочли за лучшее не узнать меня и не расспрашивать. Приучен уже был русский человек не интересоваться, чем не положено. Один было хотел, но я ему намекнул, что не его это дела и не мои, он так затрясся, что и вовсе узнавать меня перестал. Ну, из песни слова не выкинешь, как говорится, так что не умолчу. Я для пущей своей личной безопасности много лет после войны с органами сотрудничал. Обычнейший стукач в военном почтовом ящике. И науку двигать успевал, авторские свидетельства имею. Между прочим, сколько нас там было, кто сотрудничал, — не сосчитать. У меня хоть слабое утешение было: знал, чего боюсь, понавидался, а с чего другие в эту петлю лезли — ума не приложу. Плохо я тогда о людях думал. А после я на пенсию ушел. До срока, по военной инвалидности. И спохватился!
На высокую ноту сорвался вдруг старик, выговорив это, и покраснел всем своим большим овальным лицом.
— Удивительное чувство появилось, знаете ли, осознанное, спокойное, убийственное. Что не свою судьбу прожил. А свою — просрал и проморгал. А ради этой тусклой чужой — и жить не стоило. Приятель был у меня, умер уже, хоронили с почестями, до генерала по справедливости дослужился, на работе сгорел, как говорили на панихиде, он и вправду вкалывал наотмашь, а мне сказал как-то: знаешь, всю жизнь думал, что стою часовым на почетном посту у родины, а сейчас вижу что всю жизнь гнилой сортир охранял.
— Говорят, Фадеев сказал такое же перед смертью, — осторожно вставил Рубин.
— Значит, молодец, что рука поднялась, — вяло откликнулся старик. — А на меня бессонница вот навалилась.
И давненько. Очень я хотел это, оказывается, кому-нибудь рассказать. Спасибо вам, что слушаете меня.
— Можно вам странный вопрос задать, Владимир Михайлович? — спросил Рубин и не стал дожидаться позволения: — Почему вы сыну не поручили кого-нибудь разыскать? Вам ведь, как я понял, в поминальник этот всероссийский хотелось виденых людей записать? Уже много лет он существует негласно и нелегально. Вернулась у нас эпоха до Гутенберга. Или пытались, но неудачно? Или сын не смог?
Тут же проклял себя Рубин за любопытство. Старик смотрел на него по-прежнему в упор, только бессильные две старческие слезы выкатились у него из глаз и, не задерживаясь на гладких щеках, блесткими змейками скользнули в разрез рубашки. Он не шевельнулся. Рубин тоже.
— Я уже говорил вам, что стихи когда-то писал, — медленно и размеренно сказал старик. — Были как-то две удачные строчки. — Он прикрыл глаза и тут же открыл их снова. — Хребет поломанной души передается по наследству. Сын мой так тих, воздержан и убог, что от него даже ушла жена, и очень правильно и понятно поступила. И всю жизнь свою он провел так же бездарно, как я, только тусклей и мизерней намного, потому что во мне способности играли свою музыку, а он ими начисто обделен. Зато смирением он награжден, как другой — талантом. Он работает фотографом и собирает марки. Всю жизнь вяло работает фотографом и всю жизнь вяло собирает марки. Вот еще меня, как видите, содержит чисто, за что я ему очень благодарен. Вот и всё о моем сыне. У Блока где-то сказано, что дети — это возмездие, или это у него эпиграф чей-то к поэме?
— Из Ибсена эпиграф, — сказал Рубин. — А дети, они и должны быть другими. Я вам тоже тогда стишок прочту. Короткий. «Разлад отцов с детьми — залог тех непрерывных изменений, в которых что-то ищет Бог, играя сменой поколений».
— У меня сейчас чувство замечательное, — очень медленно и тихо сказал старик, — что я тяжкую ношу с себя скинул, долг очень давний стал возвращать…
Он еще что-то невнятное бормотнул и умолк, закрыв глаза и тяжело осев в подушку. Рубин, похолодев, вскочил и наклонился над ним. Старик спал. Безвольно и блаженно оттопырились огромные вялые губы лиловатого цвета, чуть порозовело одутловатое лицо, и под глазами меньше стали видны мешки.
Рубин закрыл тетрадь и вышел, стараясь ступать неслышно. В смежной комнате не было никого, но на пороге кухни он увидел копию старика — только теперь показавшуюся Рубину пародией — все у сына было мельче и незначительней.
— Он спит, — сказал Рубин.
Лицо пародии осветилось неподдельной радостью.
— Вы — гениальный врач, — шепотом сказал сын. — Вы ведь врач?
— Нет, — ответил Рубин честно. — Это Фальк врач. А я его ассистент.
— А-а, — понимающе протянул сын, и лицо его, застывшее от уважения, теперь сильнее напоминало отцовское. — Как я могу отблагодарить вас? — спросил он. — Вы не собираете марки?
— Нет, нет, — решительно ответил Рубин. — Ни о какой благодарности не может быть и речи. Награда врача — его успех. Всего вам доброго.
В эту ночь, уже на грани рассвета, Рубину привиделся кошмар. Он сидел на нижних нарах в камере Бутырской тюрьмы, серый сумрак вперемешку с табачным дымом клубился под сводчатым потолком. Было душно, прокурено и грязно. Здесь были все, о ком шел накануне разговор, и Рубин их не то что узнавал — нет, он просто знал их, он уже давно здесь находился. Все сейчас чего-то ждали напряженно и тревожно. А у дощатого длинного стола сидел Николай Бруни, каким видел его Рубин на последнем лагерном автопортрете, и крутил задумчиво какую-то бумажку тонкими своими гибкими пальцами. Поймав взгляд Рубина, он улыбнулся ему мягко и сказал:
— Я здесь не в счет, меня уже давно убили.
Ему весело ответил щуплый старик Шор, чья большая лысая голова отсвечивала желтым от тусклой лампочки, под которой он стоял:
— Можно подумать, будто мы еще живые.
С верхних нар легко и ловко спрыгнул на одну левую ногу, правую чуть в сторону отведя, высокий и плечистый старик Сапега. Косо и тяжело припадая на негнущуюся ногу, он прошел к столу и возгласил:
— Панове! Нам предстоит умереть вторично, что уже не страшно, так что нервничать не надо.
Возле двери неподвижно и молча, очень прямо стоял невысокий плотный человек с белым, невыразительным — или неразличимым просто? — лицом, в плаще и шляпе. Медленно, как на сцене, он обернулся и не сказал, а произнес:
— Наша ложа все равно дала обет молчания, и никакие следственные ухищрения к жизни ее не возвратят.
— Возвратят! — закричали от окна сразу несколько человек. Голоса были хамские, ночные, мерзкие. Рубин знал, что это крикнули бывшие чекисты.
— Заткнитесь, падлы, — повелительно и негромко сказал над ним спокойный голос. Рубин поднял голову и увидел, что на верхних нарах, по-турецки скрестив ноги, сидят и играют друг с другом в карты Владимир Михайлович Гинак и начальник политуправления Егоров в полной форме и со всеми ромбами. Карты были сделаны из газетной бумаги, плотно проклеенной в несколько слоев, и на обороте той, что держал Гинак, собираясь ею пойти, виден был обрывок заголовка: «Смерть вра», — дальше было ясно, словно так, не полностью, заголовки и писались. За спиной Егорова, заглядывая ему в карты, сидел человек с двумя сплошными кровавыми расчесами на месте щек. Он улыбался, что-то видя в картах Егорова. А Гинак был старый, такой же грузный, величественный и неподвижный, как вчера, и застывшее овальное лицо его со скульптурно вылепленным лбом монументально высвечивалось лампочкой.
— Карта не лошадь, к утру повезет, — усмешливо сказал он. — Хода по два нам осталось, не тяните.
В камере нарастала нервозная атмосфера ожидания, а чего именно — Рубин догадаться не мог, и спросить ему было неудобно. Николай Бруни перестал вертеть бумажку, посуровел и встал. Только тут стало видно, что он одет в священническую рясу.
— Они идут, — негромко сказал он. — У меня абсолютный слух. Прощайте, товарищи! Постараемся сохранить достоинство, кто сумеет.
Маленький Шор засмеялся и покрутил лысой головой, как бы выражая одновременно скепсис и бесшабашность. Все повернулись к двери, окованной листовым железом, и она неслышно, жутковато распахнулась. В темном коридоре — это ясно ощущалось — стояло много людей. Оттуда раздался голос, очень твердый и четкий:
— Выходите по одному. Предупреждаю — выход без последнего.
Рубин вопросительно глянул на Бруни, тот улыбнулся ему и пояснил:
— Последний будет убит еще раз. Это чтобы мы быстрее шли.
И остался стоять на месте у стола, с той же улыбкой всматриваясь в тьму за дверью.
Камера разом сорвалась к выходу. Отовсюду бежали к двери невообразимо разные люди с одинаково испуганными глазами. Рубин застыл, глядя зачарованно на Бруни, прямо и неподвижно стоявшего у стола. Тот перевел взгляд и строго сказал:
— Надо бежать со всеми. Вы, по-моему, напрасно бравируете.
Рубин послушно шагнул от нар, чтобы включиться в несущуюся толпу, и вдруг почувствовал, что все они бесплотно пробегают сквозь него, проходя его насквозь, как пустоту. И тут он страшно закричал. Жена трясла его за плечо.
— Илья, проснись, Илюша, тебе что-то снится, ты проснись, нельзя спать на левом боку.
Рубин открыл глаза, но еще видел бегущую толпу призраков. Было уже светло.
— Все, Ириша, все, — пробормотал он. — Извини. Спасибо, что разбудила. Ты спи, я посижу на кухне. Это мне полезный очень сон приснился.
— Почему полезный? — сонно спросила жена, устраивая голову, как она это любила, на его оставленной подушке. — Ты утром куда-нибудь уходишь?
— Обязательно, — ответил Рубин, одеваясь. — Я поеду бить Фальку морду.
— Шутки твои глупые, — успела сказать жена, — а подушка теплая, я тебя очень люблю, — и снова уснула.
Рубин пил кофе, потом чай, долго курил и тоскливо думал, что напрасно взялся за дело не по силам.
— Я пришел скандалить и обличать, — сказал Рубин, садясь в кресло у маленького низкого стола и сразу же затосковав о сигарете.
Фальк, проведя его в свою комнату, попросил минуту обождать и уткнулся молча в книжный стеллаж, разыскивая что-то. Книги с кресла Рубин ловко и бесцеремонно пристроил на гору, которая оккупировала стол. Классическая комната одинокого интеллигента, подумал Рубин, как это опишешь, не впадая в банальность?
Фальк оставил поиски и вежливо обернулся. Небольшого роста, хрупкий, лысый и в очках, он выглядел живым олицетворением памятника неизвестному профессору. Только отсутствие какой-нибудь завалящей реденькой бородки нарушало хрестоматийность его кабинетного облика. Если еще надеть на него бархатную камилавку, он бы даже на академика потянул. Хотя был всего лишь рядовой палатный врач в маленькой какой-то больнице. Выше и не будет, подумал Рубин, потому что за спиной тюрьма и лагерь — за открытое письмо о карательной тайной психиатрии.
— Зачем вы мне подсунули этого старика Гинака? Зачем? — пытаясь распалить себя звуком собственного голоса, громко спросил Рубин, глядя чуть мимо Фалька, чтобы было страшней. Только сразу стало смешно и обидно за испарившийся запал.
Фальк молча и неулыбчиво смотрел на него, и это помогло Рубину сделать еще одну попытку возбудить в себе негодование.
— Что я буду теперь делать с перечнем его сокамерников? Он на меня свой долг переложил, а я куда их вставлю? Куда? В повесть о художнике, который умер раньше? А зачем? А кому другому я их передам? Это хулиганство с вашей стороны, — закончил он совершенно спокойно и улыбнулся широко, потому что злости уже не было и в помине, Фалька он любил и почитал, а куда денет фамилии для всероссийского поминальника, он тоже уже знал.
Однако Фальк не улыбнулся ему в ответ. Даже наоборот: чуть отвердело его круглое небольшое лицо с четырьмя глубокими складками — под глазами и от крыльев носа.
— Бедный литератор, — отчужденно и безо всякого сочувствия медленно процедил он. — Бедный литератор. Собирал детали для портрета художника, а наткнулся на штрихи к портрету времени. Испугаешься, — презрительно протянул он.
И опять все стало на привычные места: ровесника своего, совершенного ровесника Фалька, воспринимал Рубин как старшего, куда более умудренного человека. И так было все время их недолгого, но очень подлинного приятельства. В чем скрывалась причина неравенства? Профессия? Начитанность? Тюремный опыт? Умственное превосходство? Рубин как-то спросил об этом Фалька. Тот ответил так стремительно и сразу, словно давно только об этом и размышлял: в вас, Илья, еще надежды и иллюзии теплятся, а из меня они ушли напрочь — они, должно быть, у меня в волосах были. И засмеялся, как всегда чуть поджимая подбородок, словно конфузясь, что неприлично смешлив.
— Не испугался я, — досадливо начал оправдываться Рубин. — Просто я не знаю, что мне делать с таким материалом, как строить повесть, чтобы его туда вместить.
— Ой, ничего нет легче, — ответил Фальк опытным тоном наставника литературной молодежи, — вы вставьте туда меня в качестве дежурного резонера, и я вам буду все это по ходу пьесы рассказывать, как бы невзначай и развлекая.
— Ничего себе развлечение, — оживился Рубин. Идея понравилась ему. — Лучше только будет, если вставлю вас как мудрого ребе, вы мне будете разъяснять и растолковывать.
— Правильно! — Фальк еле сдерживал смех. — Именно и только так. На безребье и дурак — ребе, сделайте меня воплощением этой пословицы, и я верой-правдой послужу вам в качестве туповато-мудроватого еврея. Только не забудьте, батенька, что я русский дворянин, и не перегните палку. Замечательный у нас получится фальк-о-клок.
— А вы и вправду разве русский дворянин? — изумился Рубин.
Фальк застыл, пытаясь неподвижностью своей хилой фигуры выразить величавое возмущение. Голову он тоже вздернул и запрокинул надменно.
— Чистых шведских кровей, — не сказал, а выговорил он. — Только уже не знаю, в каком поколении. Дальше сплошные российские служивые дворяне.
— А еврейское что-то есть в вас, несомненно есть, — тоном прожженного кадровика заметил Рубин с хорошо удавшимся неодобрением. — Живость в вас какая-то не наша. Фигура. Вот опять же знаете вы чересчур много… Может быть, бабушка ваша того-этого? Вы скажите сразу чистосердечно, мы ведь нацию вашу не ущемляем, она и так везде пролезет, нам главное, чтоб не скрывали. Откровенно. Искренне. Колитесь.
— Чист я, гражданин начальник, — с надрывной исповедальной интимностью ответил Фальк, принимая игру. — До такой, представьте, степени чист, что даже сам ихнего брата с трудом переношу. Вот они где все у меня сидят.
И Фальк ребром ладони с остервенением постучал по горлу.
— Это вы, между прочим, лишнее что-то говорите, — обиделся Рубин. — Вы уж, батенька, играть играйте, а перехлестывать не надо — вдруг поверю.
— Не поверите, — вдруг посерьезнев, сказал Фальк. — Дело же не в чуши этой, кто какой породы, а в религии нашей общей — вот что главное. Неназываемой религии, неопределимой, словом не ухватишь, однако явной.
— Объясните, — попросил Рубин. — Попытайтесь. Фальк снял очки и чуть обезьяньим быстрым движением тонких пальцев потер левый глаз. Снова надел очки и длинно посмотрел на замолчавшего Рубина.
— Ну, раз уж начали, — отрывисто сказал он и пробежался по комнате вдоль книжных полок. Маленький, щуплый, быстрый. Метр в шляпе на коньках, вспомнил почему-то Рубин, как дразнили в школе отстающих по росту.
Пробежав, Фальк обернулся и опять застыл.
— Я этой религии, — сказал он медленно, — даже название мог бы дать, если вы простите мне назойливую склонность каламбурить…
Рубин открыл рот, но Фальк властно выставил ладонь, останавливая его и не желая прерываться.
— Я бы ее назвал — конфузианство. Мы все одинаково находимся в некоем нездоровом состоянии конфуза, сконфуженности, контузии. От рабства нашего, от блядства несусветного нашего, от бессилия, от бесправия, растерянности. Ибо никакого выхода не видим. Все вы — растерянное поколение, наверняка сказала бы Гертруда Стайн, доведись ей с нами разговаривать.
Рубин засмеялся, обрадованный этим винегретом из точной мысли и ловко перевранного эпиграфа где-то в Хемингуэе.
— Очень неплохая модель, — с искренней завистью сказал он. — Жалко даже, что не я ее придумал.
— Дарю, — быстро сказал Фальк и сделал рукой жест земельного магната, жалующего приятелю большой надел.
— Благодарствую, — церемонно и медленно ответил Рубин. Он от пируэтов Фалька часто чувствовал себя грузным, неповоротливым и неуклюжим. О дремучести нечего и говорить, она тоже ощущалась чисто физически. — Только давайте это обсудим немного. С точки зрения — религия ли это.
— Конечно, нет, — сказал Фальк, усмехаясь уже чему-то новому, что всплыло в нем и требовало произнесения. — Поэтому в высоких терминах эту модель бессмысленно обсуждать. А приземленно — стоит, по-зэковски. Знаете, как лаконично излагает зэк, войдя в барак, впечатление о мерзкой погоде, дожде со снегом, ветре и так далее?
Фальк зябко ссутулился, с живостью потер ладонь о ладонь и низким голосом жизнерадостно произнес, подхрипывая:
— Во, бля, какая срань в ебало хуячит.
— Глубоко в вас лагерь сидит, — одобрил Рубин. — Завидую вашему опыту.
— Э, голубчик, — легко сказал Фальк, — не завидуйте, это у каждого за поворотом. Оглянуться не успеете, не приведи Господь, как будете завидовать мне, что я уже вышел.
— Наверно, — нетерпеливо согласился Рубин. — Давайте все-таки наше общее конфузианство обсудим. Это мне интересно. Ведь отсюда одинаковость оценок и отношений, даже цели жизненные и смыслы.
— Эк вас понесло научно, — поморщился Фальк. — Начитались вы моих ученых коллег, научились мусор шевелить.
Тоже занятие, конечно. Вот давайте я лучше сам чуть продолжу.
— Не могу больше терпеть, Юлий Семенович, дорогой, закурю я все-таки, — взмолился Рубин. Он у Фалька старался не курить, зная о слабых легких приятеля, наследстве лагерных штрафных изоляторов, и тот сам ему напоминал каждый раз, что курить можно и нужно. И сам сладострастно вдыхал первый дым, потому что был заядлым курильщиком еще недавно.
— О чем вы говорите! — торопливо сказал Фальк и поставил перед ним подсвечник, низ которого так долго служил пепельницей, что был приятного серо-бархатного оттенка.
— Общее у всех конфузианцев есть, конечно, — сказал Фальк. — Мы помогаем жизни продлевать ее существование.
Фальк опять движением руки остановил Рубина.
— Извините за монолог и потерпите. Потому что вот какие факторы неустанно на жизнь действуют: охлаждение, усталость, оскотинивание, апатия, уныние, истощение, омертвение, отчаяние — могу еще сыскать слова, но вы поняли, надеюсь. Энтропия. Превращение живого в неживое. Я — поймите меня правильно — о том духе говорю, который в нас Творец вдохнул, выделив из животного существования. Человек, если дает себе остыть, — как бы еще внешне человек, а уже на самом деле — просто организм. Сами знаете, во что мы превращаться умеем. Так что смысл у всякой личной жизни очень получается простой: сопротивление мертвящим силам и ветрам. Вот любое преодоление в себе и в окружающих энтропии этой, остывания гибельного, любое поддержание — любое! — почти выкрикнул Фальк, голову запрокинув, — жизненных сил, настроения и тонуса душевного — уже большое благо и заслуга для конфузианца.
Фальк успокоился и продолжал чуть тише:
— Вообразите себе нехитрую модель: всему живому, всей духовности человеческой, в чем бы она ни проявлялась, — противостоит вечная мерзота, разлитая в самом устройстве мироздания, предусмотренная в нем, а значит — и в нас самих. Вечная мерзота!
На этих словах пафос его вовсе спал, и он сказал застенчиво, как хвастающийся мальчишка:
— Сам придумал. Честное слово, — и немедля перешел на прежний тон: — В отличие от высокого и светлого, кое требует усилий для хотя бы приближения к нему, вечная мерзота сама наступает непрерывно и активно, заполняя любую пустоту и немедленно вливаясь в любое предоставленное ей пространство. Это не смерть, а хуже. Это угасание всякое, омертвение, застывание, отвердение, бледная немочь духа, спад в животное состояние. Именно поэтому, мне кажется, государства наибольшей упорядоченности, то есть несвободы, — разъедаются так быстро разложением, растлением, продажностью, некрозом желаний и стремлений, превращаются в хлев огромного стада. А ведь стадо — идеал порядка. Только уже не человеческого, что важно. Здесь, по-моему, любое разжевывание только повредит образу вечной мерзоты. Вот с ней конфузианцу надо и в самом деле бороться. Жизни помогая. Вы простите мне патетику, ведь я, признаться, это вслух впервые излагаю.
Последней фразы Рубин уже не слышал, хотя Фалька, раскрывающего рот, видел ясно. Это несколько мгновений всего длилось. В мыслях Рубина возникло вдруг кишение, очень знакомое ему и целиком поглощающее. Оно могло начаться от слова, от идеи, от случайной рифмы или просто от сочетания звуков. Сами собой наплывали тогда слова, окружая и облепляя основу, и Рубин легко руководил ими, не успевая все их осознать и опознать, словно собирая легко и ловко невидимую ему пока, однако чем-то известную фигуру из спичек, всплывающих в воде из глубины и сбоку, плотно слепляющихся друг с другом. Ключом и стержнем, краеугольным камнем в правом нижнем углу фигуры — его Рубин помнил и чувствовал все время: стояло слово, придуманное Фальком, остальные кружились и укладывались, легко прилаживаясь боками к нему. Ощущений лучших, чем в секунды эти, он не ведал. Такое бывало вовсе не со всеми стихами, подавляющее большинство их он вымучивал, зачеркивая и тоскливо перебирая слова, целыми страницами изводя бумагу ради четырех строк. Но бывало изредка такое, как сейчас: в сознании всплывало слово «недаром», Рубин ловко его куда-то сунул в еще неведомый текст и ощутил, что вставил точно и туда, появилось слово «лишь» и утонуло так же уместно, и ни одного лишнего слова не возникло, а какие-то он топил, не успев опознать, но мигом ставя где-то в глубине нижних строк, — появилось чувство законченности, и уже он стеснительно говорил Фальку:
— Простите, я еще одно новое слово своровал у вас только что. И так ловко, что уже стишок сделал, послушайте. И сам стал слушать, что получилось и выплывало теперь ясно и сцепленно: — Лишь тем дана была недаром текучка здешней суеты, кто растопил душевным жаром хоть каплю вечной мерзоты.
— Вот! — радостно и громко сказал Фальк, просияв. — Вот! Я всегда говорил, что посланный Богом органчик совершенно со своим хозяином не соотносится. Абсолютно это отдельный прибор. А я напрочь этого лишен. Не обидно ли мне, скажите на милость?
— Правда, забавно, — сказал ошеломленный Рубин. Каждый раз такие быстрые роды без беременности и мук, от случайного соития со словом, изумляли его заново и остро. Дело было не в качестве новорожденного, а в непостижимой скороспелости его появления. Качество всегда сначала преувеличивается, были родовые схватки или нет. И хорошо еще, если только сначала. Рубин всегда легко соглашался, когда хулили его стишки, сам выбрасывал их время от времени почти без жалости (особенно по утрам), легкость непривязанности даровала его свободой, чем он втайне гордился. И тем, что пишет, — вообще, и тем, что легко выкидывает, — в частности.
Со словами и шутками Фалька уже не раз это случалось у Рубина: беззастенчиво крал он их и, как любое краденое, быстро прятал — укладывал в удобную для уноса тесную сумку четверостишия. Услышав однажды такой стишок на дружеской пьянке, Фальк усмехнулся одобрительно и не только за руку не схватил, отстаивая право происхождения, но даже слова порицания не произнес. Рубин, улучив минуту, спросил его, не в обиде ли он за такое бесцеремонное присвоение, на что Фальк пожал своими узкими плечами равнодушно. Мысли — добро общественное, ответил он, окажись у вас, милый Илья, что-нибудь достойное, я б тоже украл. Ну, спасибо, засмеялся Рубин, за такую тонкую пощечину. Квиты, сказал Фальк беспечно, я и впредь готов трудиться ради вашего бессмертия.
Фальк прервал повисшее молчание.
— Не осталось времени, к сожалению, произнести мне речь, назначенную вас душевно ободрить, — сказал он, кидая в свой потертый портфель какие-то бумаги. — Вы меня простите великодушно, каждый раз я очень с вами забалтываюсь, а по сути вашего скандального визита не успели поговорить. Ко мне придет сейчас один человек, мне бы не хотелось вас совмещать. Вам огромное спасибо, кстати, — утром позвонил сын Гинака: старик проспал с середины дня до утра, это впервые после многих месяцев тяжелейшей бессонницы. Каково? Нам бы в паре с вами эскулапить. Есть хотите? Время на яичницу еще осталось.
— Нет, спасибо, — отказался Рубин. — Только я на днях опять зайду. Хочется о книге поговорить, вдруг идея какая-нибудь всплывет в устной беседе. Еще мне что-нибудь подскажете, ребе Фальк, — последнее он произнес растянуто, словно взвешивая звучность и значимость сочетания. — Для меня, признаться, очень питательна отравная прелесть ваших речей.
— Цицеронистый калий, — незамедлительно ответил Фальк. Рубин молча развел руками.
Несмотря на отказы и сопротивления, Фальк помог Рубину одеться.
— Мне мой учитель когда-то говорил, — повторил он в несчетный раз, — что у себя дома не подают гостю пальто только лакеи. Опять же — кто знает, вдруг вы прославитесь, тогда мне — материал для мемуаров. Притом, что редкость, — для достоверных.
— Скоро увидимся, — сказал Рубин, крепко пожимая узкую руку.
— Надеюсь, — ответил Фальк. — Сюжеты наших биографий двигаем не мы.
И быстро затворил дверь.
Глава третья
Николай Бруни записался в армию в первые же дни войны. Извечный российский подъем духа во время общей беды захватил его сразу и целиком. В декабре того же года журнал, где раньше появлялись его безоблачные меланхолические стихи, уже печатал записки санитара-добровольца.
Начинались они прямо с отправки на фронт, хотя до этого были короткие курсы для санитаров.
«Я смотрел на пыхтящий высокий паровоз нашего поезда. У него был такой недоумевающий вид и так растерянно он отдувался, упираясь в рельсы, что казалось, можно прочесть все, что он думает: я ничего не знаю, никогда не приходилось, но если нужно, то я повезу.
И повезет он, не глядя в стороны, упираясь в рельсы, повезет туда, куда они проложены, бесповоротно, безропотно.
Так и надо, думал я. Так и я поеду, если это нужно. А оставаться я не мог, значит, нужно…»
Поезд их тронулся, вспоминал Бруни, и немедленно остановился. Никак не удавалось оторвать от вагонов воющих баб. Они хватались за открытые рамы, повисали на окнах, что-то неразборчивое пытались напоследок выкрикнуть или прошептать.
После поезд шел по бесконечной равнине, и молодой санитар Бруни писал, очевидно, в первый же вечер:
«И я почувствовал, какое счастье быть там убитым, умереть за эту царственную тишину осенних полей, желтого леса. Быть там, среди озверевших людей, среди грохота и огня орудий, чтобы здесь ничто не смело нарушить святую тишину родины».
Были попутчики. Один все время шутил. Второй — солдат, отставший от роты, — жаловался на плохую кормежку. А в соседней роте кормят на убой, сказал он. (Бруни вздрогнул, вероятно, от этого невольного каламбура-пророчества.) Всё от ротного зависит, бубнил солдат. Так что нашего ротного, наверно, убьют в первой же атаке, кто там будет разбираться — в спину или в грудь вошла пуля.
После был госпиталь, потекли неразличимые прифронтовые будни.
«Тяжелее всего ночью. Темно-синие окна, свет зеленой лампочки в палате и мертвенные лица раненых. Так душно, что страшно потерять сознание, душно от тяжелого запаха гнойных ран…
…Иногда бывало, что сразу несколько человек в палате поднимались с кровати с искаженными лицами: „В атаку, в атаку! Ура!..“
…Приходилось дежурить по двадцать четыре часа через сутки. Остальное время спал и читал…
Было удивительное чувство ко всем людям в военной форме. Это странная близость, которую нельзя сравнить ни с любовью, ни с привязанностью. Кто не ходил в военной форме, тот не может себе это представить».
Вскоре санитара Бруни переводят по его просьбе в операционную палату. И неожиданное вдруг, изумительное предложение: ехать на ускоренные курсы военных летчиков. Месяца три учиться, пара-другая пробных вылетов — и самая что ни есть передовая. Передовей не бывает. Средний срок жизни летчика — около года. Больно ненадежны пока что боевые самолеты. Согласен? Счастлив!
Летом пятнадцатого года Николай Бруни уже учился в Петрограде на курсах военных летчиков. Днем. А вечера все пропадал теперь дома. Наступило время рассказать об их знаменитой квартире.
Рубин опереться здесь мог на единственные сохранившиеся воспоминания, но зато они так прямо и назывались: «Квартира номер пять» — и были о квартире семьи Бруни при Академии художеств. Написал их искусствовед Пунин, многолетний друг Льва Бруни.
«В квартире было почему-то три этажа, окно в столовой было на уровне человеческого роста, стол, за которым сидели, был длинным, лампа освещала только середину стола; свет от лампы был желтый и теплый, как в детстве, когда его вспоминают».
Приходили и уходили, когда хотели, писал Пунин, ближе к весне досиживались до рассвета, до голубого окна. Когда расходились, у Зимнего дворца татары в коричневых кафтанах уже мели торцы мостовой. Шли по пустынным набережным мимо дворцов, все было призрачно, даже лица прохожих.
Появлялось множество людей — многие из тех, что ходили ранее в «Бродячую собаку» (она в войну закрылась из-за обильных долгов — меньше стало фармацевтов, по всей видимости). Приходили те, кто посещал собрания Цеха поэтов. Заходили, разумеется, и случайные люди — из тех извечных, кто пребывает при искусстве или считает себя к нему причастным. Но такие быстро исчезали.
Те, кто бывал в квартире Бруни постоянно, — это сегодня гордость русской живописи и поэзии, память о чистом и безумном времени бескорыстных и хаотических поисков. Столь же новаторских и авангардных, но временно чуть иных, чем ранее: