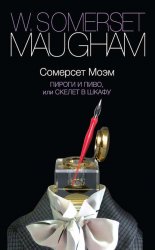Гарики предпоследние. Штрихи к портрету (сборник) Губерман Игорь
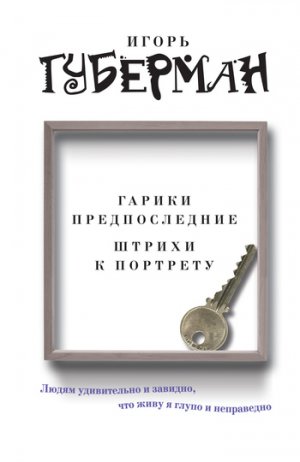
— Я бы пошел, — угрюмо сказал старик. — Только я бы ему в морду дал после первой рюмки, для меня именно это было бы символом свободы. Он ведь там еще и разглагольствовал, паскуда, что всегда, дескать, хотел как лучше, что по мере сил облегчал, что не он вовсе карцером и размером пайки распоряжался, чтобы добавить и выжать, что время было такое, что сам по острию ходил, что и на него жали нещадно, что он рад за них за всех, что вон какой город выстроили стране на радость. Плюнуть бы ему в бокал или в глаза.
Выговорив это единым духом, старик снова раскрыл рот, жадно и обессиленно глотая воздух.
— И вот еще, — сказал он одышливо. — Бурдаков всегда казался человеком, знающим нечто важное о жизни и смерти, потому что многие годы был абсолютной властью в этом смысле облечен. Это, знаете ли, тот же мотив, по которому мы о Сталине любопытствуем и обо всех, кто рядом был. Вы ведь наверняка тоже с интересом любые истории о нем выслушиваете. Оттого, наверно, и Пастернак, как известно, со Сталиным о жизни и смерти поговорить хотел.
Рубин кивнул головой, полностью соглашаясь.
— И не только! — старик явно увлекся. — Обратите внимание, что все лагерные воспоминания вызывают обостренное любопытство, если касаются крупномасштабных, известных лиц, а благородных или подонков — неважно. Вы ведь, признайтесь, очень склонны сейчас меня расспросить, кто из бывшего начальства или известных деятелей со мной сидел?
— Есть грех, — засмеялся Рубин. Старик тоже улыбнулся слегка.
— Вот и моим приятелям казалось, будто он знает что-то. Он, однако, пустым мешком оказался. Скучный и недалекий старикашка, хвастал, пыжился. Главное, что умственно очень оказался убог. Он такой нам тогда фигурой представлялся! С железной волей, с пониманием чего-то непостижимого, чуть ли не высшего порядка существом, а не погонщиком высокого ранга. Было тогда много таких. Волю они стальную проявляли, потому что над собой такую же чувствовали. А значительность ощущали собственную — от той власти, что им была над нами дана. Это наши страх и бессилие их изнутри величием и обаянием надували. И вся страна на том держалась, как лагерь, и сейчас держится. Или у вас еще есть какие-нибудь иллюзии на этот счет? Если есть — не пожалейте и поделитесь. Только откуда им взяться, если вы не кретин. Строителям известна простая штука — закон природы, собственно: чем ниже центр тяжести, тем сооружение устойчивей. Так вот наше скопище рабов — самое устойчивое сооружение, потому что центр тяжести у каждого не в уме или сердце, а в заднице, где, как известно, страх гнездится. Оттого и вся система устойчива неимоверно.
Рубин засмеялся, радуясь образу.
— Да, да, — удовлетворенно подтвердил старик. — Оттого же, кстати говоря, страх этот и убирать опасно — такие пойдут шатания, что не приведи Господь. Снова кровь польется. Из-за несходства заблуждений. А страх — он воедино всех цементирует.
— Вы в архитектуре практик или доучивались потом? — спросил Рубин.
— Выучился, — старик кивнул головой. — После войны устроили специальное заведение — ускоренные курсы для тех, кто высшее образование имел. Любое. Кого там только не было из бывших: историки, астрономы, музыканты, дипломаты, биологи, искусствоведы. Всех лагерь в строителей обратил. А без них и не построили бы империю. Пригодилась усатой гниде интеллигенция. Были эти курсы на территории Донского монастыря. Знаете, конечно?
— Знаю, конечно, — ответил Рубин. — Крематорий особенно хорошо знаю, в молодости часто там бывал.
— Зачем? — удивился старик, очень красивым, неуловимо светским движением приподняв пегие мохнатые брови.
— Я когда-то со скульптором одним приятельствовал, с Эрнстом Неизвестным, — объяснил Рубин, — а он там на стене огромный барельеф делал. Не видели?
Старик не видел.
— Просто внимания не обратили. С левой стороны, если на вход смотреть. Символика нехитрая: в земле лежит мужчина, а из его сердца растет дерево. С веток яблоки свисают. На земле молодая женщина стоит с маленьким ребенком на руках, и ребенок срывает яблоко с одной из веток.
Снова, как недавно, быстрая тень мелькнула в глазах у старика, оживляя их и пряча куда-то склеротическую сеть сосудов.
— Очень эта символика непроста и уместна, — быстро заговорил он, — если к ней одну историю добавить. Вашему приятелю она была, конечно, неведома, человек пять всего на белом свете ее знают. Как интересно все в России увязывается, — он включился на мгновение, отвернувшись к окну, но тут же возвратил взгляд. — Я когда на этих курсах в Донском монастыре учился, у нас уборщица в общежитии была, такая классическая русская тетя Маша. Нам давали талоны на обед, но еще сухой паек был и деньги платили — крохотные, но деньги. Словом, мы этой старухе тете Маше — ей лет-то пятьдесят было, не больше — для детишек еду подкидывали, а она за это нам стирала. И вот как-то рассказала она нам после поднесенной рюмки.
Старик остановился, задохнувшись.
— Удивительный мы народ, россияне. Она в конце тридцатых работала в этом крематории. Тоже уборщицей, но несколько особого назначения. Когда покойника сжигают, пепел в урну ведь кладут, чтобы родственникам выдать прах, не правда ли? А часть пепла остается — много на самом деле, она возле печи работала, остатки убирая. И вот года два подряд, если не больше, — годы понятные — к ним каждую ночь многие десятки трупов привозили. И жгли их всю ночь. Своих они тогда стреляли, сами знаете. А у тети Маши была напарница постарше. И она ей говорит однажды: грех мы с тобой, Машка, совершаем, что православный этот прах не погребаем, а выкидываем, как мусор. Ведь какие-никакие, а люди были. Может, и хорошие, да хоть любые. Давай мы пепел этот будем погребать, и если не на этом свете нам зачтется, то на том. Так вот: помните, там две длинные цветочные клумбы — целые аллеи с цветами и кустами, что идут от крематорских ворот почти до входа в само здание? Рубин кивнул.
— Выросло все на прахе убиенных. И чекистов там полно, и военных, всяких. И жертв и нечисти поровну. Вот где подлинно проспект энтузиастов! С барельефом вашим теперь в естественной гармонии это находится. Не чувствуете? Горемыки уже в землю ушли, а плодами с яблони этой — дети кормятся. И кошмарная плоть у этих яблок. Ядовитая для духа и разума. И не лучше плоти семена. Веры нету прежней в этом семени. Только страх остался. И продажность.
Рубину уже мучительно хотелось курить, пора было перевести беседу на Ухту, ибо явная симпатия к собеседнику проглянула в старике от соединившихся случайностей разговора.
Помолчав, старик медленно и значительно заговорил — тоном, каким нечто сокровенное поверяют:
— От того же страха неизбывного я единственное в жизни преступление совершил. Настоящее. Перед Богом и людьми. Перед Россией, если хотите. И при этом человека убил. Необыкновенного. Сейчас расскажу.
Он снова помолчал, то ли силы, то ли решимость собирая.
— Мы с ним дружили долго. Он из Ленинграда был, меня моложе. Правда, с ним многие дружили. Опекали скорее. Берегли. Он редкостным был поэтом. Настоящим. Я поэзию любил когда-то очень и знал хорошо. Старокитайскую в оригинале читал, японцев читал свободно и англичан. О русской нечего и говорить. Знаете, на кого он похож был, как это ни странно? На Ахматову. Глубина ее, достоинство, чистый звук — только все мужское было. Ничего вам, к сожалению, вспомнить не смогу, да и тогда не помнил наизусть. Очень техника была у него своеобразная: фраза одна длинная переливалась из строки в строку, рифмой только разделяясь, и не на одну строфу хватало фразы, а на несколько. Словно изумительно ритмическая проза, перебитая созвучиями, чтоб держалась. Оттого и запомнить было тяжко. Интересно, что ни капли в его стихах не было, что сейчас клеветническими измышлениями суд назвал бы. Он на куда более высоком уровне существовал к стихиям ближе. О судьбе, о смерти, о любви, притом ничуть не жалуясь и не томясь. Это великий был поэт, поверьте. Я ему клочки бумаги добывал. Мы ведь на чем расчеты и записи делали? На обрезках досок — химическим карандашом. А вместо стирания или смены листа бумаги — рубанком проходили. А то, что в управление везли, на бересте писали, как древние, не было совсем бумаги первые годы. Единственная изредка бумага была — мешки из-под цемента, но он чаще прямо в вагонах поступал, в бумажных мешках реже намного. Вот я Левке обрывки и доставал. И еще газетные поля он уважал, тоже дефицит был, потому что шел на курево. И стопа этих клочков у меня хранилась на заводе, им исписанная, он свои стихи совсем плохо помнил, глюкозы было мало, она очень, говорят, на памяти сказывается. Ее отсутствие, вернее. На заводе я все время Левку опекал, чтобы он мог не работать на износ. Правда, все равно он уже кровью харкал. После его на вовсе легкую работу удалось устроить — в большом бассейне температуру измерять, там вода была для промышленных нужд. Его везде любили. Замечательно всегда он говорил, свою махорку предлагая: вам табачку аддис-абебского или баб-эль-мандебского? Почему-то всех смешило это очень. Долговязый, тощий, неприкаянный. Не жилец он был для наших мест. Как птица певчая случайная. Когда меня забрали на вокзале, у меня его стихи с собой были. Такой пакет с клочками. А меня обыскивать не стали вечером, ждали коменданта, это он задержать меня велел.
И прождали так всю ночь. Я сидел на скамейке в коридоре, а охранник ходил, чтоб не уснуть. Очень я боялся, что найдут стихи и что-нибудь пришьют. Попросился прикурить от печки. Он разрешил. Потом еще раз. Все рука не поднималась. На третий раз я сжег его стихи. А утром, я уже вам говорил, даже не обыскали — не на меня был стук, оказывается. Лучше б на меня, мне легче было бы. Перед этим незадолго он с оказией такую же пачку в Ленинград отправил, у него там брат в каком-то театре на комических ролях паясничал. Вскоре ему брат письмо прислал: дескать, с ума сошел ты, Левка, не вздумай больше, а полученное мы с женой сожгли. Хитро это как-то было сказано, но Левка понял. А теперь вот я. Словом, еще месяц он протянул, таял прямо на глазах, и больше вроде некуда, а он худел. Я к нему ребят посылал, он сам со мной уже не разговаривал, — но стихи он отказался припоминать. И так ушел.
Старик резко замолчал, не отворачивая глаз от окна, и глубже осел в кресле.
— Как его фамилия была? — спросил Рубин.
— Я вам этого не скажу, — тускло ответил старик. Рубин задохнулся от прихлынувших к горлу звуков, но ни слова не произнес.
— Все знают, что я единственный с ним дружил так близко, меня легко опознать, — объяснил старик.
— Но вы и так о себе столько рассказали, — стараясь удержать спокойный тон, медленно выговорил Рубин, задыхаясь, — и потом…
— Что сказал, все можно сочинить или узнать у других, а фамилия Левки ни к чему, — упрямо и монотонно повторил старик, глядя в окно.
— Павел Павлович, — Рубин говорил негромко и размеренно, — а вы понимаете, что этим отказом вы еще раз убиваете своего друга?
— Ему уже не нужно ничего, — холодно возразил старик. — Вот я когда умру, возьмете у Веры Павловны его фамилию.
— Желаю вам здоровья, — сказал Рубин, вставая. — Благодарю вас за разговор. Всего вам доброго.
— И вам успехов, — равнодушно ответил Павел Павлович, не поворачивая головы.
Когда Рубин одевался, из кухни вышла Вера Павловна. Лицо у нее было расстроенное и отчужденное, она естественно и справедливо сердилась на незваного гостя за доставленное мужу волнение. Чопорно кивнула, прощаясь.
Из подъезда выскочив, Рубин закурил, первые несколько затяжек не ощущая вкус дыма. Нормальный сегодняшний человек, думал он, просто не поверит в стойкость такого закоренелого страха. Не может в это поверить здоровый человек. Если сам такого же не испытал. И бессилия, и безнадежности, и беспросветности. Только к Богу можно было обратиться, но в него они как раз не верили совсем. Отчего еще прочней и ощутимей были в полном рабстве у бурдаковых. И духовном тоже, вот где может быть разгадка той совместной выпивки. И покойный следователь Буковский неслучайно его некогда сломал именно так: ничего не было, милейший, у нас такого просто быть не может. А если снова эта мельница оживет?
И Рубин закурил вторую сигарету, стоя у лестницы метро, куда вдруг страшно показалось опускаться.
Отчего юный Николай Бруни вдруг оставил живопись и бросил студию при Академии художеств? Увлекся музыкой? Да, это частичная, но несомненная причина. Его распирали способности, разнообразие которых мешало реализоваться другим. И уже стихи начал писать, в девятьсот десятом напечатался впервые, был сразу принят (в консерватории учился в это время) в первый российский Цех поэтов, и синдик цеха Николай Гумилев снисходительно хвалил молодого неофита (сам-то тезка был старше на пять лет, но уже несомненный мэтр).
Только этим не объяснялась полностью загадка разрыва с живописью. Времени хватило бы у Николая Бруни. Как еще хватало времени на яхту и на коньки, на верховую езду и на футбол, плавание и охоту. Рассказы (еще писал он и прозу) и скоротечные любовные романы (бурные и быстро тающие, так что скорей новеллы) тоже здесь должны быть упомянуты, раз речь зашла о времени и его нехватке. Кстати, увлечение спортом было не любительским и не случайным — отнюдь, ибо энергия и азарт быстро выводили его за пределы любительства: перед войной уже играл в городской футбольной команде. Что же все-таки случилось с живописью и почему он так не скоро к ней вернулся? Возникала лишь одна правдоподобная версия. Ревность. Успехи в живописи младшего брата. Десятки акварелей брата Льва постоянно сохли на столах и подоконниках, всем попадались на глаза и привлекали общее внимание. А однажды (эту историю часто рассказывали в семье) дедушка Соколов, хранитель музея Академии художеств, решил, что удавшуюся работу уже можно и пора кому-нибудь показать. Этим кем-нибудь оказался маэстро Бенуа (трудно тут не поставить восклицательный знак), первым попавшийся в то утро в коридоре Академии. Дед протянул ему работу и без особого интереса в голосе (неудобно, собственный внук) слегка конфузливо спросил:
— Взгляните, это что-нибудь обещает?
Бенуа бережно принял лист, искоса и хищно глянул на него и незамедлительно ответил столь же лаконично:
— Здесь уже все есть.
Следует добавить, что обмен летучими фразами происходил по-французски, так что история была проста, но изысканна. Каким стимулом явилась эта похвала для Льва Бруни, говорить излишне: его жизнь была всецело отдана живописи до скончания дней. Старший же брат характером обладал сложным, и поэтому версия, что одного хвала маэстро подстегнула, а второй решил искать иное поприще, вполне правдоподобна.
Консерваторию Николай окончил незадолго до войны. Перед этим было Тенишевское училище, где он на много лет сдружился с Мандельштамом, как ни поносил этот безжалостный друг его стихи. Полагая преступлением еще и любую измену поэзии (ибо дар — обязанность и долг), а Бруни разбрасывался наотмашь.
Начал его печатать журнал, уже забытый сегодня, даже в самых дотошных мемуарах упоминаемый редко «Новый журнал для всех», надежное в ту пору прибежище умеренных талантов. Но именно таковым поэт Бруни и являлся, был он из тех, кого вечно именуют кратким «и др.» в перечне присутствовавших и выступавших.
Может быть, именно этим и оказался он дорог Рубину — широким спектром некрупных способностей, усредненностью своего уровня на фоне яркого созвездия начала века. Это был негромкий, очень личный поэтический голос среди обильного российского Возрождения — краткой и ослепительной эпохи, по прихоти Бога русского, истории российской, цепи случайностей — резко и безжалостно усеченной.
Рубин сидел в библиотеке, перелистывая уцелевшие номера «Нового журнала для всех» в поисках стихов и прозы Николая Бруни, заодно выписывая всё, что привлекало внимание и могло пригодиться. Редко-редко мелькали здесь имена и Блока, и Бунина, и Ахматовой, и Кузмина, однако же в основном забытые ныне поэты и новеллисты печатали здесь свои шедевры второго сорта. Объявлялось, что журнал дешевый, демократический, рассчитанный на широкую публику. Так оно, к сожалению, и было. Объявлялось, что чужд он какому-либо пристрастию или партийности. Это тоже было правдой. Очень было много стихов. Бруни писал, как большинство. Похоже и по стилю, и по уровню.
- Голос ветра в траве склоненной,
- Мы касались друг друга плечом…
- Я носил, как мальчик влюбленный,
- Твой потрепанный Гёте том…
И так далее, и подобное тому. С юношеской кокетливой меланхолией, с юношеской зеленой умудренностью, с маской скептика, ибо подлинные чувства были неприлично ярки и восторженны, что для настоящего символиста — стыд и срам.
- Создал себе земной уют.
- Пред образом горит лампада.
- Душа какой-то боли рада,
- Цветам, которые взойдут.
- И новой боли мне не надо…
- Туманы тихо стерегут
- Давно уснувший старый пруд,
- Куда упали листья сада…
Рубин продолжал читать журнал вполглаза, но какая-то возникла неотвязная и смутная мысль. Она тревожила его, не всплывая в сознании, но, именно ей поддавшись, по ее неясной указке принялся он выписывать куски чьей-то прозы с пошлыми красивостями повсюду:
«…Черный шелк также струился вокруг тела и шумел печально, точно мертвые листья в осенних аллеях…
…Склонила голову на тонкую руку и застыла в молчании, а в продолговатых глазах где-то глубоко собрались слезы, но только две крупные и яркие капли докатились до матовых щек. Остальные замерзли в сердце…
…Откуда-то плыла стыдливая и задушевная мелодия старинного вальса, и звуки кружились, как голуби, и умирали покорно…
…Долго в тот вечер горели толстые свечи под матовыми колпачками, проливали тихое сияние на седую голову, склоненную над книгой».
Зачем я это делаю, к чему мне эта чушь, спохватился Рубин, откладывая ручку и разминая затекшие пальцы. Для чего-то надо, однако, — он это ясно ощущал. Непременно и сразу пригодится. Вот еще и это объявление тоже (объявлений было много, они явно помогали журналу сводить концы с концами).
Интересуетесь ли вы тайными науками? Психофренолог Шиллер-Школьник из Варшавы бесплатно высылал книгу «Самоучитель гипнотизма, хиромантии, физиогномики, френологии, графологии и астрологии» с рисунками в тексте. По ней, обещал сей альтруист-благодетель, очень просто определить характер, прошлое, настоящее и будущее любого человека.
Рубин тихо засмеялся наивности безвестного Шиллер-Школьника, обещавшего прогноз будущего, не подозревая, что скоро и необратимо оно взорвется, потечет кошмарно и непредсказуемо. Рубин догадался уже, чем его привлекли эти пошлости семидесятилетней давности, надо бы еще и побольше. В толстой общей тетради где-то хранилось до случая похожее объявление из газеты того времени, оно теперь пригодится.
Из газеты «Утро России». Предлагала Жанна Тренье:
«Каждая из вас, уважаемая читательница, может развить свой бюст, увеличить его или же из вялого сделать упругим, гармонически развитым благодаря моему новому способу, методу Тренье. Я счастлива, что имею возможность без применения запрещенных внутренних средств одним женщинам дать, а другим, независимо от возраста, вернуть и восстановить упругость и красоту форм, отсутствие или увядание которых приводит в уныние, разрушает планы и часто делает женщину несчастной. Если природа не наделила Вас роскошными формами, если Ваш бюст мал, опущен или вялый, обратитесь ко мне, и Ваша мечта сбудется. Мой способ настолько прост, что Вы можете им пользоваться тайно, без посторонней помощи, так что Ваши знакомые и близкие, не подозревая причины, уже через короткое время будут поражены переменой, происшедшей в Вашей фигуре. Итак, пишите мне как другу, и я немедленно отвечу Вам в закрытом конверте…»
Далее следовал подробный адрес.
Замысел, явившийся Рубину, был нехитрым, но обрадовал его и в качестве приема безусловно годился: вот такими объявлениями, а не прямым текстом показать, как мало подготовлен был российский мир ко всему, что с ним вскоре случилось, как беспечен был, благополучен и безмятежен, как поток таких вот объявлений и прочих похожих текстов начисто глушил и забивал те пророчества и догадки, что высказывали Блок и Хлебников (не считая других), что сквозили издавна (кто им верил всерьез?) в истовых и долгих российских спорах за остывшим чаем.
Рубин собирался писать роман серьезный и обстоятельный — так, будто он впервые и первый о преддверии катастрофы думал и рассуждал. Удаленность времени представлялась ему возвышенностью, с коей он имел право на суждение и обязанность этим правом воспользоваться.
Далее лежали под рукой выписки о кафе «Бродячая собака». Остальные номера «Нового журнала для всех» должны были дождаться своей очереди — начала Первой мировой войны, куда Бруни кинулся добровольцем.
А пока что — член Цеха поэтов и студент консерватории Николай Бруни усердно посещал легендарное ночное кафе, кабачок богемы «Бродячая собака». У него даже нехитрые стихи о нем были:
- Люблю «Бродячую собаку»,
- Она врачует сердце мне!
- Когда душа поверит мраку,
- Иду в «Бродячую собаку»,
- Где пиджаку, рубахе, фраку
- Почет дается наравне.
- Люблю «Бродячую собаку»,
- А в дни угрюмости — втройне.
Разбросанные по книгам и журналам воспоминания об этом кафе исчислялись уже не десятками, а сотнями, беззастенчиво повторяя и перепевая друг друга. Основал его некий Борис Пронин. С ним впоследствии очень подружился Николай Бруни. А тогда, в двенадцатом году, когда только открылось кафе, — побаивался и почитал Пронина. Еще бы: разница в возрасте — полтора десятка лет, теснейшее знакомство и приятельство со всеми мэтрами театра, живописи и поэзии (юный Бруни издали благоговейно смотрел, как те обнимались с Прониным при встрече), полновластное владение интереснейшим в Петербурге (и во всем подлунном мире, следовательно) ночным кабачком богемы.
Борис Пронин, личность недюжинная, энергии и фантазии неистощимой, был, по всей видимости, сделан из того редкостного теста, что идет на выпечку уникальных, знаменитых со временем организаторов, администраторов, устроителей. И, конечно же, долго искал приложения своим способностям, которые ощущал, но никак не мог осознать. Учился на историко-филологическом факультете университета, после там же — на естественном отделении физико-математического, потом — на юридическом изнемогал, вслед за этим плюнул на свое неуловимое будущее и подался в актеры. Лицедеем оказавшись ниже среднего, пробовал заниматься режиссурой. И никак не мог найти того душевного уюта, при котором люди заняты с утра до ночи, счастливы и стонут о ненужном вожделенном покое. В бурно расцветающей в те годы коммерции мог сыскать он себе место по силам, но увы — бескорыстен был до подозрения в юродстве и гуманитарий — до мозга костей. К искусству, людям искусства и сутолоке вокруг них тянуло его, как задыхающегося — к воздуху (или наркомана — к опиуму, что одно и то же в данном случае). Им тоже он был явно нужен, ибо общение с ним стимулировало, одушевляло замыслами и азартом самых разнообразных людей искусства — от художников и музыкантов до режиссеров самодостаточного таланта. Мейерхольд, к примеру (в частном письме): «Я готов плакать, что зимой с нами не будет Пронина. Если бы Вы знали, как я страдаю, что его не будет с нами зимой».
Разное писали о дрожжевой натуре Пронина разнохарактерные воспоминатели — большей частью снисходительное нечто: дескать, живой был, неуемный человек, прирожденный энтузиаст-организатор, возбужденно суетившийся вокруг талантов. И только тихий сумасшедший Велимир Хлебников, истинную цену людям видя безошибочно и сразу, включил Бориса Пронина, не колеблясь, в свой список непременных Председателей Земного Шара, а снисходительных воспоминателей он в этот список не включил ни одного.
Так бы и увял в средних актерах Борис Пронин, бурля энергией и выкипая в пустоте (чисто по-российски сложилась бы судьба, пить бы начал, чтобы остудиться), но время было милостиво к нему. Дух российский всходил, как на дрожжах (до чугунной сверху крышки еще лет десять оставалось), и пришедшую в голову мечту-идею Пронину удалось осуществить: он учредил кафе для артистической (в широком смысле слова) публики. Удалось ему устроить место, как любил он говорить, куда могли приткнуться к ночи ближе бесприютные собаки — только что отыгравшие и не остывшие актеры и музыканты. А что к ним потянутся художники и поэты — он это чутьем понимал.
Так и открылась «Бродячая собака» в подвале дома (вход со двора) на углу Михайловской площади в ночь с одиннадцатого на двенадцатый год. За два дня всего (и две ночи) расписал ее от пола до потолка (включительно) изумительный художник Судейкин. И еще художник Сапунов участвовал — имена обоих достаточно сегодня известны, чтобы поверить всем воспоминателям, что прекрасен был этот подвал при всей неприхотливости меблировки. Деревянные легкие некрашеные столы, соломенные стулья и табуретки, дешевые скатерти, огромная самодельная люстра. Да еще кирпичный камин грубой кладки.
А на стенах и на потолке там было вот что (Рубин аккуратно выписал из воспоминаний): орнаменты всевозможные и разноликие, птицы и звери в изобилии видов и пород, диковинные цветы и растения. Негры, женщины, дети. Венеры и Вакхи, нимфы и наяды, сюжеты фантастических романов всех времен. Пьеро с Пьереттой и печальный Арлекин. Горестная судьба спившегося поэта. Фокусники, шуты, паяцы, клоуны и мимы. Дон-Кихот и его верный Росинант. Гномы, карлики, феи. И танцы, танцы, танцы…
Предназначенное для актеров кафе имело друзей, обладавших правом приходить запросто когда угодно, друзьями «Собаки» стали множество поэтов и художников, однако (далее слова самого Пронина) — «другом был и один инженер, который ставил флюгер и ночью во фраке и белой сорочке лазил на чердак и на крышу, благодаря его стараниям камин в „Собаке“ стал гореть».
Пили умеренно. Курили ожесточенно. Были нехитрые закуски, ибо наличествовал буфетчик Кузьма. Но кто за все это платил? Артисты и художники — весьма немного (да и не смогли бы), остальное несли посетители «Бродячей собаки», люди самых разных занятий и слоев общества, кто готов был оплатить, не скупясь, вечер в кругу богемы. От желающих не было отбоя. Издавна и точно замечено, что преуспевшие на своем поприще врачи (особенно дантисты и венерологи), адвокаты и маклеры начинают со временем горячо и трепетно любить искусство и людей искусства. Их в «Бродячей собаке» собирательно именовали фармацевтами. Стоимость их билетов покрывала сполна расходы на содержание подвала, а о доходах Борис Пронин не помышлял отродясь.
Ближе к ночи несколько десятков человек тесно заполняли обе комнаты подвала, и перебывали там, пожалуй, все (или почти все), кого с особым вниманием упоминает ныне история российской культуры. И великое множество других и прочих.
Занимаясь подготовительными выписками и уже набрасывая отдельные страницы книги, Рубин впал внезапно (и естественно) в соблазн пошлости недопустимой, но понятной. Изумительно емкое это слово — пошлость (только в русском языке существующее) — ни одним из определений в словарях не исчерпывается, и неисчислимо количество ее видов и форм. Ибо пошлость — это просто тень и спутник жизни (тень на засаленной стене — этот образ Рубин записал отдельно, чтобы потом зарифмовать), а кто сочтет разнообразие жизненных форм? Тот вид пошлости, в который впал Рубин, был легко объясним, так как слишком много знаменитых людей посещало тогда «Бродячую собаку» — стоило хоть кое-как пристегнуть к ним в собеседники Николая Бруни, и какая бы вышла книга! Вот Ахматова, наклонясь к Бруни через столик, шепчет ему задумчиво и доверительно: «Все мы бражники здесь, блудницы» — и тут же лезет в сумочку за карандашом, чтоб записать удавшуюся строчку. Или Осип Мандельштам, надменно откинув лысеющую голову, читает приятелю свои ранние стихи: «Дано мне тело, что мне делать с ним?» — и в тот же день, уже утром, ведет его Николай Бруни знакомить со своим младшим братом — вот и готова история портрета Мандельштама, сделанного некогда Львом Бруни. Тут же заехавший из Москвы Владислав Ходасевич говорит что-то дружественно-едкое молодому собрату, тот возражает с пылом и меткостью, немедленно вслед пойдут строчки стихотворения Бруни (оно есть!), посвященного Ходасевичу, — в них действительно явно слышны отзвуки еще не остывшего спора. А стихотворение Ходасевича «Авиатору», написанное много позже, — о земле, зовущей летчика упасть, — не навеяно ли оно (как убедительно!) именно катастрофой с Бруни, которая уже не за горами? А у молодого Георгия Иванова — просто есть сонет, посвященный начинающему поэту Бруни, со следами тесного знакомства притом: знает о его родстве с Брюлловым и об увлеченности музыкой. В сонете есть некое покровительственное напутствие (просто от молодой наглости, ибо начал ненамного раньше), но и явное дружеское участие есть:
- Поэт, мужайся,
- океан готов поэзии открыться пред тобою:
- сверкнет пучина зыбью голубою,
- блистательными россыпями слов.
- Тебя к художеству зовет Брюллов,
- Бетховен манит сладостью иною —
- но их забудь! Бестрепетной рукою
- свой невод правь — и будет щедр улов.
И так далее, но восьми строчек достаточно вполне, чтобы понять: он там свой, он принят этими людьми как равный, он с ними пьет и курит, обмениваясь высокими репликами (уж их-то можно было надергать сколько угодно, не говоря о собственных придумках, ибо, осененные высокими именами, любые банальности прозвучат значимо и веско).
А Хлебников, бывавший неоднократно в «Собаке», — что стоило ему, увлеченному магией чисел, шепнуть однажды юному Бруни, что грядет скоро «некто семнадцатый» — и все прошлое взорвется, обрушится и погибнет. А юный Бруни чтоб ему не поверил, возразил с оптимизмом молодости, и тогда прекрасный вышел бы исторический разговор, и никто бы не усомнился, что подлинный.
А Маяковский — тогда еще талантливый необыкновенно, застенчиво-наглый (впервые читал свои стихи в «Собаке»), не погрязший в слепом и низком служении высокому мифу, от которого освободился только пулей, не разменявший еще себя на славу и плату, — тоже вполне мог быть застольным собеседником Бруни.
Все это могло быть. И в каком-то виде было, несомненно. И с трудом исцелился Рубин от соблазна, который дня два трепал его воображение, сладостной легкостью наплести красивые пошлости, пользуясь магией имен.
А соблазн осилив, он вернулся к сухой документальности. То есть к необходимости догадываться, ибо прямых свидетельств не было.
Сбылась давнишняя мечта Мейерхольда о клубе для художников и актеров, где поэты и музыканты могли чувствовать себя как дома — очевидную и неизмеримую пользу предвидел гениальный режиссер от такого тесного и естественного общения творческих людей.
Менее десяти лет оставалось до времени, когда именно такое содружество под названием ХЛАМ (Художники, Литераторы, Актеры, Музыканты) соберется в одном из монастырских подвалов на Соловецких островах, образовав первую в стране лагерную самодеятельность. Бравируя (с иронией обреченных) своим названием, которое точно и убийственно выражало отношение новой власти к людям искусства, с очевидностью лишним для построения нового общества.
Но пора было гадать, в какие дни (вернее, ночи) поэт Бруни сидел в «Бродячей собаке» наверняка. Как-то в январе двенадцатого года — безусловно, ибо чествовали поэта Бальмонта (тут знакомство давнее и тесное) в ознаменование четверти века творчества. Сам юбиляр в это время был в Париже. Участники Цеха поэтов, равно мастера и подмастерья, читали свои стихи. Много было и шумно говорено. Всякого и разного, разумеется. Конечно, меньше всего — о Бальмонте.
В октябре того же года чествовали Сергея Городецкого в связи с выходом сборника, увенчали собрата лавровым венком, и все опять читали собственные стихи.
Наступало время авангарда. Футуристы шумно провозглашали нечто неясное в смысле конструктивном и положительном, но, безусловно, разрушительное, отрицающее и взрывное по отношению к искусству прошлому. Нечто вроде такого, ныне общеизвестного из мемуаров и манифестов:
— Затасканный комментаторами и почитателями, Пушкин является мозолью русской жизни.
Или:
— Серов и Репин — арбузные корки, плавающие в помойной лохани.
Ниспровергались и осмеивались (вернее, охаивались) подряд все каноны, догмы, традиции и святыни прежнего искусства. Зудом сокрушения, вскоре поразившим всю страну, густо был пронизан и насыщен воздух времени — первыми это, естественно, почувствовали и ощутили художники, так что авангард в поэзии и живописи был провозвестником, барометром надвигающейся бури, породившей в результате тоже нечто глобально авангардное: хаос, разлом, сумятицу. В относительный порядок это все чуть позже привела железная рука (и железная метла в ней).
А пока что доходили ниспровергатели до уничтожения смысла, до ничего, до пустоты, лишь бы отвергнуть все, что было ранее. Свою «Поэму конца» (вся поэма — из одного только заглавия на чистом листе) с успехом читал в подвале худосочный туберкулезный автор. Он ее читал мимикой и жестом: произносил название, руку вздымал вверх, закатывал глаза, другую руку заводил резко назад и — сходил с эстрады.
Были и другие художества. Пафос ниспровержения и сокрушения нарастал пока что только в безопасной для человечества области пластических поисков. Скоро он овладеет всеми.
Жадной горстью собирал Рубин факты, наискосок просматривая книги и статьи, не всегда удосуживаясь даже менять слова в заимствованных фразах и призывах. Во всяческих декларациях, хартиях, скрижалях и манифестах (не было им тогда числа и предела) он нацеленным глазом выбирал главное, общее тогда у всех и у всех звучавшее в крик, лаконично сказанное некогда яростным ниспровергателем Бакуниным: «Страсть к разрушению есть творческая страсть».
Хищный взгляд Рубина упал на имя Исая Добровейна — пианиста, часто посещавшего подвал. Это он однажды будет играть Бетховена, и его слушатель Ульянов-Ленин скажет свои знаменитые авангардные слова, что хочется ему от этой музыки плакать и гладить кого-то по голове, а сейчас время такое, что непременно надо бить по этой чьей-то голове. Смыкались и совпадали чувства самых разнообразных людей в эти обреченные годы в этой обреченной стране. Так что интеллигенции российской меньше всех следовало винить кого-то постороннего в своей последующей агонии и гибели.
Николай Бруни был и на сборище в честь итальянского футуриста Маринетти. (Не было никаких документальных подтверждений, но уж очень интересный получился тогда вечер в «Собаке».)
Маринетти говорил то же самое, что говорил везде. Вернее, не говорил, а провозглашал свои свирепые (столь безобидные в устах художника!) сентенции и лозунги:
— Разрушить музеи и библиотеки! Сокрушить обветшалую культуру прошлых поколений! До основанья! И по возможности — немедля.
— Вашим Пушкиным вам затыкают рот не хуже, чем нам — нашими покойниками!
— Динамизм — основной принцип современности!
— Война — единственная гигиена мира!
И всякое подобное — по всем проблемам бытия и мироздания. Ничего в мире загадочного для Маринетти не было, ценного было тоже очень немного: разве что техника, дарующая скорость. Автомобили и аэропланы он уважал. Позже светлое будущее усмотрел он в опереточном итальянском фашизме, так что вполне последовательно шел по авангардному пути.
А тогда в «Бродячей собаке» он вдруг притих. Было это уже под утро, фармацевты разошлись, утолив свою жажду приобщения к богеме. Оставались только завсегдатаи. У входной двери Борис Пронин (это его рассказ) увидел Сашу Орлова, знаменитого в то время артиста, первого комика Мариинского театра, исполнителя на эстраде характерных танцев.
— Граф тут? (Это была дружеская кличка пианиста Цибульского, постоянного тапера и аккомпаниатора в «Бродячей собаке».)
— Здесь, — ответил Пронин.
— Когда я свистну, пусть Граф начинает русскую в мирных медленных темпах, а ты, Борис, очисти стол.
Отдернулся занавес — красный с золотой бахромой — из крашеного солдатского сукна. Раздался пронзительный разбойничий свист. Орлов вышел на эстраду в пиджаке, кашне и картузе. Сделал несколько шагов в ритме аккордов — и, перелетев на столик возле эстрады, принялся плясать русскую на этой крохотной неточной опоре. Пианист стремительно ускорял темп, и Орлов плясал, плясал, перейдя к концу на сумасшедший вихрь вприсядку. Соскочил и залпом выпил стакан вина, запрокинув голову, но не уронив картуз. Знай наших! Зал взорвался аплодисментами. Маринетти в ужасе и восторге (он ведь был только теоретиком динамизма) спросил, кто это. Ему объяснили. «О, — воскликнул Маринетти, — теперь я понял русскую тройку в степи».
Мысли Рубина соскользнули немедленно и привычно в круг ассоциаций, из которых ему никак было не выбраться последние месяцы.
Начало сороковых. Война. Один из бесчисленных лагерей на Урале. Одессит Петр Фредин, лет пятидесяти, чуть похожий на Чарли Чаплина. Клоун, циркач, эстрадник, дрессировщик. Был когда-то беспризорником, выступал на ярмарках в балаганах, после попал к Дурову, много лет работал у него со зверьми, стал близким человеком в доме знаменитого артиста, даже псевдоним себе взял с его позволения — Петр Дуров. Приглашен был выступить однажды в итальянском посольстве, был осужден за это, как тысячи таких же, — по подозрению в шпионаже, то есть ни за что, единичка в плане по посадкам. В лагере участвовал в самодеятельности, с лихостью и блеском исполнял любые танцы и нехитрые показывал эстрадные фокусы. Это от работы не освобождало, но работу подыскали ему нетяжкую — сторожем в механических мастерских. А они однажды днем загорелись. Хотя он был сторожем ночным, но требовался виноватый, и стрелочником выбрали Фредина. Впрочем, наказание дали небольшое: три месяца штрафной командировки на отдаленном каменном карьере. Но практически это означало смертный приговор. Ибо на карьере был тюремный режим, то есть после дня невыносимо изнурительной работы (штрафняк!) запирали зэков в тесный зарешеченный барак. И еду давали утром и вечером — в одном баке на всех. (Норма, естественно, пониженная — штрафная.) А раздачей распоряжались уголовники. Так что те, кто послабей или постарше, просто не получали еды. Срок жизни был отмерен им — несколько дней. И все в лагере это прекрасно знали. Начальница культурно-воспитательной части лагеря попросила начальника по режиму, чтобы Фредина привезли на концерт. Тайный замысел (скорей надежда) был у этой доброй, но безвластной в лагере женщины, ибо на концертах в первых рядах всегда сидело начальство. Тут последний был для обреченного артиста шанс, как некогда у рабов-гладиаторов. Фредин танцевал чечетку на столике для цветов, то есть на шаткой поверхности размером в небольшое блюдо. В диком, невообразимом темпе (по его же просьбе задал темп баянист) Фредин исступленно, мастерски исполнил номер. А в глазах его — как написал впоследствии бывший там зэк — стояла ясная, видимая смерть и отчаяние последнего удальства. Зал взревел от восторга, и начальство отменило штрафняк. Этот номер так потом и вспоминали зэки как «пляску смерти»; ведь сам Фредин не рассчитывал на милость, он просто плясал последний в жизни раз. А соскочив, когда закончил, тоже залихватски сказал: «Знай наших!»
Рубину показалось необходимым записать эти истории рядом.
Были наверняка в «Бродячей собаке» и другие вечера, на которые мог прийти поэт и музыкант Николай Бруни, но главное проступало с очевидностью в его жизни тех лет: масса друзей и тьма приятелей, стихи и музыка, множество запутанных, как водится, любовных историй. А еще — непреходящее ощущение изумительно долгой, насыщенной и непредсказуемой жизни. Было осознание своих способностей, чувство нерасторжимой связи с миром и Россией, благодарное счастье существования.
Ожидаемо и неожиданно началась Первая мировая война. Началась кровавая сумятица, началась кровавая неразбериха, началось кровавое усечение судеб. Начался подлинный двадцатый век.
Рубин испытал однажды странное чувство прикосновенности к тому времени и тому поколению, словно стерлось несколько десятков лет и прошлое перестало казаться древностью. Просто повезло невероятно: он попал на день рождения знаменитого некогда футуриста Алексея Елисеевича Крученых. И сидел, боясь лишнее слово проронить, чтобы не пропустить чужое. Чуть наискосок от Рубина помещался сам семидесятилетний юбиляр, маленький и не очень аккуратного вида щуплый подвижный старичок, некогда друг и сподвижник Хлебникова, Бурлюка, Маяковского. Самая мысль об этом завораживала Рубина сладким и мистическим чувством сиюминутной причастности к самой что ни на есть истории российской словесности, а был он тогда тридцатилетний (почти что) журналист, и его очень очаровывала ситуация и разговоры в застолье. Да еще один раз, привскочив на каком-то тосте, Крученых громко сказал:
— Нет, мне сидеть надо, мне Маяковский говорил всегда: вы, Алексей, сидите, вы сидя страшней.
А вокруг пировали за столом тоже не простые прохожие, каждый с именем и интересен по-своему, жаль, что далеко не все были ему известны, кто есть кто. Странно и забавно было Рубину, чуть наклонясь вперед или отклонившись, видеть сбоку от себя через двух старушек живого Льва Никулина, о котором шутку помнил, широко ходившую некогда: «Каин, где Авель? Никулин, где Бабель?» Искал и не мог найти Рубин в мудром и привлекательном лице черты растления и предательства, что приписывались этому старику всеведущей столичной молвой. Ничего, кроме острого интереса, Рубин к нему не чувствовал и втайне укорял себя (молод был) за полную беспринципность, только не уходить же ему было отсюда из-за случайного соседства с многолетним осведомителем Лубянки (так ведь это же по слухам только, мало ли что наплетут на том лишь основании, что допускается писатель в сокровенные архивы сыска).
А сейчас бы, подумал Рубин, ушел? Тоже нет, признался он себе, только сейчас бы и укоров совести не было, притерся.
И еще там были разные древние старушки и старики, только Рубин в ту пору молод был, — так что и не особенно, должно быть, древние. Шел застольный оживленный разговор сразу ни о чем и обо всем, а еще были блины в изобилии и отменная соленая рыба. Один обмен репликами был настолько прекрасен, что Рубин тайно отметку сделал на сигаретной пачке обгорелой спичкой: не забыть. Одна из старушек чинно спросила юбиляра, часто ли и как подолгу он видел Блока.
— Я однажды был в гостях у Короленко, — сказал Крученых сквозь быстро поедаемый (текла сметана) блин, — и Владимир Галактионович сказал мне: когда я ем, я глух и нем.
И замолчал, готовя следующий блин.
— А Блок? — недоуменно и застенчиво спросила старушка.
— А Блока там не было, — невозмутимо пояснил маститый юбиляр.
Еще смеялись, когда пришел встреченный шумными приветствиями Сергей Михалков. Раньше только в кино и на портретах видел Рубин этого автора государственного гимна, поэта и лизоблюда, прожженного циника, тайно помогавшего семьям ссыльных, яркое российское совмещение подонка с интеллигентом.
Михалков сел возле юбиляра, вкусно выпил за его здоровье, смачно закусил блином с икрой, сочно и громко заговорил — немедля став душой стола и тамадой. Легкое заикание совершенно не мешало ему. Текли пряные литературные байки былых и нынешних времен.
— Ах-хотите, — вдруг сказал Михалков, — расскажу вам н-необыкновен-ную историю? Х-хотите?
И рассказал. Действительно очень стоящую историю. Произошла она в Будапеште в пятьдесят шестом году, когда было уже подавлено и растоптано обреченное венгерское восстание и карательные наши войска стягивались в городе на ночлег. Ехал по улице в казарму бронетранспортер, набитый доблестными российскими душителями (замечательными, скорей всего, парнями, слепыми и послушными исполнителями воинского приказа), когда с чердака откуда-то резко хлестнула по тишине одинокая автоматная очередь. Солдаты бросились в дом и оттуда выволокли немедля — разъяренные и растерянные одновременно — двух детей, девочку лет двенадцати и мальчика лет восьми. У девочки даже не вырвали из рук автомат, она держала его, обняв, как куклу. Их привезли в комендатуру. Что делать с детьми, никто не знал. Со взрослыми — проще простого и на месте, а тут младенцы. Стали звонить начальству, спрашивать, докладывать, выяснять. То ли ответственность на себя боялись взять, а то ли грех на душу. Мальчик наконец не выдержал и заплакал. И тогда сестра ему сказала — громко, все слышали в комендатуре:
— Не плачь! Мы умрем вместе. Ты погибнешь, как Олег Кошевой, а я — как Зоя Космодемьянская.
Молчание повисло над пиршественным столом. Тягостное и оглушительное молчание. Михалков, сперва окинувший слушателей победительным взглядом опытного рассказчика, оценил немедленно ситуацию и, чтоб общее оцепенение снять, назидательно сказал:
— В-вот какая моральная ясность должна быть в нашей литературе — чтобы дети не путались.
Кто-то хмыкнул, но молчание не разорвалось. Эта секунда, показалось Рубину, длилась тягостно и бесконечно, у него не хватило выдержки.
— А по-моему, — сказал он негромко, — моральная ясность должна быть в поступках государства, тогда и дети не будут путаться.
Он сконфузился от своей поспешливости (сколько старших было за столом, явной бестактностью было выскакивать), поймал одобрительный взгляд незнакомой сгорбленной старушки с яркими живыми глазами и увидел, как медленно-медленно поворачивает к нему лицо Михалков.
И за это мгновение промелькнула в его памяти, как перед утопающим, — жизнь, одна история, благодаря которой он уже ясно знал сейчас, что ему скажет Михалков. Это была давняя байка, пересказанная кем-то со слов Виктора Луи, журналиста и проходимца, известного исполнителя щекотливых поручений Лубянки.
Будто был некогда Луи в Иерусалиме по таинственным своим делам, а там зашел в православную церковь, где служил обедню приехавший от Московской патриархии невзрачный попик. После службы подойдя к нему, якобы спросил у попика Луи — кто разбил в церкви над дверью стекло. Просто так спросил, для завязки разговора, но попик радостно оживился.
— А жиды, батюшка, жиды, — проникновенно ответил он. — В праздник свой какой-то водки выпили и булыжничек в стеклышко звезданули.
— Вроде как не пьют они, не хулиганят, — усомнился Луи. — И с чего бы им камнями в храм кидаться?
Тут, согласно байке, осветились по-рысьи глазки попика непристойным для священнослужителя следственным огоньком, и он ласково спросил собеседника:
— А ты, кстати, милый, где в Москве живешь, кем работаешь?
Так что совершенно не удивился Рубин, что глаза Михалкова осветились острым огоньком, непристойным для служителя муз, и он ласково спросил у Рубина:
— А вы кем и где работаете, батенька?
Рубин вместо ответа неприлично засмеялся от утробной проницательности своей, тут же опять сконфузился от громкого смеха и так почувствовал себя, словно пролил на скатерть расплавленное для блинов масло из старинного кузнецовского соусника. И пролепетал невнятно, что литератор. Михалков отчего-то успокоился и потерял к нему всякий интерес, громко начав говорить с юбиляром о шальной и дивной его молодости, мигом вовлекши всех старушек в воспоминания. А Рубин выбрался из-за стола, чтобы украдкой записать услышанное по свежим следам: в каждой байке ему виделась тогда притча. А когда он возвращался к столу, уже прежний беспорядочный и шумный царил хмельной разговор, словно пролитое масло вытерли или собрали тряпкой аккуратно, а пятно заставили новым блюдом.
И запомнил Рубин после этого вечера свежее и странное свое ощущение: совершенно рядом то легендарное время начала века, вовсе нету в нем непостижимой мистики или необыкновенной загадочности, если вот из него живой человек сидит.
А еще тот вечер запомнился потому, что познакомился там Рубин со своей будущей (очень вскоре) женой. И уже который год жили они в покое и счастье — насколько существуют, естественно, в реальной жизни эти относительные понятия.
Глава вторая
— Нет, я никогда не встречал вашего Николая Бруни, мне очень жаль, — негромко сказал грузный и рыхлый старик, вальяжно полусидевший в кровати, тяжело вдавливаясь в две заботливо подложенные большие подушки со свежими наволочками.
Рубин обернулся — он искоса смотрел в окно — и живо спросил:
— А почему вам жаль?
— Я хотел бы всю жизнь прожить именно с такими людьми, а прожил… — Старик вяло, но выразительно шевельнул толстой белой кистью левой руки, неподвижно протянутой вдоль тела. В самом голосе его, в застылости большого и гладкого отечного лица — чувствовались бессилие и усталость. Старческие, последние. И в чисто прибранной проветренной комнате ощутимо пахло тленом, тем сладковатым запахом ухоженной, но разлагающейся плоти, который всегда примешивается потом к запаху цветов, приносимых на последние проводы.
Старик не продолжал, и Рубин не повторил вопрос. Он еще плохо понимал, с кем разговаривает и зачем сюда пришел. Вчера вечером ему позвонил давний его друг, врач-психиатр Фальк, дал телефон и адрес, объяснил загадочно и немногословно, что Рубину это будет полезно и интересно, старику же — просто необходимо повидаться с Рубиным, так что это нужно и Фальку, лечащему старика. Утром Рубин послушно позвонил, услышал бодрый и приветливый немолодой голос, приехал, дверь ему открыл пожилой снулый человек лет шестидесяти, оказавшийся сыном пациента. Он учтиво помог Рубину скинуть и повесить куртку, после чего молча провел его через коридор в комнату, где лежал отец.
О родстве неопровержимо свидетельствовали лица обоих — одинаковые, словно воспроизведенные специально. Отец назвался Владимиром Михайловичем, сын сразу вышел, старик молча и бесцеремонно разглядывал Рубина маленькими мутными глазками, странно выглядевшими на большом овальном лице под огромным лепным лбом и буйными седыми бровями. А еще темные фиолетовые мешки под глазами выделялись на мучнистом лице. Рубин глянул на старика, перевел взгляд на телевизор, косо повернутый на письменном столе, чтоб видеть экран с кровати, посмотрел за окно и на секунду застыл от великолепия маленькой церквушки, уютно и влажно светящейся куполами в сумеречном окружении тополиной листвы.
— Из окна замечательный у вас вид, — сказал он, чтобы что-то сказать.
— Да, но не на жительство, — хрипло откликнулся хозяин. Реплика понравилась Рубину, он засмеялся, повернулся, сел. Толстый старик молчал, и лицо его было неподвижно, только глаза неторопливо и ощупывающе скользили по гостю.
— А вы Фалька давно знаете? — неловко и напряженно спросил Рубин, мучаясь догадками, зачем он здесь. Взгляд старика остановился и ушел куда-то внутрь.
— Нет, — ответил старик тихо и размеренно. — Он был у меня два раза. Он, по-моему, отменный человек и, вероятно, прекрасный врач.
— А вы? — спросил Рубин. — В смысле — кто вы по профессии?
— Я понимаю, что вопрос не о моих душевных качествах, — неулыбчиво прошелестел старик с застывшим лицом, и только глазки его чуть ожили и смотрели теперь остро и твердо. — А я убийца, — спокойно чуть громче сказал он. — Профессиональный убийца.
Рубин вежливо и недоуменно молчал.
— Пушечных дел мастер, — пояснил старик. — Площадь поражения, убойная сила, покрываемость цели — такие у меня были проблемы. И я всю жизнь решал их очень успешно.
В его безжизненном тоне не слышалось ни юмора, ни вызова, Рубину было неясно — хвастает или досадует старик. И он опять промолчал.
— Мне объяснили это еще в сороковом, — старик ни единой мышцей лица не двигал, только лиловатые губы большого рта чуть заметно шевелились. — Я тогда молод был, на тюрьму досадовал сильнее всего, что она меня от дела оторвала, и все время порывался лекцию кому-нибудь прочитать о своем увлекательном ремесле. Вот в Бутырской тюрьме нашлись как раз и время, и аудитория. Рассказал немного, мне и говорит кто-то из старших: милый, да ведь ты убийца. А я так жизнерадостно в ответ: что вы, это же так нужно родине, так интересно, так…
Старик замолк и шумно выдохнул воздух. Снова шевельнулась и опала кисть руки.
— После я это вспомнил, уже в старости, — он цедил слова размеренно, веско и негромко. — А жизнь ушла. На что ушла, во имя чего, зачем — не помню.
И безо всякого перехода старик резко и требовательно спросил:
— Вы документальное что-то пишете? Фальк сказал, что документальное. — В твердом взгляде его тусклых и острых глаз не было ни доброжелательства, ни вежливого радушия, ни даже простой приветливости. Словно некий назойливый посетитель явился к нему с жалкой просьбой во внеурочное время.
— Документальное, — медленно ответил Рубин, решив в назидание этому огромному дряблому невеже быть отменно приятным собеседником. Улыбнулся через силу и добавил:
— Твердо знаю, что начисто лишен воображения. Так что способен только к документальному жанру.
— Это хорошо, — неулыбчиво сказал старик. — Это даже очень хорошо. Только вы вот на меня сердиться начинаете, злитесь даже. Странный и наглый тип, думаете вы, обездвиженный вялый мучной червь без проблеска человеческих эмоций. Даже на простое хозяйское радушие не способен.
Старик замолк на секунду. Рубин хотел было возразить, но белая старческая кисть руки шевельнулась так досадливо и повелительно, что он на полузвуке проглотил свои слова. И старик вдруг улыбнулся еле заметно, сразу резко потеплели и углубились его выцветшие глаза.
— Не серчайте, — сказал он тихо, но энергично. — У меня, поверьте, нету сил ни на что, кроме коротких фраз. Уже столько всякого с моей дурацкой плотью стряслось — не перечислить. Еле выкарабкался. Как сами видите — не слишком надолго. И еще я сон потерял. Я не сплю совсем, вообще. Дай вам Бог не знать, что такое долгая бессонница. Оттого мы и позвали Фалька. Тут и всплыло ваше имя. И не обижайтесь на меня. Дайте мне передохнуть и расскажите, о чем вы пишете.
Острый стыд за свое нетерпеливое раздражение подстегнул Рубина, отчего все известное ему о Николае Бруни было рассказано живо и неформально. Выслушав, старик прошелестел, что он не знал, к сожалению, художника Бруни и что ему жаль, что он не знал. Рубин спросил, почему жаль. Только тут и начался разговор. Старик расходовал силы экономно, теперь Рубин видел и понимал это. И на кисть левой руки все время смотрел. Очень она значимо шевелилась каждый раз на ворсистом оранжевом одеяле. А уже потом негромкие текли, очень отмеренные слова.
— Я родился в Петербурге, уезжал учиться из Петрограда, арестован был в Ленинграде, а хотел бы жить всю жизнь в Петрополе.
— В Петрополе? — переспросил Рубин.
— В несуществующем, условном, отвлеченном городе Белого, Ходасевича, Гумилева. Я бы слушал их стихи, завывал при случае собственные. Я всю жизнь писал стихи. Не пугайтесь, я не буду их читать.
— Этим меня трудно испугать, — усмешливо возразил Рубин. — Я графоман, сам их пишу.
— Да, я слышал, — без интереса продолжал старик так же размеренно и негромко. — Мне Фальк об этом говорил. Очень притом похвально отзывался. А я не верю. Я не верю ни в чьи сегодняшние стихи.
— Ни в чьи? — удивился Рубин.
— Ни в чьи, — твердо ответил старик. — Мое поколение еще нюхало пиджак живого Блока, а сегодняшним нюхать нечего.
Рубин проглотил обидное возражение, но старик, его чувства уловив, опять заговорил монотонно:
— Не обижайтесь. Я всегда очень обидно шучу, я знаю. Говорят, у Мандельштама был характер не лучше и не легче моего. И с ним я пообщался бы в Петрополе.
Рубина потянуло спросить, уверен ли уважаемый собеседник, что названные поэты с ним тоже захотели бы общаться, но старик опять его обиженную мысль угадал.
— Только вы меня правильно поймите. Я ведь сознаю, что им со мной общение нужно, как соловью бронхит, но ведь и Петрополь вымышленный, так что мечты мои вполне условны и бесплотны. С Бруни вашим я бы тоже виделся с удовольствием.
Это сразу примирило Рубина с платоническими помыслами старика — что-то донеслось до него, значит, сквозь марево бессонницы и недугов.
— Я бы и сам не отказался, — пробормотал Рубин.
— Если бы нашли общий язык, — снова спокойно оскорбил его собеседник. И снова поторопился объясниться, даже голос его обрел энергию и чуть блеснули глаза.
— Мы ведь невероятно разобщены. Посмотрите, как мы с вами сейчас бессильно пробиваемся друг к другу. Вы мне возразите, что в этом виноват я, — не спорю. Но лишь отчасти. Главное же, что мы каждый в себе. Очень это тяжкая работа — пробиться сквозь невидимую вату. Застреваешь на каждом слове. Знаете, мне часто думалось, что библейская легенда о вавилонском смешении языков — она вовсе не о рождении разных наречий, а как раз о нашей неспособности понять друг друга, каждый каждого, на родном для обоих языке.
— Хорошая идея, — одобрил Рубин искренне. — Правдоподобная.
— Я необыкновенно интересных людей встретил в Бутырках в мое первое и второе сидение, — сказал старик. — Но в первое я был мальчишкой и дураком, оттого и не умел их оценить, а во второе…
Он замолчал, устав и дыша открытым ртом. Рубин терпеливо ждал, потом спросил нарочито медленно, чтобы дать старику передохнуть:
— А вы много просидели в общей сложности за эти две посадки?
— Очень мало, — прошелестел старик. — Но я хочу вам рассказать. Мне кажется, что я поэтому не сплю. Оттого, что мне надо кому-нибудь рассказать. Чтобы это сохранилось у кого-нибудь. Чтобы не ушло со мной.
А не оттого ли, что убийца, подумал Рубин. Так ведь бывает: совесть и все такое.
— И мальчики кровавые в глазах, — сказал старик. — Вам хочется у меня спросить, не потому ли я не сплю. Не потому. Я ведь только рассчитывал, изобретал и проверял на полигонах. В этом смысле огромное, между прочим, облегчение современным убийцам доставил технический прогресс. Убивают они теперь заочно, массами, не сами и на расстоянии. Конечно, легче. Игра, а не убийство. Умозрительная задача. Да и не в том даже дело. Все равно ведь убийцы в личной жизни доброй души бывали и очень милые люди. Детей баловали, кошек обожали, розы разводили, на скрипках пиликали, искренне плакали, Апассионату слушая. И миллионы, миллионы от игры ума творцов этих ушли в небытие. И без поминовения ушли, вот это меня мучает неимоверно. Мы все, сегодняшние люди, быть может, потому и неполноценные, что наши умершие молчат, исчезнув. А они заговорить должны, тогда хоть внуки наши выйдут в человеки. Я совсем немного лично помню, но я должен, должен их назвать, я для этого позвал вас, я без этого уйти не вправе. Вы, скорей всего, просто не понимаете меня?
Он смотрел сейчас на Рубина грозно и напряженно. На огромном его лбу проступила испарина возбуждения.
— А для чего бы я тогда занимался биографией Бруни? — сухо возразил Рубин, ощущая смешную детскую обиду оттого, что его используют как поминального писца. «Зачем я в это ввязался?» — подумал он.
— Вставьте туда мой крохотный свидетельский поминальник, — старик не попросил, а потребовал. — Мне это очень нужно, поверьте. Уж не знаю как, но вставьте. Кроме того, мелкие детали и факты могут обнаружиться и истории послужить. Вы, например, знаете, что Ежов был жив еще в сороковом году? Это ложь была, что он расстрелян. Его видели в сороковом, этого гнусного карлика с чистыми фиолетовыми глазами.
— А он тоже был маленький? — этому Рубин почему-то более всего удивился.
— Очень. Ведь Коба рослых ненавидел. В судьбе людей, к нему причастных, рост играл очень значительную роль. Был даже случай, когда в Кремль вызвали сразу нескольких генералов, нужен был срочно какой-то крупный начальник, уж не помню, какого ведомства. Они стояли, обмирая от страха и не зная, зачем их вызвали, а Коба вышел, трубкой ткнул в самого маленького, сказал, как в детской считалке: «Ты будешь» — и ушел. И самый мелкий стал начальником, для тысяч богом и царем. Только давайте не отвлекаться пока.
Из нашей камеры в Бутырках осенью сорокового года моего соседа по нарам возили на очную ставку с Ежовым. Будете писать?
Рубин взял авторучку и раскрыл тетрадь. Ритм речи старика сразу переменился. Он медленно и тщательно диктовал. Глаза его смотрели не на Рубина теперь, а на тетрадь и ручку в руке.
— Егоров, начальник политического управления Киевского военного округа. Чекист еще с Гражданской войны. Очень когда-то мужественный и сильный, а в Бутырке — сломленный и конченый человек. Студень дрожащий. Он участвовал во всех вакханалиях и Ягоды, и Ежова, а теперь попал в мясорубку сам. И она его совершенно перемолола. Покалечен он был сильно на допросах — видно, упирался сперва. Ребра сломаны были, с суставами что-то, все лицо перекашивалось от боли, когда двигался. Но не стонал. У него в тюрьме словно глаза открылись — кажется, это его и доконало. Там еще были с десяток чекистов, но те держались особняком. Как волки. И надменно очень. Еще надеялись. Говорили, что их вот-вот обратно призовут. Кстати, Егоров много говорил о плановости этого террора. Из Москвы спускали разнарядку по республикам и областям: обнаружить столько-то и столько тысяч врагов народа. Те — в районы запускали соответствующее число. А уж там — по городам и селам. А еще полно было любителей выслужиться и план перевыполнить. Так что это тоже было стахановское движение. Области друг с другом соревновались, доклады делали. Вообще я интересную идею слышал: что такой размах арестов в тридцать седьмом объяснялся не чем иным, как окончанием пятилетки, то есть и для органов тоже годом ударного труда. Опять я отвлекся. Вот Егорова, значит, к Ежову и возили. Что-то новое готовили, очевидно, осенью сорокового — уже Берия мясорубку вертел. А вернулся Егоров в ужасе и омерзении. Что рассказывал, в деталях не помню. Говорил, что борода огромная у Ежова выросла, лопатой грязно-седой висит, что весь он дергался, что впечатление полного умственного расстройства. И что все время о Боге вспоминал — заметьте это особо и подчеркните. Потому что доподлинно известно: когда Ягоду посадили и к нему Ежов приходил в камеру дела принимать, то Ягода ему сказал однажды: знаешь, а я здесь в Бога поверил. Вот интересная какая метаморфоза с палачами происходит в финале. Вы знаете, что и Маленков на пенсии верующим стал и в церковь ходит? А ведь лично в сорок девятом людей пытал, у него чуть не в кабинете пыточная камера была. Кабинет — на третьем этаже, а лифт — в подвал. Там сейчас гараж, кажется. Это если стать на площади лицом к вертепу ихнему, то с левой стороны в торце заезд в подвал, вот он туда лично спускался каждый раз, без него не начинали. Интересно, отчего они в веру ударяются? Или просто подличают, надеясь Бога обмануть? Я отвлекся, извините великодушно.
Рубин поднял голову от тетради, но старик вовсе не смотрел на него. Он руке и ручке диктовал, только записью остро интересуясь. Досадливо дернулась вялая кисть, и Рубин снова склонился над тетрадью, как прилежный студент под носом лектора, следящего за его пером.
— О Ежове нам рассказывал и наш другой сосед. Кохановский Константин Владимирович. Он был что-то вроде замнаркома по морскому транспорту. Или по речному? Словом, по водному. Или главный инженер? Наверно. Туда назначили наркомом как раз Ежова, когда сменили его на Берию. Коба, он ведь несколько месяцев выдерживал свою жертву, мариновал для большей готовности. Ягода, когда сняли его, тоже наркомом почты был короткое время. Наркомпочтель это, по-моему, называлось. Да, так дальше о Ежове. Каждый день верзилы-охранники баскетбольного роста привозили карлика этого. Пробегали через вход, вестибюль осматривали, вели до лифта и с ним ехали. А он весь день сидел один в кабинете — крохотный за огромным столом. И жутким, вы не поверите, делом занимался: перед ним бумаги чистой лежала целая стопка, он целый день вырезал ножницами бумажных петушков, сразу кромсал их и бросал в корзину. С утра до вечера. Доклады ему пытались делать о насущных срочных вопросах — нарком все же; он и в это время петушков не прекращал вырезать. Выслушав, равнодушно говорил: «Хуйня!» — или давал невнятные то ли издевательские, то ли идиотские распоряжения, так что скоро от него просто отстали. Потом исчез. А Кохановского крепко мучили. От него можно было много получить.