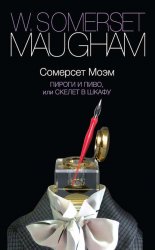Гарики предпоследние. Штрихи к портрету (сборник) Губерман Игорь
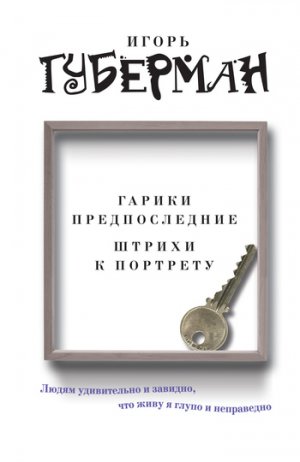
Рубин польщенно хмыкнул.
— По-моему, вы путаете плодотворность жизни с ее продуктивностью, — осторожно сказал Фальк.
— Какой перл психотерапии! — отказался Рубин от утешения, вовсе не за этим пришел он, хотя уныние и впрямь куда-то схлынуло. Он действительно не знал, как продолжать книгу. Выяснив основные вехи жизни Бруни, встал он перед необходимостью сочинять, но воображение, необходимое для вымысла или хотя бы домысла, отсутствовало у него или атрофировалось от неупотребления.
— Я не сочинитель, понимаете, я пересказчик, излагатель, я… — замялся он, объясняя Фальку свою досаду.
— Вы бормотург, — подсказал Фальк.
— Вот-вот! — обрадовался Рубин.
— Так бормочите на здоровье все истории, которые вам кажутся уместными, зачем вам непременно с болью и натужно втискиваться в известные вам жанры, чтобы непременно быть как все? Я этого искренне не понимаю, — чуть раздраженно сказал Фальк, забыв о функции врачевателя. — Нет, вы не свободный еще человек, вы не готовы, вы все еще тот вялый литератор.
— Какой вялый литератор? — ошеломленно спросил Рубин. Он от Фалька не ожидал раздражения, скорее какой-то необычной идеи ожидал.
— Я был уверен, что вам рассказывал, — оживился Фальк. — Эту историю мне повестнул один старик, сидевший где-то под Челябинском. В войну это было, на самом-самом ее исходе. Лагерное их начальство решило взбодрить двух подопечных, но не прибавкой, разумеется, еды в котел, а разрешением создать театр. Может быть, самим хотелось как-нибудь развлечься. А пьесу для театра заказали зэку, ошивался где-то на подсобных работах один придурок голубых кровей, бывший литератор, вялый и снулый человечек. Дернули его и поручили творить. Непременно чтобы про войну, но из французской жизни. Своя им уже тоже, видать, к горлу подступала. А он часто уголовникам в бараке романы тискал, и начальство знало через стукачей, что очень завлекательно выходило у него про западную развратную канитель. Вот ему такую же и заказали теперь пьесу. Чтобы, значит, про роскошную растленность с романтическим надрывом, но на фоне борьбы с фашистами. Очень он обрадовался такому заказу, сел в отведенную ему каморку, воспарил духом и быстро залудил роскошный боевик. Было там все как надо. Прелестная француженка Мадлен дурила немцам головы, как хотела, все у них в штабе вовремя узнавала и сообщала через своего любимого Жака партизанским связным Раулю и Мишелю. А еще по ходу дела там участвовали разные слои французского населения из романов, что читал и тискал ворам литератор: баронессы, виконты, графы, фрейлины и аббаты. Потому, что немецкие офицеры были падки на аристократов, как мухи на говно, в их салонах и дворцах Мадлен и охмуряла немцев, как последних фраеров. Партизанам оставалось только все подряд взрывать, что фашисты очень уморительно переживали под жуткий хохот публики. Если к этому еще прибавить, что весь высший французский свет изъяснялся слегка по-уголовному, то есть легко и непринужденно по фене ботал, то вы поймете, каков был общий успех. Мат, наверно, чем-то заменялся, но таким же выпуклым и сочным эквивалентом, этого на фене хватает. Да, вот еще что важно для завязки нашего сюжета в тугой узел: Мадлен была простая девушка, дочь портового рабочего, разумеется, а ее любимый Жак был графского рода, вследствие чего она из пролетарской гордости отвечала «нет» на его хамские домогательства, хотя сама сгорала от любви. А еще там был советский разведчик, предок и прообраз Штирлица, который обхождением и эрудицией покорял всех графинь и виконтесс, в то же время являясь заслуженным офицером вермахта, а также боевым наставником партизан, одновременно всюду пребывая. Словом, это было нечто высокое и настоящее, так что даже начальство и охрана из соседних лагерей приезжали эту пьесу посмотреть. На роль Мадлен сыскали какую-то девку из соседнего поселка, а виконтесс и графинь играли, по-моему, сами зэки, так что смеха были полные галифе. Вялый литератор необыкновенно расцвел и уже надеялся на досрочное освобождение. Но начальство вошло во вкус, и спустя несколько месяцев ему велели написать вторую пьесу. Чтобы те же в ней действовали герои, чтоб такое же было захватывающее идеологически выдержанное зрелище. Как говорят на зоне — те же яйца, только в профиль. Вялый литератор согласился, естественно, и сел воспарять духом. Но едва он заварил свой новый шедевр, как его дергает оперуполномоченный, то есть кум, говоря по-нашему, по-театральному.
Фальк с достоинством, как подобает зрелой Шехерезаде, прервал рассказ и неторопливо налил себе стакан компота из кастрюли, стоявшей на подоконнике. Взглядом предложил Рубину, но тот отказался, показав сигарету. Фальк усмехнулся, довольный лютой заинтересованностью гостя, и плавно продолжал:
— Дергает его к себе опер и спрашивает: ну что, Шекспир ебаный, как идет твоя парашная пьеска? Вялый литератор ему почтительно излагает свой волнительный свежий замысел: дескать, Мадлен оказалась вовсе не дочкой докера, а подброшенным внебрачным ребенком одного загульного банкира, который ныне безутешно рыдает, ищет всюду свою дочь и обещает за нее половину банка. Тут берет его на крючок наш офицер, чтобы за наводку на дочь получить ключи от склада боеприпасов; ключи эти мудаки-гестаповцы хранят, как выясняется, у банкира. Так что в финале пьесы будет оглушительно взорван склад, и взрыв этот составит звуковой и световой фон для объятий Мадлен и Жака, потому что Мадлен теперь уже не профурсетка из низов и ей нечего кобениться перед этим аристократическим козлом.
Видя искреннее наслаждение Рубина, Фальк опять сделал перерыв. Возвратившись через две минуты, он для вдохновения продолжал, уже не садясь:
— Опер это выслушал, и ему не понравилось. А что искусство принадлежит народу, опер понимал буквально, ибо куда от опера мог деться этот чахлый зэк. А народом все легавые чувствуют себя отродясь. Такая лабуда не прохезает, сказал опер, и не вешай мне лапшу на уши, я не фраер. У тебя выходит в этом разе, что все успехи французских партизан — от банкирских и дворянских выблядков, что идеологически неверно, а исторически — просто хуета. Давай иди и делай так, чтоб этот Жак оказался сыном какого-нибудь слесаря, зашедшего однажды во дворец, чтобы починить сортир, и поимевшего распутную графиню на кушетке в бальном зале. И тогда у тебя все концы сошьются, а также будет клизма всем капиталистам. Вялый литератор мекал что-то о законах жанра, но тут опер его спросил, не желает ли он в штрафной изолятор или барак усиленного режима с выводом на общие работы. Для освежения таланта, как выразился опер, чтоб не протух. И пошел наш вялый литератор заплетать сюжет, как приказали. Только сел и воспарил — выдергивает его начальник культурно-воспитательной части…
— Не прерывайтесь, умоляю вас, — воскликнул Рубин. — А то запал пройдет, я знаю, не прерывайтесь!
— Пожалуйста, — со снисходительностью и артистизмом ответил Фальк, выписав рукою в воздухе нечто загадочное и грациозное. — Продолжаю. Что ж ты, сучий потрох, пишешь нам для второй серии? — спрашивает вялого литератора этот мастер идейной перековки, семь классов кое-как закончивший, а со второго курса техникума выгнанный, — такое у них обычно образование. Наш вялый литератор излагает ход сюжета, как надиктовал ему опер. Нет, не проканает твоя жидкая баланда, говорит ему начальник по культуре. Не годятся нам такие выебоны. Война идет к концу, гражданин маратель, нам пора задуматься о будущем, дорогой Укроп Помидорович. Так что вы эту любовь закрывайте, я вам нужный ход подскажу. Пусть эта ваша Мадлен окажется не дочкой докера, а потерянным ребенком того самого графа, чей сын Жак думал раньше, что любит ее как мужик бабу, и старался опрокинуть где ни попадя. А любовь-то у него выходит — братская. А по-настоящему втюриться она должна в советского разведчика, и пускай они вместе начинают вращаться в высшем свете, подрывая основы капитализма и готовя победу ихней компартии на ближайших выборах. Я на этом варианте, гражданин писатель, настаиваю категорически. А не то сгною в карцере, так что выбирайте добровольно. А хотите, пусть ваш Жак просто окажется педерастом, все равно французы — все педерасты, и его тогда исключат из партии за еблю с кем попало, а с исключенным из партии и любви не выйдет никакой, это даже французу ясно, так что я ваше воображение чересчур не стесняю. Идите и думайте. И пошел наш вялый литератор к себе в каптерку. И что он, угадайте, сделал?
— Неужели повесился? — с искренним огорчением спросил Рубин.
— Я что-то там забыл, — ответил Фальк. — Еще его начальник производства вызывал. Насчет технических подробностей советовал. Вроде как послать двух баронесс и виконта с фрейлиной подсыпать песок в буксы немецких эшелонов.
— Повесился? — нетерпеливо спросил Рубин.
— Вот чего вы недооцениваете, милый Илья, так это перерождения души под влиянием настоящего творчества, — назидательно ответил Фальк. — Вялый литератор за это время человеком стал. Личностью. Он свою душу уважать начал и ценить, обрел он человеческое достоинство. Словом, ушел в побег. Уголовники ему помогли. И с концами. Как в воду канул. Правда, поучительная история?
— Да-а, — протянул Рубин. — Прямо притча.
— Я к тому ведь вам ее и рассказал. Пишите, как Бог на душу положит. Не втискивайтесь сами в рамки. Не получится, значит, не судьба. Но зато каким вы воздухом будете весь год дышать! Свежим, недозволенным, свободным. Где-то, кстати, у Мандельштама об этом есть. Правда же?
— Вроде бы… — кивнул Рубин. — Что ж, спасибо вам, благодетель, спасибо.
— С благодетелей надо деньги брать, они ведь получают большее удовольствие, чем их жертвы, — великодушно ответил Фальк.
— Хорошо мне с вами, — сказал Рубин, поднимаясь с кресла. — Освежающе. Скоро опять приду.
— Я как читатель возлагаю на вас надежды, — вкрадчиво сказал Фальк. — Вам не тяжело?
Глава пятая
Осенью тридцать четвертого года в Москву приехал французский летчик и конструктор Жан Пуантисс. Тогда много иностранцев посещало Страну Советов: кто работать (иностранным консультантам платили щедро), кто посмотреть на первый в истории эксперимент, кто меняться опытом с коллегами. Жан Пуантисс был полон доброжелательства, доверия и восторга. Он приехал с женой и сыном. И жена, и сын полностью разделяли его восторг. Если что-нибудь у вас и впрямь получится, говорил Жан Пуантисс, по части равенства, свободы и справедливости, то весь мир пойдет по вашему пути, вам даже не надо будет затевать мировую революцию. Вы со мной, кажется, не согласны, месье Николя?
Переводчик Николай Бруни вовсе не собирался охлаждать энтузиазм гостя — тот приехал на две недели, гостеприимство и приветливость русских коллег очаровали его, всё он видел в приятной розовой дымке, вовсе ни к чему было портить ему настроение унылыми словами правды. Что изменится от этих слов? Ничего. Ни в стране, ни в слепоте этого замечательного специалиста по рулевому управлению и прочим узлам самолетной оснастки. Каждый видит то, что хочет и может, незачем попусту омрачать настроение явно хорошему человеку. Инженер-конструктор Бруни, гид и переводчик при летчике-конструкторе Пуантиссе, был немногословен, деловит и приветлив. Он приглашал семью гостя к себе домой дважды или трижды, поил их водкой и чаем, играл им на рояле (шумно восторгался Пуантисс, сам немного музыкант), но даже дома был сдержан и уклончив, отвечая на вопросы гостя. Зачем тому правда, если он ее не видит сам? В семье Бруни было очень худо с одеждой (когда-то Андрей Белый точно заметил: торжество материализма упразднило материю), и хозяева дома не отказались принять в подарок от гостя кое-какие лишние одежки его сына и жены, у Бруни было уже шестеро, так что сгодилось всё. Приняли просто и со спокойным достоинством, ни показной гордыни, ни скрытой алчности не проявив, а у Жана Пуантисса вдруг покраснели и набрякли глаза. Мне стыдно, сказал он, жить во Франции в полном благополучии, когда такие святые люди, как вы, нуждаются в самом простом и необходимом, даже недоедают, ютятся в тесноте, но со святым упорством строят свое светлое будущее. Я преклоняюсь перед вашим энтузиазмом, добавил отважный летчик Пуантисс. Это был единственный раз, когда хозяин дома громко расхохотался, стеснительно прыснула его жена, но причину смеха оба решительно отказались объяснить. Простите нам невежливость эту, извинился Бруни, вспомнили из молодости нечто. Пуантисс внимательно глянул на него и больше вслух восторгов не проявлял, хотя остался в некотором недоумении.
Так что донос двух молодых сотрудников Бруни, что тот в беседах с французским летчиком поносил советскую власть, — был клеветой. А донос такой был, это известно стало позже и случайно. Судя по духу времени, донесли сотрудники — бескорыстно.
Хотя у близких Бруни не было и в этом полной уверенности, ибо вскоре эти двое напечатали в специальном авиационном журнале какую-то статью, о которой все в самолетной лаборатории отзывались как о краже идей исчезнувшего Бруни. Если это было правдой, то случившееся вскоре — было возмездием, причем на сей раз провидение не медлило, как обычно. Один из доносчиков погиб под трамваем, а второй по пьянке выбросился из окна и разбился в лепешку. Это стремительно произошло, и у Анны Александровны был повод для горестного злорадства.
Но донос был не только о беседах с Жаном Пуантиссом. Сообщалось также о фразе Бруни, громко сказанной в курительном закутке их института второго декабря утром. Обсуждали убийство Кирова. Большинство отмалчивалось, храня скорбно-отсутствующий вид. А Бруни разговаривал с кем-то, и в момент, когда все разом смолкли, его негромко сказанные слова прозвучали неожиданно слышно:
— Теперь они свой страх зальют нашей кровью.
Тему никто не поддержал, закуток стремительно пустел, в урну летели недокуренные папиросы. Люди уже были грамотные в те годы, особенно после недавней институтской чистки, где били себя в грудь партийцы, не донесшие вовремя на друзей. Процедура этого коллективного унижения всем была печально известна: каялись, шельмовали себя и близких, выворачивали грязное белье, полностью теряли лицо от страха потерять партийный билет.
Сильнее многих прочих грехов были как раз умолчание и недогляд — потеря бдительности.
Бруни арестовали в ночь с восьмого на девятое декабря. Обе комнаты перерыли снизу доверху, ворошили даже постель маленькой дочери; бумаги унесли все. Бруни невозмутимо курил во время обыска, обнял всех детей по очереди и был очень спокоен, уходя. Только хромал сильней обычного: одна нога после аварии была короче другой на семь сантиметров; он носил специальный каблук и, когда не волновался, почти совсем не хромал.
И стало в России на свободе одним человеком меньше. Всего одним. И очень незаметным. И поэтому никто ничего не заметил. И поэтому, быть может, столькое со всеми случилось.
Несусветная мешанина заполняла блокноты Рубина. В ней тонули крохи сведений, что удалось ему собрать о Бруни. Вместе с тем Рубин ясно чувствовал, что все эти записи имеют явное и тесное отношение к жизни Бруни, делают закономерной его судьбу, очерчивают его личную трагедию канвой предопределенности и безвыходности. Все истории, слышанные Рубиным и записанные им, были о тюрьмах и лагерях двадцатых, тридцатых, сороковых и пятидесятых годов. Старики, с которыми Рубин встречался, из-за склеротических зигзагов памяти вдруг спотыкались посреди рассказа, молчали секунду, вспоминая, где остановились, и плавно переходили в другое десятилетие, к другой истории о других людях. Только снова это было неизменно о страхе, доносе, аресте, унижениях и смерти.
Рубин долго разговаривал со стариком, работавшим сначала в Центральном аэрогидродинамическом институте, где недолго служил Бруни, потом в МАИ — Московском авиационном институте. Да, он отлично помнил Николая Бруни — тихого и тихо-ироничного, очень сведущего и старательного человека. В обоих институтах было много тогда ярких людей, все они бредили авиацией, считали, что на свете нету ничего важней и значительней полетов, работали самозабвенно и увлеченно, сплошь и рядом прихватывая вечера и даже выходные дни. Бруни жил сначала где-то далеко за городом, отчего не задерживался вечером ввиду долгой дороги, а брал журналы для перевода с собой. После ему дали комнату или две неподалеку от института, в бараке. Когда в институт приезжали иностранцы, переводчиком всегда бывал Бруни, четырьмя владел он языками свободно. Все попытки иностранных коллег перейти на бытовые темы они тогда с гордостью и надменностью отклоняли, ибо низменно и пошло им казалось говорить о быте, когда можно было обсудить самолеты. Да, да, именно такое было тогда время и настроение. А в институте понемногу исчезали люди, самые заметные, способные и яркие, это пошло еще с конца двадцатых, но об этом тоже не разговаривали. Не могу вам объяснить — почему. Вот отец у меня, к примеру, — он сидел два года в Бутырках еще в двадцать втором. По подозрению в принадлежности к монархической организации, к заговору. Его взяли, быстро выявилось, что ни в чем не повинен, а потом забыли о нем. И точно так же выпустили вдруг, он возвратился как ни в чем не бывало. И на работе никто не удивился, восстановили — и всё. А бывало даже, что виноват, а под честное слово выпускали. Вот с отцом сидел обаятельнейший человек, отец все время о нем после вспоминал: Игорь Ильинский. Нет, не артист, гораздо интересней. Бывший московский адвокат. Позвольте, мы ведь о другом о чем-то говорили? Нет, пожалуйста, расскажу вам об Ильинском, если хотите. Он сидел за свою поэму о Марксе.
И Рубин азартно записал пересказ одного из первых самиздатских произведений в России. О том, как воскресший Маркс нелегально перешел границу, чтобы полюбоваться воплощением своих идей в одной отдельно взятой стране. Для начала его, естественно, раздели донага какие-то лихие люди, и он долго шел по свободной русской земле в одной бороде. После где-то раздобыл тулуп — то ли украл, включившись в общую борьбу с частной собственностью, то ли нашел оброненный кем-то, уносившим слишком много. И в тулупе этом добрел до бывшей усадьбы, где главной приметой нового быта был валявшийся кверху ножками рояль. Здесь пересказчик даже вспомнил отдельные строчки (это была поэма). О том, как сиротливо бродил в бурьяне еще не пойманный петух, недавний многих жен супруг. И еще: покрыто грязью все, навозом и называется совхозом. Тут на бородатого основоположника накинулись с объятиями местные власти, накормили его, одели, подобострастно именуя «товарищ Марксов», и поскорей отправили в столицу. В переполненном людьми вагоне Карл Маркс ехал, боязливо съежившись, ибо вокруг висела в воздухе густая ругань в его адрес — бедолагу заочно поносили за то, что все это устроил именно он. Мнения попутчиков расходились: одни утверждали, что Маркс это придумал по жидовской злокозненности, другие настаивали, что обычнейший немецкий шпион. В Москве он немедленно натыкается на какой-то собственный памятник тех лет.
Снова запомненные строки: «Стоит на площади без крова не то бульдог, не то корова». Маркс подошел поближе и с омерзением плюнул на свою окаменевшую славу. Случайный прохожий сперва испуганно шарахнулся от такого опасного святотатства, но, увидев, что это не провокация, с чувством пожал Марксу руку, прошептав, что совершенно с ним согласен. Далее Маркс, естественно, попал на Лубянку, но оттуда его нехотя отпустили, и он уехал в какую-то деревню, чтоб отдохнуть и укрыться от позора. Снова старик вспомнил две строки: «То был медвежьего угла приют невежества и зла», а дальше шло столь густое перечисление деревенских кошмаров той поры, что рассказчик вдруг легко перешел на зеленое мыло, которое носил отцу в Бутырку для борьбы с мириадами насекомых. Целый зверосовхоз, сказал старик, клопов и вшей. А Ильинский? — напомнил Рубин. Выпустили под честное слово, что нигде не будет читать свою поэму, объяснил старик. Удивительные были времена! И уехал он (вроде бы) в Ясную Поляну, а судьба его дальнейшая неизвестна. Сгинул, добром такие не кончали, очень был способный человек.
Что-нибудь еще о Бруни тех лет, попросил Рубин. Был ли он общителен или замкнут? Читал ли кому-нибудь свои стихи? Известно ли было в институте, что он священник?
В блеклых склеротических глазах собеседника промелькнул какой-то отсвет воспоминания, словно дальняя одинокая искорка на мутном осеннем небе, и он сказал, что да, был однажды краткий разговор, он его запомнил из-за необычности идеи. Говорил ли это Бруни, он уже не может поручиться, ибо возможно — говорил другой инженер, тоже вскоре сгинувший незаметно и бесследно; однако Бруни присутствовал — и не он ли затеял разговор? А я в то время, сказал старик, был отъявленным и яростным комсомольцем, делал стенгазету и совсем иначе все воспринимал.
Обсуждали, вспоминал старик, подергивая головой, словно для стимуляции памяти, то чисто религиозное помешательство, что охватило страну. Говорили, точней, о светской, мирской разновидности такого помешательства. Но в повальной эпидемической форме. О резком разделении всего в мире на силы добра и зла, воплощающих свет и тьму. Абсолютное, беспримесное добро виделось в торжестве революции и всех ее лозунгов без исключения. И потому сторонники добра были заведомо вправе совершать любые деяния: казнить и миловать, разрушать и строить, отнимать и раздавать, возносить и низвергать, отменять и учреждать — сама причастность к добру предоставляла им мандат и индульгенцию. И по этой же причине к силам зла относилось все на свете, что мешало носителям добра. Зло меняло свои личины, изощрялось и изворачивалось, взывало к жалости, состраданию, человечности, милосердию, великодушию, сочувствию — но притворству этому не следовало внимать. Комиссары добра могли жечь, насиловать, притеснять; и даже малое сомнение в их правоте и праве — означало причастность такого человека к силам тьмы и праведную необходимость искоренить его. Безумие двуцветности постигло Россию.
Да, именно Бруни это говорил, сказал старик. А собеседник, старый спец, как их тогда называли, только детали вставлял, поддакивая описанию повального ослепления и бреда. Почему они меня не опасались, такое выбалтывая? Знаете, совсем не оттого, что я настолько был умен и порядочен. Нет, нет, склероз пока не съел меня целиком, и я не собираюсь приукрашать себя тогдашнего. Запросто мог донести — тем более что это не доносом тогда было, а обнаружением врага, то есть доблестью. Но видите ли, мне услышанное показалось правдой. Они слово «безумие» не употребляли, вот что важно, они говорили о сокрушительном господстве мифа во всеобщем русском сознании, только для них это был миф, а для меня ярчайшая реальность, и я свое высокое превосходство ощущал над их неверием. Вы меня понимаете?
Думаю, что да, честно ответил Рубин. Это ведь и вправду было нечто вроде угара, ослепления, почти повального гипноза, и кристально честные люди совершали искренне Бог знает что, сегодня страшно подумать. Отсюда же отчасти и пресловутый энтузиазм тех лет. Только неужели Бруни уже тогда все ясно понимал? Вы не задним ли числом сочиняете такой разговор?
— Клянусь вам, — сказал старик. И вдруг с горячностью добавил: — Век свободы не видать!
— Вы тоже сидели? — изумился Рубин.
— Обижаете, гражданин начальник, — ответил старик, — хуже я других, что ли? Но об этом в следующий раз, я очень устал с отвычки. Мало сейчас приходится разговаривать. Дайте мне денек отдохнуть.
А через день Рубин сидел на скамейке в хилом скверике возле метро «Новокузнецкая» и старательно вспоминал, записывая, только что состоявшийся разговор. Ибо смысл и значение закорючек, наскоро занесенных им в блокнот, боялся по дороге забыть. Позавчерашний собеседник был сегодня совершенно иным, нежели при первом знакомстве. Даже склеротическая мутность его глаз куда-то исчезла. Был он говорлив, подвижен, оживлен и хрупкой худобой своей, лысиной (и черная на ней шапочка-нашлепка), быстротой реакции на любое слово — напоминал неуловимо Фалька.
— Я помолодел, вероятно? — бодро спросил старик, усадив Рубина и точно истолковав его удивленный взгляд. — Этим я обязан вам. И вы за это поплатитесь, ибо я болтлив и памятлив. Курите, пожалуйста, я ведь видел, как вы мучились позавчера.
— Я вправду удивлен, Юрий Лукич, — Рубин такого резкого изменения в человеке никогда не встречал. Закуривая, он глянул искоса на диван возле своего стула — там лежал небанальный набор книг: «Процесс Промпартии», давно исчезнувшее из библиотек издание тридцать первого года; толстый серый том о Беломоро-Балтийском канале с сытым профилем Сталина, вытисненным на обложке; что-то еще явно тех же лет. Из всех книг торчали закладки.
— Смысл жизни появился, — просто объяснил старик. — Я вдруг кому-то оказался нужен. И совершенно иначе себя почувствовал. Я ведь, как видите, долгожитель, а такие старики кому нужны? Никому. Включая, разумеется, собственных детей.
Он властным жестом остановил вежливое недоверие Рубина.
— Нет, нет, декорум они соблюдают неукоснительно. Каждый вечер звонят, раз в неделю приезжают, раз в месяц предлагают съехаться. Причем бескорыстно — у обоих достаточно просторные квартиры. Мне это ни к чему. Их бабы вызывают во мне омерзение…
— Сколько их? — спросил Рубин.
— Два сына, соответственно две бабы, а что у них на стороне — не знаю, хотя сам пошел бы от таких женщин не только налево, но и направо. Внуки обычные, то есть прекрасные ребята, коим на меня вообще плевать, спасибо, хоть от подарков не отказываются. Но не будем отвлекаться. Хочу ответить вам на ваши вопросы и заодно защитить от вашего посягательства свою совесть.
Рубин не понял, о чем речь, но не решился прерывать. Старик положил перед собой лист бумаги, потянулся за карандашом, исподлобья косо глянул на Рубина и провел на листе две тонкие параллельные линии.
— Это Ленинградское шоссе, — объяснил он, — сейчас начнем, как говорил мой друг и шеф Туполев, открывать государственные тайны.
— Они мне как-то ни к чему, — недоуменно отказался Рубин.
— Про первую советскую шарашку, где работали арестованные ученые, неужели выслушать не хотите? — спросил старик. — О ней ваш Николай Бруни знал прекрасно.
— Но первая была на Ижорском заводе под Ленинградом, — неуверенно сказал Рубин, словно отвечая урок. — Там спроектировали и построили блюминг. А в Москве была шарашка Рамзина, где конструировали прямоточный котел. Вы о ней? Она к Николаю Бруни отношения не имела.
— Еще раньше одна была, — сказал старик торжествующе. — На год раньше. Еще до дела Промпартии. Более того, она, быть может, и послужила основой для этой дьявольской, этой блядской идеи сажать людей в тюрьму и в ней заставлять думать. Тюрьма — оранжерея изобретений, ведь это исключительно наша прогрессивная мысль. И вы знаете, на кого я грешу, подозревая в этой подлой придумке?
— На высоких чекистов, — немедленно ответил Рубин.
— Получится у нас разговор, — старик так энергично тряхнул головой, что камилавка сползла ему на лоб, и он досадливо поправил ее, не сводя с Рубина ярких — совершенно ясных сегодня — карих глаз. — Думали об этом или знаете?
— Заразился вашим воодушевлением и догадался, — Рубин был обрадован удачей и почувствовал охотничий азарт. — Этим озаренным людям запросто могла прийти идея поселить спецов в оранжерее, чтобы не пропало для республики их умственное богатство.
— Изо рта выхватываете, — одобрил старик. — Только думаю, что у чекистов и еще одна идея была: утвердить престиж своей конторы как существенного органа системы, то есть не только карательного и охранительного, но и с творческим потенциалом. Оттого они и собственный знак сделали на этом самолете.
— На каком самолете? Какой знак? — взмолился Рубин. — Умоляю вас, Юрий Лукич, я ведь ничего не знаю, я глубоко невежествен сразу во всем, я журналист.
Старик усмехнулся коротко и наклонил голову к бумаге. Ниже линии Ленинградского шоссе возник кружок с двумя башенками и нечто вроде входа в него.
— Петровский дворец, — объяснил старик. Вокруг дворца и ниже закудрявилось множество завитушек.
Петровский парк, вслух догадался Рубин. Старик кивнул. По другую сторону шоссе возникли два квадратика, сразу аккуратно заштрихованные твердой опытной рукой; после — еще несколько квадратиков, оставшихся пустыми; после — несколько линий вбок и вверх. — Взлетно-посадочные полосы аэродрома на Ходынском поле, понятно? — спросил старик.
— А эти квадратики?
— Ангары и складские помещения. И слушайте теперь внимательно. На Ходынском поле в декабре двадцать девятого освободили два ангара и устроили первую шарашку. Тогда арестовали конструкторов Поликарпова и Григоровича — из ведущих. Вам эти имена знакомы?
— Теперь да, — кивнул Рубин. — Я просмотрел вашу книжку об истории самолетов, с благодарностью сейчас верну.
— Подождите и слушайте, — старик обвел два заштрихованных ангара изломанной чертой. — Их арестовали за антисоветские разговоры и предложили выбор: будете сидеть или хотите работать? Конечно, работать! Из Ленинграда привезли конструкторов — там тоже нескольких арестовали, жена одного из них у нас останавливалась, когда мужу передачи привозила. Женщине во все века что главным казалось? Накормить своего мужика. Вот она и ездила. Посидит с ним в ангаре на коечке, пирожками покормит, а плакать — к нам. Им сказали так: стране срочно нужен ультрасовременный истребитель. Сделаете — освободим. Срок — три месяца на проект, два — на изготовление. И тут же срок изготовления на месяц сократили. Нечего, дескать, тянуть, если на свободу хотите. Три месяца на проект и макет, а еще через месяц — вылет. Рубин присвистнул.
— Да-да, — скупо улыбнулся старик. — Такие сроки. И в конце апреля они, батенька, уже испытывали гордость советского самолетостроения тех лет — истребитель И-5. И его прямо на летное поле приезжал смотреть Сталин. Кстати, он тогда одного конструктора участливо так, по-отечески, вполголоса спросил: не угнетают вас здесь? Такой вот был заботливый человек. А на вертикальном оперении сзади, на киле то есть, была у первого самолета пятиконечная звезда, а внутри нее буквы: В и Т. Догадываетесь?
Рубин даже головой не успел мотнуть, ибо риторическим был вопрос старика.
— Внутренняя тюрьма! — пояснил он с таким торжеством, словно гордился этой меткой. — То есть, понимаете ли, не только не стеснялись они, что тюремный труд используют, но даже рекламировали. Так что эту идею усатый с радостью из их рук принял.
— Подождите-ка, — перебил Рубин, — а конструкторов выпустили, как обещали?
— Человек пять-семь выпустили, а там человек тридцать было, я их судьбу не знаю.
Старик хмуро молчал, уставясь на лист невидящими глазами, и постукивал пальцами обеих рук по столу, словно что-то припоминая.
— А из шарашки выйдя, где они работали? — спросил Рубин. — Их в свои бюро вернули?
— Вернули, — старик с трудом выходил из каких-то нахлынувших воспоминаний. — Еще как работали! Я вот одну историю вспомнил, зоологическую. Не возражаете?
Ответа он не ждал, да Рубин и не собирался отвечать.
— Это на юге где-то было, потому что о баранах речь.
О мясной бойне. А на бойню водил баранье стадо козел-загонщик. Знаете, наверно, такую практику. Он их много лет водил, доведет до двери забойного цеха, и его сквозь цех пропускают, а их валят всех, и он других ведет. Много лет прошло, и то ли он состарился, медленно стал вести, то ли молодого выучили, но только однажды один мясник сказал другому, что пора бы уже этого козла тоже на разделку отправлять. И козел это понял, очевидно, — слишком долго жил среди людей. Утром, едва выпустили его из стойла, сбил он кого-то с ног и сбежал. Была в заборе щель — он через нее и скрылся. Посмеялись мясники, что такой понятливой оказалась скотина, и повел первую порцию баранов молодой козел. А старый, он не убежал, как оказалось, он сквозь щель смотрел, что будет без него. И когда увидел, что ведет молодой, то возмутился, пролез обратно, одним ударом рога отшвырнул выскочку и сам повел стадо баранов. Хоть и догадывался, что это его последняя прогулка. Так оно и было на самом деле. Что, интересно, у него сработало: чувство долга, многолетняя привычка или профессиональная страсть?
— Привычка, ставшая страстью, — задумчиво протянул Рубин. Он уже записал: «козел» — и понимал, что всю историю не позабудет.
— Вот мы все так и водили друг друга, — хмуро пояснил старик. — А главный наш мясник ухмылялся только в усы и нашей податливостью восхищался. Не зря он после войны поднял тост за терпение русского народа — это ведь какое утонченное издевательство было, если подумать. Но мы — не думали.
— Вот об этом я хочу вас расспросить, — Рубин хищно вытянулся вперед, взял сигарету, размял ее, не сводя глаз с собеседника, и так же ощупью закурил.
— Дайте и мне, — попросил старик.
— У меня без фильтра, — предупредил Рубин.
— Ерунда, я всю жизнь курил папиросы, — старик снова скупо улыбнулся. Лицо его разгладилось и посвежело. — Вот покуда курим, расскажу вам, как я книги в ссылке обожал. Как-то узнал, что в соседнем городке Краснотурьинске завтра будет подписка на сочинения Аксакова. Холод лютый, февральский, то есть с ветром. Пятьдесят пятый год пошел. Веку нашему пятьдесят пятый, мне слегка поменьше. Идти надо пёхом пятнадцать километров, на попутную машину ночью нет надежды никакой: часто грабили тогда шоферов. Пошли с приятелем. К семи утра там были, как сейчас помню. Продрогли так, что еле отогрелись в чайной.
— А зачем так рано, почему не утром? — не понял Рубин.
— Так ведь боялись, что очередь будет на подписку, а всего-то было два абонемента, как нам сказали, — терпеливо объяснил старик. — Вот мы там и топтались до открытия. То один сбегает погреться, то другой. Слушайте дальше. Открывают магазин, платим за первый том Аксакова, и вдруг приятель говорит: слушай, Лукич, а где же очередь? И в самом деле никого. Давай, говорит, еще часок тут переможемся, покантуемся в тепле и посмотрим. Так никто и не появился за час. И пошли мы с ним домой по такому же морозу. А он, надо заметить, — немец, а я — наполовину еврей, наполовину поляк, об этом мы одновременно вдруг подумали, и он мне говорит:
— Знал бы этот ебаный отец славянофильства, кто за ним в России по морозу бегает!.. — До сих пор я помню, как мы с ним смеялись.
— Прямо к моему вопросу вы меня и подвели, спасибо, — Рубин аккуратно придавил окурок, — про энтузиазм тех лет хочу у вас спросить — ведь был же он?
Юрий Лукич кивнул и посерьезнел.
— Для меня-то лично штука крылась в авиации самой. Такая там романтика была, такая страсть! С утра до ночи мы работали в охотку, сейчас трудно себе это представить. Уже не помню я, о чем статья была в каком-то журнале, а кончалась она вот как: дескать, на заоблачных сферах след самолета выпишет когда-нибудь слова: «сила», «смелость», «свежесть», «радость» — это и будет новой расшифровкой нашего СССР. Вы мне сегодня не поверите, но я тогда и впрямь так чувствовал. Когда опомнился, то поздно уже было.
— А когда? — спросил Рубин. — Прозрели когда?
— После войны, перед посадкой, — лаконично и хмуро сказал старик. И вдруг опять лицо его разгладилось и помягчело от какой-то мысли. — Удивительные мы сукины дети, — сказал он. — Если чего-нибудь видеть или понимать не хотим, то есть боимся, хоть и неосознанно, то не просто ведь не видим и не понимаем — нет, не видим и не понимаем роскошно — с теорией на этот счет, с концепцией, с идеологией. Дыма без огня не бывает, лес рубят — щепки летят, вокруг и вправду враги. А то и вовсе смешная штука: неприятный был и мерзкий человек, туда ему и дорога. Правда, правда! Жертвы, исчезнувшие — они вдруг жутко несимпатичными делались. Вот когда я сгинул, мне потом рассказывали, сослуживцы мои тут же заговорили: дескать, тяжелый был человек, насмешливый, жесткий, резкий. Интересно. Куда-нибудь придешь — нет человека. А спрашивать, где он, — боишься, вдруг соучастником сочтут. А он, быть может, просто болен. А ты, не спрашивая, идешь к другому или уходишь. Будто и не понял, что исчез человек. Но это уже после, когда крупная охота на всех шла. Рубин посмотрел недоуменно.
— Случай охотился, — пояснил старик. — Вероятность. Все под ней ходили. Поводов и причин не надо было. Лотерея. Двери в подъезде по ночам и лифта двери — они как выстрелы нам звучали: мимо или не мимо. Замолчали все уже тогда, в винтики и болтики превратились. А анекдоты были все равно.
Старик нервно облизнул губы. Легкая взбудораженность появилась в нем, и Рубин решил при первой же возможности отвлечь его и дать отдохнуть.
— Два профессора стоят в очереди за зарплатой, и один другому шепотом говорит: коллега, а они ведь начали нас сажать. А второй ему тоже шепотом: неудобно, мол, зачем говорите — они. А тот ему в ответ: пожалуйста, коллега — мы начали нас сажать.
Рубин засмеялся.
— Чувствуете? — хрипло спросил старик. — Было это ощущение — мы, а внезапно сменилось на мы и они, где-то здесь эта граница и проходит, когда наше прозрение началось. Только уже поздно было.
— Интересно, — протянул Рубин. — Знаете, Юрий Лукич, а вы мне очень важное сказали только что о Николае Бруни. Он в эту очарованность не впадал.
Старик остывал медленно, и в глазах его что-то недоговоренное плясало, но уже исчезли искорки. Рубин поторопился продолжить:
— Его арестовали по доносу — он сказал после убийства Кирова: теперь они свой страх зальют нашей кровью. Чувствуете местоимение, Юрий Лукич?
— Это убедительно, — старик улыбался, чуть ощерясь. Рубин поспешил добавить:
— Знаете, чем он последние годы после работы занимался? Он роман писал.
Старик молчал, глядя на Рубина доброжелательно и вроде бы с печалью или жалостью.
— Сколько талантов дал Господь, — бормотнул он, продолжая слушать.
— «Мертвая кожа». Так роман должен был называться. Больше года он его писал по ночам. Забрали рукопись при обыске. И с концами, разумеется.
— О чем?
Старик неподвижно держал голову, словно застыв.
— Не знаю. Никто не знает. Я — позвольте — снова закурю?
Старик прикрыл разрешающе оба глаза.
— У меня одна идея есть, ничем не подтверждаемая. Понимаете ли, он очень дружил с Павлом Флоренским…
— Знаю, знаю это имя, — старик чуть дернул головой и вновь застыл.
— Очень они часто ездили друг к другу, разговаривали часами. И вот я подумал: что, если роман этот беседами с Флоренским навеян? Содержание — о воплощении утопии. То есть о трагедии сбывшейся мечты. А название романа — от его завязки. Обнаруживает некий человек книгу в кожаном переплете, книга эта — свод утопий о всеобщем человеческом счастье. От Кампанеллы и Платона до Бэкона и остальных собраны там вековые утопические планы…
— У него сколько было детей? — внезапно спросил старик.
— Шестеро, — удивленно ответил Рубин.
— Одна нога короче другой после аварии, — утвердительно сказал старик. Лицо его было неподвижно и хмуро.
— На семь сантиметров, — недоумевая, ответил Рубин.
— Так что сам уже летать не мог, — торжествующе сказал старик.
Рубин промолчал, не понимая, почему был прерван. Старик сел поудобнее и как-то очень буднично сказал:
— Это не роман был, а повесть, я вам сейчас ее расскажу.
Тут уже застыл Рубин. Снова уставясь в стол, старик заговорил монотонно, вспоминая что-то давнее, но отлично сохранившееся в памяти.
— Действительно, та книжка была сводом утопий. Только были в нее вложены два кусочка кожи и текст на латыни. Дескать, лоскуток один следует размолоть до пыли и пустить по ветру — сбудется вековая мечта, воплотятся светлые утопии. А ежели что не заладится и выйдут хаос и разруха, то распылить надо второй, и все прекратится. Это, собственно говоря, повесть об одном безумном летчике. Он этот лоскут распылил с самолета. После неудачно сел, повредил себе ногу и стал смотреть, что будет. И принялась вековечная мечта сбываться. Только всё обратно ожиданиям происходило. Кровь лилась, брат на брата пошел, каждый был уверен, что прав, ибо во имя светлой цели злодействовал. После устоялась жизнь, застыла, но в кошмарных и уродливых формах. К власти только одни подонки и мерзавцы пробивались, кто умел пресмыкаться и ничем не брезговал на своем пути, переполнились тюрьмы, словно общество целиком обезумело. Школа прививала отвращение к знаниям, работа — омерзение к труду. Врачи презирали страждущих и болящих, служители закона попирали его на каждом шагу, ибо само понятие законности означать стало узаконенное беззаконие. Служители прессы — врали напропалую, лгали изощренно, ибо сами хотели выжить. Продавцы ненавидели покупателей, соседи — соседей. И все счастливыми притворялись, ибо любое недовольство каралось смертью. А всё, что человека человеком делает, — личное достоинство, чувство чести, великодушие, преданность дружеская и кровная, искоренялись так неукоснительно, что обузой только становились, тяготили человека так, что он и сам от них избавлялся, изживая и выдавливая, и в других переставал ценить и понимать. А порядочность — вовсе непонятной категорией стала. Словом, сильно человек опять в животное состояние подвинулся. А в ком личность сохранялась — приспосабливал себя на незаметность, укорачивал себя и оскоплял. И конечно, в общей лжи и молчании участвовал. Словом, понимаете, о чем я говорю и что перечисляю. В воздухе тоска повисла, тусклость и страх. Летчик этот бывший приходит в ужас оттого, что сделал, и умоляет своего товарища распылить второй кусочек кожи. Тот над ним смеется, объясняет, что это бред у него, следствие сотрясения мозга, историю России излагает, доказывает, что все естественно случилось. Только летчик безутешен, собирается покончить с собой от чувства вины, а сам он полететь не может: одна нога короче другой, его никак уже в авиацию не допустят. И товарищ поднимается в воздух со вторым кусочком кожи, но разбивается, летчик не может узнать, выполнена его просьба или нет. Но ему начинает казаться, что выполнена, — появляются люди, которые осознают, в какой страшный тупик загнала их воплотившаяся мечта. Тут начинается вокруг охота на прозревших, на тех, кто все понял и не хочет продолжать. Их опознают, их провоцируют, на них доносят. И летчика арестовывают тоже. Он умирает в тюремной камере, счастливый, что загладил свою вину.
— Потрясающе, — очень искренне не сказал даже, а выдохнул Рубин. — Как и где вы это прочитали? — и догадался еще за миг до того, как старик ответил также просто:
— Сочинил я это незадолго до ареста. После жена говорила, что я сам себе тюрьму напророчил. Забавное совпадение, правда?
— Правда, — удрученным тоном сказал Рубин, разочарование свое скрыть не сумев.
— Не сердитесь, — виновато сказал старик, — на поверхности эта идея лежит. Не пытайтесь вместо автора роман сочинить. Он еще когда-нибудь отыщется. Хоть рукописи и горят, как известно. Вопреки мечтам великих прозаиков.
— Горят, к сожалению, — Рубин засмеялся. И поднялся, чтоб уйти и поскорее записать услышанное.
— Мало я вам по делу рассказал, — пробормотал старик, тоже поднимаясь.
— Совсем не мало, — возразил Рубин, — про шарашку первую в России — очень интересно и важно. А как быстро эту надпись — «внутренняя тюрьма» — убрали с киля истребителя? — спросил он уже в коридоре.
— Убрали, кажется, сразу, — ответил старик. — А вот идея — она усатому запала. Удивительно мы сами свою тюрьму старательно строили, оттого и разобрать не можем.
— Поколения нужны, — ответил Рубин стереотипной банальностью.
— А по-моему, и наследственность у нас обреченная, — не согласился старик.
Пожимая Рубину руку, он сказал:
— Будете если писать, спокойно на меня ссылайтесь. Я уже свое отбоялся. А сыновья перебьются.
— Спасибо, — растроганно сказал Рубин. — Я еще не знаю, документально буду писать или насочиняю что-нибудь романное.
— Страшней, чем было, не сочинить, — брезгливо сказал старик. — И пользы сегодня больше от документа. Насочинялись досыта.
— Ну, а вот ваших сыновей, например, интересует ваш жизненный опыт? — спросил Рубин, зная заранее ответ.
— Их интересует то же, что ихних баб, — поморщился старик. — Видеомагнитофон и кассеты с детективами. Внуки растут на том же бульоне.
— Кино — штука заманчивая, — примирительно сказал Рубин.
— А потом отыщется козел-загонщик, — холодно ответил старик. — Желаю здравствовать. Заходите, если вопросы созреют.
Так он и остался в памяти Рубина, словно застрял, — сухой, маленький, с огромной лысой головой, склонившейся в прощальном кивке.
В доме не стало мужа и отца, и Анна Александровна вдруг с ужасом вспомнила и поняла слова старца Нектария (двенадцать лет назад в Оптиной пустыни произнесенные нехотя и словно в сторону): жаль мне тебя, вдову с шестью детьми. Сказано было походя и негромко — видно, старец Нектарий удержаться тогда просто не смог, ясно провидя будущее молодой прихожанки. И вот — сбылось. Но почему сбылось, муж-то ведь жив? Жив, уцелеет и вернется.
С этой верой она жила до пятьдесят седьмого года. И ее веру не могли поколебать даже письма, начавшие возвращаться в тридцать восьмом с пометкой «адресат выбыл». Но ведь «выбыл» — это о живом человеке глагол, после Николай куда-то прибудет и даст себе знать. Ибо настоящую веру и подлинную надежду никакие факты реальности не в силах одолеть. И спасительная мысль нашлась однажды, вскоре обратившись в полную душевную убежденность, логике и разуму не подвластную: выслали его куда-то на Дальний Север, где нужны православные священники, а писать оттуда пока нельзя.
Эта идея у Анны Александровны возникла в сороковых, когда церковь по мановению сталинской руки вернули к жизни, чтобы взбодрить народный дух ради военного успеха и слиянности помыслов на благо державе.
А пока история страны начала чугунным катком прокатываться по оставшейся без кормильца семье.
Из казенной квартиры их выселили весной тридцать пятого, дали все-таки перезимовать с детьми. А в мае пришли люди, предъявили бумагу и выбросили вещи на улицу. Они сперва смущались и стеснялись, отводили глаза в сторону и бормотали что-то утешительно-оправдательное (еще бы, ведь вчерашние сотрудники были, сослуживцы и приятели), а потом разогрелись от таскания связок с книгами, повеселели и уже что-то бодрое кричали вслед трем телегам (нашлись возчики, слава Богу), увозившим барахло и детей.
В доме у бабушки на Арбате пожили недолго: предписание выехать за сто километров пришло через месяц. Брат Лев смотался в Малоярославец и купил для них полдома. Начиналась совершенно иная жизнь.
Когда Рубин ездил в Малоярославец, одна из собеседниц сказала ему: жаль, что вы приехали поздно. Тут у нас совсем недавно умер дед, которого все звали Робинзоном. Отчего такая кличка? — удивился Рубин. А он с женой все время по-французски разговаривал, объяснила старушка, а когда ссорился, то на английский переходил, а еще они разговаривали на третьем каком-то, но я его не опознала. Дворником работал он до последнего года, никуда съезжать не хотел. Славный очень был старик, общительный, только уже тронулся маленько: в огороде копается и разговаривает громко сам с собой. Видать, одичал.
Рубин рассказал это при случае Фальку.
— Человек, лишенный среды, превращается в Пятницу, — сказал Фальк.
И Рубин тут же эту мысль тайком зарифмовал.
Семье Бруни очень повезло. Директорша местной школы почти сразу по приезде сама пришла к ним в избу. Извините, вам не доводилось лет пятнадцать назад бывать в Оптиной пустыни? Доводилось. Тогда вы, может быть, припомните меня? Я жила от вас через дом и следила всегда за вами, потому что старалась перенять походку и выражение лица. Девчонкой была. Очень хотелось стать такой же красивой и вести себя с таким же достоинством. Может быть, пойдете к нам в школу преподавать немецкий язык? Ведь наверняка же знаете. А что диплома нету, это ерунда, я вас приму, а вы поступите в заочный институт, и мне тогда не будет нареканий. Хотите?
И Анна Александровна стала преподавать немецкий. Во множестве мелких городков и поселков страны появились тогда люди, волей судьбы выброшенные из прежней жизни. С одухотворенными измученными лицами и великим запасом самых разнообразных знаний. Образованные, доброжелательные и беспомощные питомцы русской культуры, вытесненные и изгнанные из нее, они знали иностранные языки, они играли, пели и рисовали, а заниматься были готовы чем угодно, ибо надо было как-то выжить и как-то прокормить детей. Они устраивались где и кем придется: преподавали в школах (если их брали), шли в бухгалтеры, счетоводы, воспитательницы и няньки, работали в клубах, шли в посудомойки, официантки и уборщицы, но повсюду оставались сами собой. Читали книги, всем на свете интересовались, щедро делились тем, что знали. И, может быть, аура культуры, осенявшая их, пробудила или сохранила человеческие черты у тех, кто с ними общался, несчетное количество молодых душ спасла или предохранила от одичания, разбудила способности и духовные устремления в подростках. И если книги о влиянии декабристов на развитие культуры в Сибири уже написаны, то об этих сосланных, вытесненных и униженных — еще пока не сказано ни слова, да и неизвестно о них толком ничего. А ведь они преподавали в провинциальных школах, училищах и институтах, руководили самодеятельностью, просто, наконец, одалживали книги соседским детям. Кто оценит и измерит степень их заслуги в том, что полностью не одичала страна? Кто-нибудь, когда-нибудь, приблизительно. Если вообще оценит.
А Его Величество Случай продолжал работать с надежностью взведенной пружины: дочь учителя литературы из той школы служила в авиационном институте, и в одно из воскресений было подробно рассказано за чаем, кто именно донес на Николая Бруни. Анна Александровна тут же написала об этом мужу в лагерь. Бог простит, легкомысленно ответил он.
Письма он писал бодрые. В далеком северном городе Чибью (еще не ставшем Ухтой) он работал лагерным художником, даже право выходить в город имел, на уголовном языке именовалось это — «выхожу один я на дорогу» (знал бы Лермонтов, на что пойдет его строка!). Надеялся Бруни на скорую встречу с женой — она выхлопотала через кого-то свидание, — умолял всех за него не волноваться и беречь друг друга. Письма его не сохранились (дети сожгли однажды ночью, когда исчезла мать в сорок шестом), только одно случайно уцелело.
Письмо это Николай Бруни писал своей матери (Анна Александровна Соколова, как и предсказал ей старец Нектарий, пережила всех своих детей и умерла в сорок восьмом, вскоре после смерти сына Льва). В основном содержались в этом письме воспоминания о счастливом, безоблачном, полном любви и нежности детстве. И о детских страхах, разумеется. Ибо в их загородном доме в бревнах всех стен (дальше цитата из письма): «…жили страшные духи. Это были карлики, чертенята и множество других, еще более страшных полуптиц-полузверей, хотя все они были маленькие, не больше курицы. Они жили в стенах, и их можно было видеть только тогда, когда они перебегали между двойными рамами, но это случалось очень редко, и пробегали они так стремительно, что их нельзя было как следует разглядеть. Они боялись показываться детям на глаза — так же, как и мы, дети, боялись с ними встретиться. Но мы хорошо знали: они не могут тронуть человека даже в темноте, если зарыться под одеялом с головой, чего нам не разрешалось делать и что нам приходилось делать тайком, чтобы избежать опасности, так как иначе заснуть было невозможно от страха».
Шли потом воспоминания об отце и любви сына к обоим родителям; после — описание своей детской влюбленности в двоюродную сестру Машу; дальше Николай Бруни собирался перейти к своим сегодняшним (тогдашним) ощущениям и чувствам, начав издалека.
«Чтобы лучше понять, вспомни твою встречу (вероятно, самое большое, что было в твоей жизни) с Крамским. Я уверен, что эта встреча и страдания, пережитые тобою, глубоко определили все то метание, которое привело твою душу к разорению. (Не хочу этим отнюдь сказать, что ты бедна духом!) Ты не смогла сохранить верность моему отцу, потому что эта верность была бы только верностью человеку-мужу, а не пути, которого искало все твое существо…»
Далее шли очень личные размышления о них обоих — матери и сыне, — об одинаково остром их желании выстроить осмысленную цельную судьбу и о сокрушении надежд на это. Рубин выписал отчаянную и безысходную формулировку:
«Можно ли представить себе, что значит — быть одаренным так богато и так разносторонне, каким ты меня родила, и так беспредельно и остро ощущать бесцельность жизни в том тупике, который определился?!»
Странные это были мысли для христианина тех лет, поскольку они более годились для философа-экзистенциалиста второй половины века; но ведь на то и был Николай Бруни так необычайно одарен.
Остальные письма дети сожгли, более о чувствах его и мыслях лагерной поры ничего узнать было нельзя.
Осенью тридцать шестого года заключенный Бруни был счастлив — это можно говорить с уверенностью. В память столетия со дня гибели Пушкина местное начальство вдруг решило поставить поэту памятник. Делал это зэк Бруни, и ощущения он пережил высокие. В декабре того же года он рассказывал о них жене — ему в награду дали краткое свидание. И о том, что пережил он при аресте, в первые дни тюрьмы, — рассказывал тоже. К острому чувству нереальности всего происходившего примешалось у него тогда странное и очень сходное воспоминание о минутах, некогда проведенных им в аэродинамической трубе. Предложили друзья-коллеги, а он из любопытства согласился. Пол в трубе был слегка покатым, а вообще этот восьмигранник из дерева длиной метров пятьдесят выглядел внутри даже уютно. Трехметровый диаметр позволял стоять во весь рост. В мягком полумраке вдали виднелись в торце огромные лопасти вентиляторов. Люк закрыли, донеслись неразборчивые слова шутливого напутствия, и полированные лопасти начали медленно вращаться. Потекли тонкие, нежные сперва, струйки. А через секунду уже трудно было стоять. Бешено понесшийся поток воздуха забил дыхание, пригнул к полу и повалил. Бруни кубарем докатился до противоположного торца и вцепился в решетку; жуткое наступило ощущение, что сейчас снесет и ее. Так же мгновенно поток воздуха спал, только еще с минуту звенело в ушах, и медленно возвращалось сознание. В люк уже заглядывали друзья, они смеялись и галдели, обсуждая, что случилось с бывшим летчиком. А была ведь скорость воздуха небольшая, как ему объяснили, — скорость урагана, можно было сделать вдвое больше. Ощущение бессилия и проглоченности, чувство, что несет неодолимым потоком, и смута в сознании происходящего — это как раз Бруни и вспомнил в первые же дни ареста и, посмеиваясь, рассказал об этом жене. Привезла она домой и два его автопортрета — лучше бы не привозила, наверно, потому что принималась плакать, случайно посмотрев на стену, где один из них висел.
В тридцать седьмом ей отказали в свидании. Муж писал, что это временно, что они скоро увидятся, что вообще уже прошло почти три года, и он вот-вот снова обнимет их всех.
В тридцать восьмом вернулись обратно письма. Анна Александровна существовала по инерции, совершенно механически совершая действия, входившие в распорядок жизни.
А время между тем кипело — героическое всюду и вокруг. О полетах через Северный полюс в Америку, о папанинцах, дрейфующих на льдине, об успехах, достижениях и победах — надрываясь, кричало радио и трубила печать. Сотни тысяч трудящихся исправно слали миллионы писем, то приветствуя бесчисленных героев, то требуя нещадно покарать презренных подсудимых-отщепенцев. Кто-то приезжал из-за границы, о его восторгах сообщалось в подробностях. Кто-то приезжал и после хаял социализм — он оказывался выродком и извращенцем. Кровожадные изверги-фашисты превратились вдруг в соратников и друзей. Махровым цветом расцветали с каждым днем науки и искусства, и успехам нашим жарко рукоплескала планета в каждом выпуске наших новостей и известий.
Осенью сорок первого года в Малоярославце уже были немцы. Учительницу немецкого языка привели в комендатуру в качестве переводчицы. А из Малоярославца уходя — забрали с собой. Сын, по счастью, был в Москве, отрезанный от дома, старшая дочь — в Ташкенте. Четырех дочерей Анна Александровна бросить побоялась, все они поехали с ней.
Как тянулись годы рабства на чужбине, Рубин сестер подробно не расспрашивал, ибо одинакова у всех была эта трагедия, воспроизведенная миллионными тиражами: рабство плена описывать в России дозволялось. На чужбине ведь оно и вправду тяжелей, дома это всем казалось не рабством, а скорей тяжелым периодом, затянувшимся на несколько поколений.
Зато дома все вокруг свои. Дочери работали в услужении в немецких семьях, мать стирала где-то в госпитале, в сорок пятом удалось собраться вместе. Бесконечные лились слезы и рассказы о непрерывных унижениях. Одна дочь была прислугой в доме важного профессора-химика, жена профессора однажды чуть не убила ее: двухлетний ребенок, за которым она присматривала, случайно обварился кипятком, а так-то ничего, жила себе и жила на кухне. Вторая дочь была в деревне, доила коров, ходила за свиньями, полола огород, растила кур, и был еще породистый бык на особом присмотре и уходе. Вставала в пять, ложилась к ночи. Кожа у нее сходила с ладоней. Было ей пятнадцать лет. Все бы ничего, только сын хозяев бил ее при каждой встрече и старался побольнее попасть. Ровесник. После откупили ее у хозяев две сестры-монахини, жившие вместе со своим слепым братом. А в подвале они всю войну прятали, как оказалось, еврейскую семью: мужа, жену и пятерых детей. У монахинь ей жилось хорошо.
Ждали своей завтрашней судьбы с нетерпением. И она замелькала бесчисленными всюду объявлениями: «Дорогие репатрианты! Родина вас ждет, Сталин не забыл вас, Отчизна вас не накажет. Являйтесь в комендатуру!» Бегом они бежали, не раздумывая ни одной минуты.
После были несколько месяцев лагеря для перемещенных лиц. Хлеб, горох, баланда. Но вокруг свои — русская речь! Подтвердилось, что в плену себя ничем не запятнали. Эшелоны, долгая дорога, слезы от встречи с родиной… В Малоярославце своего дома у них уже не было — его занял какой-то местный начальник (не из крупных) и возвращать отказался. Аргумент он веский приводил: за это время сделал новую крышу, так что вроде дом теперь им и построен. Жаловаться побоялись, но начальник этот сам и помог: дал и им небольшую хибарку из брошенных в войну. Мать пошла прописываться, сказала, что будет через час.
И вернулась через десять лет. Судили ее в клубе, принародно — как пособницу немецких оккупантов. За те два месяца, что была она переводчицей в комендатуре. А двух старушек, хотевших рассказать, что переводчица спасла их дочерей, — не допустили выступить, чтобы не тратить время.
Мать вернулась домой глубокой старухой, первое время плохо различала детей, билась время от времени в приступах эпилепсии. А еще у нее астма была, нажитая в лагере, — врачи сказали, что, если приступы совпадут, она не выживет. Но она упрямо жила, ибо никак поверить не могла, что ее муж Николай Бруни мертв. Не выходила из головы идея, что послали его куда-то, где не хватало священников. А потому вот-вот вернется. Разубедить ее было невозможно. Прямо на улице бросалась она к пожилым мужчинам с сединой, пристально вглядывалась в лица. Дочь сказала: сильная сразу становилась, не удержать ее было в эти минуты.
Приступы эпилепсии каждый раз бывали точно (кроме неожиданных и внезапных), если исполняли по радио бетховенскую Лунную сонату. Это было любимое произведение Николая Бруни, он и дома его часто играл, а в Клину когда жили, в дом Чайковского ходил специально, чтобы на том рояле поиграть. Услыхав, что будет исполняться Лунная, радио спешили выключить, но не всегда успевали. И немедленно начинался припадок.
Тут опять невольно вспомнился Рубину великий гуманист, плакавший некогда от исполнения «Апассионаты», — ибо сказал тогда великий гуманист, что от музыки этой хочется ему плакать и по голове кого-нибудь гладить, а по голове — только бить надо сейчас. И добился. Так что приступы эпилепсии от Лунной были у Анны Александровны Бруни в прямой и непосредственной связи с той успешно подавленной в себе человечностью у Владимира Ильича Ульянова.
Мать умерла в пятьдесят седьмом, спустя неделю после получения справки о посмертной реабилитации мужа. Лучше бы не приходила эта справка, хмуро пояснила дочь, мы ведь знали, что давно уже нет отца, одна она только верила — не в себе была после лагеря.
В доме их, как издавна повелось, непрерывно кто-нибудь жил. Теснота неимоверная была, но жильцов пускали безотказно. Постояльцы здесь жили по году и больше, пока сами не становились на ноги, — ибо всё это были люди из лагерей и ссылок, ограниченные сто первым километром.
Удивительную книгу держал Рубин в руках, бережно полистывая ее и слушая пояснения. Сохранилась домовая книга той хибарки, где ютилась вся семья. Постояльцы аккуратно прописывались там, без прописки жить нельзя было советскому человеку. Двое так и умерли здесь. Дочь припоминала, затрудняясь: минуло много лет. Сказывалась приязнь к интеллигентам, сказывался дух фамилии. Музыкант из Большого театра. Судовой врач. Художник. Цирковой артист и режиссер (когда-то весь мир объездил, меланхолично пояснила дочь). Женщина — театральный режиссер. Архимандрит (ой ли? — удивился Рубин. Да-да, подтвердила дочь, в роскошной рясе ходил, к нему люди шли и шли в его каморку). А еще был некий Кривошеин, родившийся во Франции, в Булони, а прибыл он со станции Потьма, из Мордовии. Снова проглядывалась ясно история великой страны. А в конце была подписка владельца дома: обязуется он старую домовую книгу хранить как архив и справки по ней выдавать только прокуратуре, управлению внутренних дел и управлению государственной безопасности. Замечательная фраза была в конце: «Об ответственности я предупрежден». Так что и сообщать, кто где живет, было, оказывается, покушением на государственную тайну, а за разглашение — ответственность.
Дети — четверо из шести — были немолоды. И уже у каждого свои были дети. Только никаких почти не видел Рубин несомненных родовых признаков той блестящей артистической фамилии, что когда-то прижилась в России и хорошо была в ней известна. И от этого очень тоскливо ему было, и необъяснимое жгло чувство собственной вины.
А в Ухте остался памятник Пушкину, созданный неизвестно кем и когда, и к нему стали в последние годы собираться молодые поэты, чтобы читать свои стихи по праздничным дням. А создатель памятника этого — неподалеку лежит. Только неизвестно пока в точности где. И от остальных его уже не отличить. От остальных десятков миллионов.
— Вы мне про русский народ лучше ничего не говорите. Я его двадцать один год изучала в тюрьмах, лагерях и ссылках, а светлее места не бывает, чтобы человеков разглядеть. Если ты споткнулся или зашатался, русский человек тебя под зад толкнет. И не по злобе или ради собственной пользы — просто так толкнет. И еще с твоим же другом станет о тебе жалеть по пьянке, а если друг не так о тебе скажет, он ему за это морду набьет. Или вдове твоей поможет. Или переспит с ней. У меня к русскому народу такой антисемитизм выработался! Да, да, не смейтесь, я давно эту формулу придумала. Я сама наполовину грузинка, на четверть немка, а на четверть русская. Имею право. И сходилась я всю жизнь с людьми, ни на их национальность не глядя, ни на партийные заблуждения. В первой ссылке я в Уфе сидела, в лагерь меня оттуда забирали — так вот, знаете, какая у меня была формулировка? За близость к троцкистско-бухаринско-зиновьевскому-право-лево-эсеровскому-анархистско-меньшевистскому блоку. Вот вы опять хохочете, а это просто перечень моих друзей по ссылке. Так что я повидала, не жалуюсь… Вы пишите, пишите, не стесняйтесь, я уже ничего не боюсь, хватит. Правда, и раньше не боялась. Меня когда взяли первый раз, так за меня Горький просил Ягоду. Тот обещал посмотреть и разобраться. Я сейчас вам объясню, почему за меня сам Алексей Максимович просил, сперва только про Ягоду закончу. И вот этот выродок сообщает через день: ничего не могу поделать, Алексей Максимович, язык бы ей укоротить, тогда бы и помочь удалось. А это я просто следователя спросила: зачем вы меня, вполне советского человека, взяли на ваши краткосрочные курсы антисоветских убеждений? Неужели вы думаете что после всего, что я увидела в Бутырке, я смогу верить хоть единому вашему слову? А он, дубина, все это в протокол записал. Ягода еще Горькому сказал: Алексей Максимович, вы за нее не бойтесь, такие, как она, даже у нас не пропадают. И ведь прав, скотина, оказался. Между прочим, наша семья в некотором смысле ответственность за этого мерзавца несет: когда маму выслали из Петербурга в Нижний Новгород, она немедленно кружок завела по изучению социал-демократии, а туда стал ходить юный сын аптекаря Генрих Ягода. Мы за все, за все сами в ответе. А отца моего имя вам уже, должно быть, ничего не говорит? Гогуа. Калистрат Гогуа. Знаменитое было имя. Самую первую забастовку на Кавказе в паровозном депо еще в девяносто каком-то году — мой отец организовывал. После он был членом правительства Грузии. Там его и повязали — обманом, когда Грузию большевики захватили.
Обещали неприкосновенность, конечно, а после всех арестовали. Я перескакиваю, извините. А на маме моей отец женился как раз в ссылке. У мамы семья зажиточная была, с корнями, породистая. И все были за революцию, между прочим. Бабушка только два слова все время путала: большевики и белошвейки. А когда мама им о женихе сообщила — он машинистом паровоза был до ссылки, то бабушка замечательно сказала: конечно, революцию делать надо, только зачем при этом за рабочих замуж выходить? Но потом они его очень полюбили. Он насквозь прозрачный человек был: чистый, умный, озаренный…
Нет, они не в обычной тюрьме сидели, когда их из Грузии привезли. Что вы! Был для них устроен специальный Суздальский политизолятор. В старом монастырском здании он помещался. Вот где показуха была, вот где туфта! Я сейчас все время об этом изоляторе вспоминаю, когда к нам разные коммунисты из-за границы приезжают, а им так мозги пудрят, что даже князю Потемкину с его деревнями не снилось. Так это еще тогда началось, тоже ведь разные социалисты приезжали, уже не помню их фамилий. Как, мол у вас обстоит дело с членами разогнанных социалистических партий? Замечательно обстоит с ними дело: рядовые члены покаялись и влились в рабочие коллективы трудящихся, а вожди — благоденствуют в Суздале. Желаете посмотреть? Поехали! А в Суздале заводят как бы в первую попавшуюся камеру, где на столе благодать и блаженство: мягкое кресло возле письменного стола, бумага и чернильный прибор, на стенках фотографии родных и близких, книг полным-полно, живи и радуйся. Только одна маленькая неувязка: все ссыльные в лес по ягоды пошли, осенью — по грибы, зимой — на лыжах. Да они с вами разговаривать все равно не будут, не хотят они ни с кем общаться, им неинтересно, пока собственные теоретические разногласия не увязали, так что глянули — и поедемте обратно. И уезжали. А из этой показательной камеры все потом растаскивалось по местам: у кого-то из начальства было кресло, у кого какие книги на полках стояли — все это просто собирали для впечатления. Фотографии у всех и вправду были, так что в целом такая липа выходила — пальчики оближешь. В полном восторге уезжали приезжие, так вот всяким роменам ролланам с бернардами шоу головы и задуривали. А заключенных после отъезда гостей приводили обратно из какой-то камеры дальней. Кстати, и так никто бы слова лишнего этим сраным социалистам не сказал: уедут ведь, а ты останешься. Да из гордости не сказали б они им ни слова, такие были люди настоящие. Как в Ухте, помню, я тогда в строительном управлении работала, а там зэки все, но бабы вольнонаемные тоже были. Вот одна новенькая и спрашивает инженера-зэка: как вас кормят на зоне-то? Он сам профессор бывший, математик, зелено-желтый весь сидит, зубы цинга съела, глаза запавшие — так ведь он этой дуре жаловаться разве станет? Замолчали все разом, а он так вежливо ей отвечает: ничего кормят, благодарствую, только очень утки с яблоками надоели. Каждый день утки с яблоками, прямо не смотрел бы, а вот индейка с рисом или телятина с грибами — это не слишком часто, больше по выходным. Даже эта идиотка сообразила, вся пятнами пошла. Ах, какие люди там сидели! Я уж не про ум и таланты, я про человеческое их достоинство все вспоминаю, что же их-то убила Россия, зачем?
Рубин отложил ручку, чтобы отдохнула рука, откинулся в кресле и блаженно закурил, оставив спичку гореть, пока Ирина Калистратовна Гогуа разминала папиросу. Он пришел к ней всего час назад, но чувствовал себя так, словно долгие годы поддерживал это замечательное знакомство. Час назад ему открыла дверь явно когда-то очень красивая, аккуратная и собранная пожилая женщина с живыми темными глазами и крепким рукопожатием. Ее никак нельзя было назвать старушкой, хотя возраст свой она не скрывала: с девятьсот четвертого, отнюдь не первая молодость. Одета она была в модные вельветовые брюки, голубую вязаную кофточку и производила впечатление пожилой избалованной театралки. К Рубину старушка Ирина Калистратовна отнеслась с приветливым равнодушием, с порога предупредив его, что в смысле новых знакомств блюдет в своем доме крайнюю чистоту, отчего просит его не обижаться, но сразу изложить, кто он, что писал раньше, что пишет сейчас и чем интересуется. Рубин рассказал о своих розысках, связанных с Бруни, о людях, которых повидал, о нескольких общих знакомых — даже стишок прочитал: «Не узок круг, а тонок слой нас на российском пироге, мы все придавлены одной ногой в казенном сапоге».
И старушка заговорила с ним так, будто они давно были известны друг другу. Да, она сидела в Ухте. Нет, она не могла знать Бруни, ибо прибыла туда по этапу в октябре тридцать восьмого, когда Бруни уже не было в живых. Она пришла с этапом смертников — это недобитых под Воркутой троцкистов отправили к Кашкетину в Ухту. Да, сейчас она расскажет. Да, конечно, можно записывать. Даже нужно, а то она сама всегда ленилась, о чем изредка жалеет. И про Бруни она тоже может кое-что рассказать. О его смерти. Это очень важно, как именно умирает человек — как он себя ведет при этом, что говорит. Она два раза готовилась к смерти и среди смертников жила.
Так начался их долгий разговор. Случайный и прихотливо петляющий, но ничего от старческой болтливости не было у этой женщины, уцелевшей в силу невероятного, нескрываемого и неугасшего жизнелюбия.
— Нет, пыток еще не было тогда на Лубянке.
И в Лефортове о них не слыхала. Только вот что было со мной лично: после одного допроса, а я ни в чем не сознавалась, никого не оговаривала, все отрицала про себя и других, да еще грубила следователю — повели меня в камеру по коридору. На Лубянке дело было. И вдруг вталкивают в маленькую каморку без света. Я сперва думала — переждать, пока навстречу кого-нибудь ведут, знаете эту их подлую повадку, чтобы мы не встречались. Проходит минута — чувствую, что начинаю задыхаться, — ни глотка свежего воздуха, а дверь очень плотно закрыта, я даже ощупать успела, задыхаясь, — резиновые прокладки. И грохнулась в обморок. Очнулась — меня опять усаживают на стул в кабинете следователя. Может быть, хотите что-нибудь нам все-таки сказать? Я сперва расплакалась от страха и унижения, а потом так на него орала, что вспомнить стыдно. Почему стыдно? Потому что я на самом деле от испуга орала, такая у меня истерика была. Нет, больше не повторялось. Вот Авель Енукидзе, тот действительно страшные муки перенес. Он ведь не подписал ничего, а время уже пыточное было. И ничем другим его было не сломить — ни партийной демагогией, ни угрозой, что с детьми расправятся: он одиноким был, — ничем. После мне в лагере рассказывал один, бывший чекист: Авеля на расстрел вести не могли, у него все кости переломаны были, его прямо в камере добивали… Нет, меня сначала к ссылке приговорили. Я не подписала, между прочим, ни одного протокола. Просто из упрямства, я не понимала тогда, что происходит. И не верьте, если кто-нибудь скажет, что понимал. Предрекать — предрекали, пророчествовать любит русский человек. И очень, между прочим, точно. Только это уже задним числом осознается. У нас в доме старая нянька была, мы тогда жили в «Метрополе», эдакий был второй Дом правительства. А для желающих строился кооператив на улице, где сейчас Дом звукозаписи, — знаете, конечно? И как раз в это время сломали храм Христа Спасителя. Камня, видать, мало было в Москве, так на фундамент нашего дома выбирали камень из развалин храма. И моя старуха-нянька, как узнала об этом, наотрез отказалась ехать с нами: жизни, говорит, не будет в доме, который сделан из камней порушенной церкви. Даже какую-то цитату из Писания наизусть приводила. Плакала навзрыд — любила она меня, — а жить не согласилась. И как точно предрекла: уже в тридцать шестом в доме почти полностью жильцы сменились, всех прежних замели. Вот и не верьте после этого. Нет, я верующей не стала за эти годы. Очень бы хотела, но ведь искусственно не поверишь… Нет, я и в Уфе ничего не признала, когда из ссылки всех подряд мели в лагеря. До сих пор, между прочим, замечательную картину помню: ведут меня по двору тюрьмы, а со второго этажа сквозь решетки видны мужские лица — потные, бородатые, всклокоченные — и хором бубнят: не признаешься — три года, признаешься — десять. Дружеское такое наставление — думали, что новичок я… Да, очень много смеялись. Знаете, я лично думаю, что именно это многих и спасло. А как жизнь облегчало — не выразить словами. Возьмите ту же Уфу. Камера на двенадцать человек, а в ней шестьдесят четыре бабы. Даже, если хотите, — дамы. Только бывшие. Лето. Жара, а мы еще после бани. Сидим в три яруса, почти все голые, и бельишком своим слегка помахиваем, чтобы просохло. Баба, она ведь если до теплой воды дорвется, ее без постирушки не оторвешь. Тут открывается камера, на пороге стоит старушка с узелком. Монашка. Посмотрела она на нас обалдело, плюхается на колени и кричит в голос: Господи, спаси грешниц на пару! Это она решила, что в ад попала и нас казнят горячим паром. Картина, правда, была похожая. Знаете, как мы смеялись? До истерики, до слез, до судорог. И потом еще, как только вспоминали. Знаете, когда я после этого следующий раз заплакала? Через пятнадцать лет. Когда узнала, что Сталин сдох. Целый час рыдала, не могла остановиться, а потом побежала и купила шампанского две бутылки. Все уже ясно понимала, никаких иллюзий не было, ненависть одна оставалась, а услыхала — и заплакала. Мир обрушился. Кошмарный, но мир. Не смогу вам этого объяснить. Да и не надо, здесь вы правы… Знаете, Сталин честным трудом занимался всего шесть месяцев за всю свою жизнь — когда наблюдателем на метеостанции в Тифлисе работал, температуру воздуха и влажность записывал. Все остальное время он чистым был бандитом и убийцей. Понимаете, этот картавый лысый властолюбец Ильич — он, сам того не зная, создал чисто уголовную государственную систему, огромный лагерь с блатными и надзирателями из них же, я в лагерь когда попала — ахнула от абсолютной похожести. Правильно древние китайцы говорили: великий человек — несчастье для нации. Это я про Ленина в лагере услыхала. Вот потому этой системе Сосо и в цвет пришелся. Поверьте мне: он был воплощенной посредственностью, только в злодействе талантлив, но ведь любой восточный убийца такой же. А воспоминаниям не верьте: это у всех гипноз, от его власти, а не от его личности. Скажем, улыбнется вам сосед — вы подумаете: симпатичный человек, а улыбнется шах-владыка, тут вы скажете: ах, мистическое обаяние. Что-нибудь простой знакомый сказал — какой умница, а если владыка — ах, корифей мысли! То же самое со всеми его словами, а идей настоящих, собственных отродясь у него не было, крал он их у всех своих соратников; а своя только жестокость была, решимость злодейская, а машину для этого он полностью готовую получил, от учителя принял, только обкатать ее надо было. Так что это не от воли его могучей или тайных сил исполинских шел по коже холодок у всех, кто вспоминал, а от всевластия и от готовности раздавить. Он был великое ничтожество, вот он кто был. И гений посредственности. Отсюда и убийца необузданный. Так что историки с годами, когда остынут, не с него, а с остальных спросят, помяните мое свидетельское слово… Крепкие вы сигареты курите. Не любите с фильтром? А я так и умру, наверно, с папиросой во рту. Мы больше махорку курили. Когда была, конечно. От березового веника шелуха хорошо курится. Чулок распущенный тоже годится. Надо только нитки растрепать хорошенько и немного чая добавить. Без курева в лагере здоровье не сохранишь. Знаете, я всю жизнь страдала от слабых легких — туберкулез у меня был, на юг ездила. И ангинами болела постоянно. И на Лубянку в тридцать пятом с ангиной пришла. И все. До пятьдесят шестого не болела ни разу. И про легкие забыла. Вышла — немедленно слегла с ангиной. Мы ведь, женщины, — вообще существа выносливые. Мне один прозектор в большой лагерной больнице рассказывал: вскрываешь зэка-мужчину — нету ни миллиметра подкожного жира, а у женщины, которая от такого же истощения умерла, — тоненький, но есть жирок… Кто же вам об этом рассказывал? Молодец баба, приметливая. Нет, нет, не врала. Действительно, в самое трудное время — следствие, тяжелый этап, штрафняки всякие — исчезают месячные. Заботится природа о женщине, убирает лишние недомогания.
У Кашкетина, по-моему, задание такое было: расстрелять всех троцкистов, кому в тридцатые годы малые сроки дали. У нас, во всяком случае, так именно толковали его расстрелы. В Воркуте он на кирпичном заводе расстреливал, а нас, кого не успел почему-то, погнали к нему в Ухту. Зимой мы шли, по берегу Печоры. Шестьдесят человек. Женщины, мужчины, двое детей. Девятнадцать человек конвоя. Они не скрывали от нас, зачем ведут, этап наш так и называли — смертный. Целые дни мат в воздухе висел, быстрей идти подгоняли, им ведь тоже холодно было.
Привели нас в поселок Пионер, это километров десять от Ухты, заперли в тюрьме местной. Пол земляной, ни коек, ни нар, нету ничего, но мы уже вроде и не жильцы были. Стали мы все ждать смерти. Там высокие люди были, в тюрьме нашей: Валентинов, бывший редактор газеты «Труд», Ральцевич, доктор философии, Сапаров, оппозиция была такая знаменитая, Козлов, бывший резидент нашей разведки в Китае, Окуджава — дядя, кажется, поэта, многих еще могу назвать. Грязно, холодно, голодно — как животные валялись. Очень равнодушно уже жили, успокоенно. Никакой надежды не было. Так что, выходит, это Берия всех спас — тем, что сменил Ежова. А потом в лагерь перевели, там уж мы и услышали, что Кашкетин сам расстрелян. И еще нам кто-то рассказал — я помню, как обрадовалась, когда услышала, — что он перед смертью выл как собака, пощады просил. Очень это важный момент в жизни — как человек смерть принимает. Вот я и до вашего Бруни дошла. Кто-то из конвойных рассказывал, он возил этапы на Ухтарку, где расстреливали…
Рубин сидел, оцепенев, записывал, не следя за рукой, неотрывно глядя на собеседницу, медленно и ровно говорившую тоном отчужденным и спокойным, словно пересказывалось кино, ожидал и боялся услышать что-нибудь плохое о Бруни. О слабости, о сломанности, об отчаянии. В рассказах дочерей это однажды промелькнуло. Когда жена была у него на свидании и они стояли, прощаясь, какой-то бесконвойный урка, проходивший мимо, что-то грубое и насмешливое обронил. Тот прежний Николай Бруни, которого знала она столько лет, кинулся бы на него немедленно, оборвал бы криком по меньшей мере — он даже в священниках был способен на такое, — а зэк Бруни промолчал, будто не услышал, только чуть голову склонил, чтобы она по лицу ничего не увидела, и это было последнее, самое горькое, пожалуй, воспоминание о муже. Что-нибудь подобное Рубин ожидал услышать. Не напишу этого просто, и все, подумал он. Стойкость, она не всем дана, а с лагерников ее требовать нам, рабам сытым и благополучным, — и вовсе грех смертный.
— Он невероятное мужество проявил, этот ваш Бруни, — сказала старушка Гогуа, — редко я о таком слыхала. Мне тогда так прямо и говорили: опоздала ты, Ирина, чуть-чуть, а тут святого одного расстреляли. Там, понимаете ли, так было: рвы для них уже выкопаны были. В мерзлоте много не накопаешь, по колено, даже менее того, чтобы просто потом присыпать, и всё. Когда выводили из барака колонну, большинство молча на смерть шло, редко кто кричал что-нибудь, матерились разве. Про партию и Сталина — это уже потом ублюдки придумали, я ни разу не слыхала, чтоб рассказывали, что так кричали. А в тот раз человек какой-то вдруг по дороге псалмы запел. И конвой не останавливал его, все обалдели. Такие лица просветленные сделались, будто не на смерть шли, а к причастию. А он все пел и пел.
Правда, первым и застрелили. Так и погиб ваш Бруни — видать, не зря священником был. А больше я, извините, ничего не знаю о нем. Заходите, заходите, я отвечу на любые вопросы, это счастье, что хоть кто-то интересуется, а то вроде как и не было нас. Цифры в лучшем случае, и всё. А ведь не просто цвет России ушел, а еще и семя лучшее, вот о чем подумайте на досуге.
Часть вторая