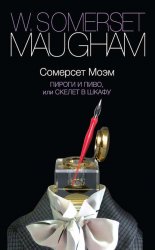Гарики предпоследние. Штрихи к портрету (сборник) Губерман Игорь
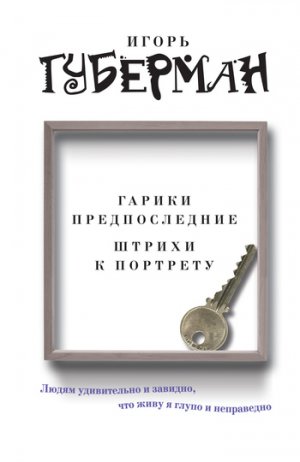
— Ладно, поедем дальше, — Сахнин запнулся, подыскивая точные слова. — И вот мы с тобой, Толя, хотим мы или не хотим, а живем в этом времени. Я твои терзания понимаю, только верю, что это болезнь и что она пройдет. А с теми, кто хочет ее снова хирургией лечить, я с ними не согласен. Тяжелобольного надо постепенно исцелять. А ну как мы отпустим повода? Столько гнева накопилось, Толя, злобы столько, обид всяких, счетов и расчетов — снова Россия кровью зальется. Я за постепенность, кривая к лучшему ползет, время само перемены вносит.
— Вы или боитесь меня и не доверяете, Борис Матвеевич, — холодно сказал Варыгин, — или сами себя уговорили.
Сахнин засмеялся и хотел что-то возразить, но Варыгин перебить себя не дал.
— А всего правдоподобней, — жестко сказал он, — что вы, уж извините меня, если угадал, хотели мне сказать, что таков народ сейчас, запуганное и слепое быдло, но вам неудобно, потому что тихо подумаю, что вы еврей, дескать, вот на русский народ и сваливаете. Если вы полагаете, что в этом все дело, то я с вами согласен, Россия действительно свою лучшую породу извела под корень. Тоже моего отца главная мысль. Клячу можно сделать из любой лошади. Значит, так теперь и жить, как животные? А мы же все для Нюрнбергского трибунала годимся. Ведь фашизм у нас, Борис Матвеевич. Только…
— Только тлеющий, — спокойно подсказал Сахнин. — И всегда готовый вспыхнуть.
— Да, я именно об этом, — согласился Варыгин. Сахнин остановился и резко повернулся к нему.
— Знаешь, Толя, — сказал он холодно и без улыбки, — ты сейчас со мной кривляешься и ханжишь. Если все это тебя действительно волнует, начни с себя. Плюнь на свое жалованье уютное, не пекись о максимальной пенсии, ступай в истопники или лифтеры, как это делают разные кандидаты наук, чтоб очистить свою совесть и быть непричастными. Настоящие интеллигенты, они не других обвиняют, а собственным очищением занимаются. А с жалобами своими ты скоро, знаешь, до чего дойдешь? Как это в пятидесятых годах шутили — мы, мол, не те хитрованы-пройдохи, что отсиделись в лагерях, пока остальные мучились под культом личности. Ведь сейчас террора нет, торжествует первый закон биологии, слышал о нем? Очень простой: всякая тварь жить хочет. Вот и живут. И большинство, между прочим, счастливо. Кто по глупости, кто по темноте, кто от иллюзий, а кто благодаря собственной изворотливости. Все крутиться научились, чтобы выжить в лагере нашем. А отдельные, кто ноет, их на зонах раньше знаешь, как звали? Жопа. Ждущий освобождения по амнистии. Лагерь есть лагерь, ждать чудес тут нечего. Я про империю не хуже тебя понимаю, но на крест идти? Не за кого. За что боролись, на то и напоролись. Сверху ты, что ли, реформ хочешь? Чисто рабская мечта. Им ведь только власть нужна и чтобы все мы вкалывали на полный износ. А весь народ им отвечает молчаливым саботажем: каждый увиливает как может от настоящего труда или туфтит. И замечательное выходит всеобщее равновесие. А когда это всем — всем, Толя! — станет невмоготу, противно и тошно, тогда жизнь начнет меняться потихоньку. А пока надо сидеть и посапывать в две дырочки да из чисто мужской гордости не канючить. Или собственную судьбу решать, а не глобально о стране тревожиться, пустые слова слюнявя. Не обижайся. Я не хуже тебя все вижу. Но на прямую подлость или мерзость не пойду, и работа моя мне не постыдна.
— А заставят если? Времена вдруг станут круче? — спросил Варыгин, хмуро выслушав Сахнина.
— Не заставят, — сказал Сахнин. — Откажусь, уйду в отставку, скажусь больным, вариантов много.
— Не будет вариантов, — уныло протянул Варыгин.
— Тебя что, уже впрягли во что-нибудь? — участливо и быстро спросил Сахнин.
— Нет, не впрягли. Честное слово, нет. Молчать очень тяжело. Такие факты узнаешь и молчишь в тряпочку. Хоть на вражеское радио тайком пиши. Честное слово, хочется.
Сахнин вдруг широко улыбнулся и положил руку на плечо Варыгина.
— Толя, — сказал он, продолжая улыбаться, — поверь мне: что написано пером, то горохом об стенку. Свои какие-то законы есть у истории, и ничего нам изменить в ней не дано. Только голову легко расшибить. Все мы в одинаковом живем рабстве, в одной тюрьме. И одной порукой связаны. И все вместе виноваты во всем. Ленин чисто уголовную систему создал. Оттого в ней Сталин так и расцвел со своей бандой. Так что правят паханы, а мы при них. Именно мы тут инженеры человеческих душ, Толя, а писатели в шестерках у нас ходят, в порученцах. Только ты вот прозрел и мучаешься, чувствуешь себя среди коллег как политический среди уголовников. Ведь правда же?
— Правда, конечно, — пробурчал Варыгин, приятно чувствуя на плече руку уважаемого им человека. — Я столько знаю о борьбе наших мафий, моей питерской и вашей московской, — страшно сказать, Борис Матвеевич. А ведь другие пишут…
— Про наше время на блатной фене писать надо, — задумчиво произнес Сахнин. — Как это, чья-то шутка была? По Нидерландам пронеслась параша, что герцога Альбу дернули в Мадрид с вещами.
— Когда же это все повернулось? — уныло спросил сам себя Варыгин, шутке даже из вежливости не улыбнувшись. — Где свихнулось? На Сталине или еще раньше?
— Ты еще до Карла Маркса дойди, — хмыкнул Сахнин пренебрежительно. — И до его жены Фриды Энгельс, она же Роза Люксембург, в девичестве Клара Цеткин.
— Нет, серьезно, Борис Матвеевич? Как это все случилось? Ведь все хотели как лучше.
— Конечно, хотели. Вполне искренне. — Сахнин убрал руку с плеча Варыгина. — Только это проще пареной репы, Толя. Случился обычный колониальный вариант развития. Неужели это тебе самому в голову не приходило?
Варыгин так вывернул шею, слушая Сахнина, что опять шел чуть боком.
— Россия много веков колонией была. Типичнейшая колония, захваченная верхушкой населения. Они ее родиной ощущали — и то не все, кстати, — а грабили, как колонию. Неслучайно ведь и управляющих сплошь и рядом из немцев набирали. Посмотри под этим углом, и все тебе ясно станет. Выжимали, выдавливали, высасывали. А когда действительно патриоты России за дело взялись — типа Столыпина, то уже поздно было. Восстало туземное население. А что делают туземцы прежде всего? Вырезают чуждую прослойку. Вот они всех и вырезали. Под корень. Железной метлой вымели. Аристократов, дворян, интеллигенцию, специалистов всех мастей, духовенство…
— Но уж священники — люди чисто русского духа были, — неуверенно сказал Варыгин.
— Ничего подобного! — Сахнину изменила его всегдашняя выдержка, он увлекся, и теперь оба они почти бежали, потому что именно такой шаг соответствовал разгоряченности обоих. — Ничего подобного. Ты танцуй от психологии, Толя, от чувства. Это ведь все брехня, что российский народ искони православным был и к Богу привержен. Он обряды соблюдал, вот и все, что он делал. Кстати, я у Чаадаева, кажется, нашел мысль замечательную: соблюдение обрядов — это просто упражнение в покорности.
— Здорово, — откликнулся Варыгин.
— А по духу — все чужое насадили в России. Оттого и крушили потом с таким остервенением. Оттого и клич ленинский «грабь награбленное» на такую благодатную почву упал, что взошел разбоем повальным. А это ведь лавина в горах, цепная реакция — когда разбой в политику возведен. Вот и получилось то, что получилось. Так что слишком ты на Ленина или на Сталина не спихивай. Они оба хороши. Сталин идеи Ленина только до предела довел. А туземцы были счастливы разрушить все, что их раздражало. Обидную я модель тебе, Толя, представил, но обрати внимание, что она во всех освободившихся странах работает. Словно безумеют люди и слепнут. Ярость, азарт, надрыв. А когда опоминаются, то поздно. Новая нечисть захватила уже власть, и еще страшнее старой, потому что темная и невежественная. И хищная до невероятия. И такие же наверх тянутся. Система такая получается — с лифтом для мерзавцев и бездарей.
Варыгин вдруг усмехнулся невесело.
— Что мы с тобой несем, Борис Матвеевич! — сказал он.
— Ты сам об этом просил, — остывшим голосом ответил Сахнин, остро глянув на собеседника и сразу отведя глаза.
— Ты опаслив, как ежик, — сказал Варыгин. — Я о другом вовсе. Я о том, что два здоровых и неглупых мужика все понимают — ну, ты ясней, конечно, — и ничего не могут сделать.
— А кто что может? — протянул Сахнин. — Всегдашних два русских вопроса: кто виноват и что делать. Никто, выходит, не виноват, потому что все виноваты, и ничего, выходит, не поделаешь. Время вытянет.
— А если нет? — быстро спросил Варыгин.
— А если нет, то будет гнить болото, — холодно сказал Сахнин. — Только не бывает такое до бесконечности. Если мы уже сегодня с тобой так разговариваем, то лет через десять все подряд того же мнения будут. А там, глядишь, и самый воздух переменится. Тогда и просветлеет немного. Только очень-очень постепенно это будет. Мы с тобой не доживем, и дети вряд ли.
Варыгин тяжело молчал, обдумывая что-то.
— Знаешь, Толя, я где-то притчу прочитал, — вспомнил Сахнин. — В клетке сидят вместе люди и обезьяны. Люди хотят, естественно, вырваться, но ключ от клетки находится у обезьян. Люди хитрее, находчивее, умнее, они добыли бы тот ключ, нашли бы способ отнять, но одна загвоздка есть волшебная в этой задаче: каждый, кто прикоснется к ключу, сам становится обезьяной. Вот и реши проблему.
— Ах ты, здорово, — по-мальчишески восхитился Варыгин. — Здорово! Значит, надежда только на то, что какая-нибудь из обезьян сама это сделает, прозрев или по наущению. Правда же?
— Как Никита Хрущев… — то ли согласился, то ли начал и оборвал себя Сахнин.
— Скинули бедолагу раньше времени, — подтвердил Варыгин. — А если вдруг опять появится такой же? Ведь не исключено, что прорастет и прорвется?
— Толя! — Сахнин скривился так, что Варыгин присмирел, как ляпнувший глупость школьник. — Ну, прорастет — и что? Это будет ведь такой же чиновник. Он же не изменит систему, а контора наша — разве что окрепнет и вырастет. Он же устройство страны не переменит. Не осмелится: сожрут с потрохами моментально. Миллионы людей в этой системе кормятся, они глотку за нее перегрызут.
Оба секунду помолчали.
— Ну, придет, — тускло сказал Сахнин, — новый хозяин. Что он прежде всего власти хочет, это мы за скобки вынесем. Пусть он еще хочет и добра. А только на осине апельсины не родятся. Он ведь только такие перемены осилит, чтобы хозяйствовать сподручней было. Вот и весь тебе чиновный Ренессанс.
Варыгин хотел возразить, но Сахнин перебил его:
— Извини, еще одно забыл. Это ведь и работягам не нужно. Им, похоже, ничего уже не надо. Вкалывать по-западному им наверняка не хочется. Вроде как уже и не по силам. Хочется, чтоб их не трогали и цены не росли. Устало очень население, Толя, очень все устали от этой жизни. Парень только вкалывать начал, а уже вроде надорвался. В воздухе уже гниение, в самом воздухе. Протухла система. Вот и держится она на нас. Мы как обручи сейчас на этой бочке. И без нас она взорвется с грохотом. А вони будет!..
— Что-то ты себе противоречишь, Борис Матвеевич, — хмуро возразил Варыгин. — То ты только об усталости всеобщей и апатии, а то — взорвется…
— Злобы очень много накопилось, — терпеливо пояснил Сахнин. — Ты про распри национальные не забудь. Все ведь без идей сейчас живут, а пустоты душа не терпит, ей национальная идея — лучшая начинка, чтобы вспыхнуть. И какая кровавая свалка пойдет! Одни русские, Толя, чего стоят, ведь они-то хуже всех живут и убоже, а гордыней тешатся, что кормят всех. А как их ненавидят в республиках! Ты не обижайся, сам ведь знаешь. — Варыгин пожал плечами. — А на евреев сколько злобы накопилось, — добавил Сахнин. И усмехнулся: — Так что, в случае чего, мы рядышком с тобой пойдем.
— Мне отец рассказывал, — медленно протянул Варыгин, словно вслушиваясь, годится ли история к их разговору. — В лагере он как-то в карцере с Мехтеевым неким сидел, азербайджанцем, того проездом в карцере держали, везли куда-то.
— И твой сидел? — живо спросил Сахнин.
Они переглянулись, и оба одновременно подумали, что с этого, возможно, им и следовало начать разговор.
— Тоже, кстати, полковник был этот Мехтеев. Герой Советского Союза, молодой совсем, воевал здорово, — Варыгин заговорил быстрее — годилась история. — И не помню, за что он сел, вроде что-то неодобрительное сказал о ком-то повыше. Не суть важно. Попал на северную стройку. Далеко за Воркутой дорогу клали в тундре, всем — гибель очевидная. Вот он и собрал своих дружков, кто воевал. Давайте, говорит, все равно ведь помирать, так хоть поляжем как мужчины и солдаты. Согласились. Там охрана ихняя в субботу в баню приходила, прямо в зону. Человек по десять, вроде так. Вот они их голыми и взяли. Повязали, кляпы в рот, переоделись. Пошли на вахту. Там Мехтеев начальника смены то ли на нож взял, то ли под дуло, пошли они по вышкам, сняли часовых и на своих сменили. Построили весь лагерь на плацу, созвали всех как на поверку. Тысяч пять там было, небольшой по тем временам лагерь.
— Как-то мне на Колыме один большой партийный начальник сказал в обкоме, — Сахнин то ли улыбался, то ли кривил губы, — что, мол, были времена большие и настоящие: в Магадане ежедневно четыре миллиона зэков на работу выходили в рудники.
— Тосковал, небось? — ощерился Варыгин.
— Черт его поймет, прости, что перебил.
— Словом, построил он их и выступил. Я, говорит, полковник Мехтеев, Герой Советского Союза. Мы с друзьями повязали всю охрану. Вы свободны. Только всюду тундра и зима. Кто уйдет, погибнет все равно. А в соседних лагерях — наши братья. Там же мы добудем и оружие. Как дойдем до Воркуты, захватим город, будем требовать кого-нибудь из правительства. Обещать вам ничего не могу. Кто согласен погибнуть как мужчина — шаг вперед. И как ты думаешь, Борис Матвеевич, сколько вышло? Зная, что здесь подохнут через месяц? В строю пять тысяч стояло. Сколько вышло?
— Человек сто, — не задумываясь ответил Сахнин. Варыгин с уважением посмотрел на него.
— Как же тебе трудно жить, людей так понимая, — сказал он. — Сто двадцать. Остальные аж под нары забивались, их оттуда сапогами выковыривали, чтоб устыдить.
— Чем кончилось? — без интереса спросил Сахнин. Варыгин сморщился, как от внезапной боли:
— Кончилось, как и должно было. Они успели лагерь по соседству освободить, а потом их с воздуха вертолетами достали. Кого скосили пулями там же, большинство опять по лагерям рассовали. Я ведь не об этом, я о числе вышедших, как ты догадался. А ты говоришь — взорвется.
— Я понял, — оживленно сказал Сахнин. — Только времена другие теперь, Толя. Странный парадокс в нас Богом заложен: чем меньше человека гнешь и давишь, тем он больше хочет распрямиться. Во всех смыслах. А сейчас давление не то и страх не тот, сейчас на всё пойдут. Только к фашизму побыстрее, чем к свободе.
— Батя мой и тут концепцию имеет, — сказал Варыгин. — В войну, говорит, мы немцев раздолбали, после усатый сдох, и его мы тоже прокляли, а в душах наших и в умах — победили Гитлер и Сталин. Вроде как бы радиацией своей они нас облучили, а это надолго и по наследству передается. Интересно, правда?
— И похоже, — угрюмо отозвался Сахнин — Мудрец твой батя.
Оба замолчали ненадолго.
— А есть все же люди, надежду не потерявшие, — задумчиво сказал Варыгин. — Или просто из упрямства. Мне отец рассказывал с месяц назад, что к нему один ваш москвич приезжал, Рубин вроде по фамилии, пишет книгу о лагерях, ездит по выжившим из ума старикам. Странно было для меня, седого полковника, — зависть я к нему почувствовал. Настоящей жизнью человек живет, не раздвоенной, ты меня понимаешь.
— К нам попадет рано или поздно, — отозвался Сахнин. — Да и зачем старые раны бередить? Никому это уже не интересно. Надо о завтрашнем думать, вперед смотреть. Рубин, говоришь? У моих знакомых есть племянник с такой фамилией. Вялый литератор какой-то. Хотя вряд ли это он. Знаешь, чем наши писатели отличаются от Льва Толстого?
Сахнин подождал секунду и заторопился, сообразив, что коллега его вряд ли читал Толстого «Не могу молчать». И удивился, когда Варыгин полувопросительно ответил:
— Уж не тем ли, что они молчать — могут?
— А ты не так прост, как кажешься, — одобрил Сахнин.
— Отец у меня Толстого непрерывно читает, — объяснил Варыгин, словно оправдываясь. — Этого Рубина по нашим бы старикам поводить, кто уже на пенсии.
— Из наших много не выжмешь, — хмыкнул Сахнин. — Научились держать язык за зубами. Как и вся страна, впрочем. Я поэтому и думаю, что такие книги ни к чему. Если бы люди помнить хотели, то не умер бы самиздат о лагерях тех лет. А он своей смертью умер, естественной, наши мало к нему руку приложили.
— На меня не вышли, жалко, — вдруг твердо сказал Варыгин.
— Кто? — не понял Сахнин.
— Да вот эти, кто о лагерях писал и о нашей славной конторе. Я бы счастлив был помочь им при случае, — буднично, как о давно обдуманном, пояснил Варыгин и по-мальчишески застенчиво улыбнулся.
— Увольняться тебе надо, Толя, ты докатишься с такими настроениями, — заботливо посоветовал Сахнин. — Неразумно ты заговорил, не по возрасту. Если не о себе, то о семье подумай.
— Я о сыне как раз и думаю, — мрачно ответил Варыгин. — Я хочу, чтоб он мне другом был, а не стыдился отца.
И они заговорили о детях — сбивчиво, с обидой и недоумением. Тут беседа их стала напоминать все на свете разговоры отцов о детях, ибо расхождение это извечно и повсеместно, а следовательно — Богом предусмотрено.
— Так что слишком ты не угрызайся, Толя, — сказал Сахнин при расставании, — на самом деле нужна России наша служба. Любой взрыв опять ее назад отбросит, а России взрывы не на пользу, как ты легко заметить можешь. Оберегать ее нам надо от крупной смуты, а там сама оправится с годами.
— А пока что призовут и… — Договаривать Варыгин не стал, и они молча улыбнулись друг другу, обмениваясь рукопожатием у входа в метро.
Рубин сидел в гостях, досадуя, что соблазнился и пришел: два часа дня — самое время торчать в библиотеке или дома за столом. Давняя приятельница Марина позвонила, что придут к ней двое стариков — ты как раз таких разыскиваешь, Илья. И Рубин нехотя поплелся. Появилось у него недавно ощущение, что ничего нового он уже не услышит, а конкретно о Бруни — наверняка.
Разговор шел за столом — первоначальный и несвязный.
— Юлия Сергеевна, — попросила хозяйка, — расскажите, пожалуйста, Илье про ваш подвиг со вдовой Грина, такое счастье — слушать, как справедливость побеждает.
— Пожалуйста, — пожилая женщина с короткой седой стрижкой вежливо повернула к Рубину свое мягкое лицо с неожиданно твердым и решительным подбородком.
Педагог, подумал Рубин. Учительница. И, как всегда, ошибся. Сухая, собранная и жестковатая старушка оказалась ботаником, физиологом растений. А как читатель — обожала Александра Грина. Это и сблизило ее некогда со вдовой писателя, жившей в Старом Крыму, где умер этот странный романтик. Рубин вспомнил его предсмертные слова, которые где-то довелось прочитать. Когда за три дня до смерти — для последней исповеди и причастия — к Грину пришел священник, он в конце спросил умирающего: всем ли тот простил, не питает ли к кому-нибудь вражды? И Грин, его немедля поняв, легко ответил:
— Батюшка, вы имеете в виду большевиков? Поверьте, я к ним совершенно равнодушен.
Его вдова после войны попала в лагерь, ибо при немцах пошла работать в типографию — надо было прокормить больную мать, находившуюся в тихом старческом безумии. А когда вернулась, пережив печорский холод и астраханский зной, то обнаружила, что ветхий домик их — теперь сарай для дров первого секретаря горкома партии. И беззащитная женщина принялась за этот домик воевать. В основном из-за любви к покойному мужу. А всесильный секретарь, чтобы не отдавать сарай, сообщил суду и населению города (секретарша распечатала материал на машинке) такие факты: Нина Николаевна Грин женой писателя вовсе не является, она бросила умирающего мужа еще за два года до его смерти. А в войну переливала кровь русских младенцев раненым немецким офицерам. Гарцевала всю войну в черной атласной амазонке на лошади, ей за это подаренной.
А сарая добивается сейчас — для организации шпионской явки, одновременно центра антисоветской агитации.
Самое, пожалуй, страшное в этой бредовой лжи, что приняли ее как юридический документ (первый секретарь горкома партии), и домик свой вдова Грина отвоевывала несколько лет. Но победила! И устроила музей. Открытый всем, кто любит Грина.
— И вот когда она умерла, — продолжала Юлия Сергеевна, — то нам ее не разрешили похоронить в могиле мужа. Всплыла старая клевета. Мы три дня мотались по разному начальству. Представляете себе — три дня в крымской жаре непохороненный покойник? И ничего не добились. Закопали мы ее отдельно от Грина, уныло разъехались. Осенью я думаю: что же это такое? Почему мы это допустили? Поделилась своей идеей с тремя молодыми приятелями, которые тоже к Нине Николаевне часто ездили, — они сразу согласились. Позвали знакомого юриста, он говорит: большой срок могут вам дать за осквернение могилы, если застанут, когда вы раскапывать будете. А нас уже поздно останавливать. Приехали ночью. Пошли на кладбище. Дождик легкий. Часа два ребята раскапывали могилу. И вот здесь — вы знаете, Илья, непременно сам Александр Степанович взялся нам режиссировать: луна взошла, сухо, потеплело, настоящая южная благодать. Отнесли гроб к могиле Грина, там его теща уже давно была похоронена, ребята копать стали, а я домой ушла, устала очень. Они счастливые пришли, у них лица светились, не передать такое и не высказать, это у Гомера победители так выглядели. Но и тут еще не все. Главная мистика впереди.
Старушка светилась от удовольствия, все это вспоминая. Она отхлебнула чай, вздохнула глубоко и нахмурилась.
— Один из ребят это все в дневник записал, как-никак событие, я его понимаю и не сужу. Мы-то, остальные, ликовали втихомолку. А у парня — обыск спустя год, он самиздатом очень усердно занимался. И конечно, дневник его следователи прочли. Слушайте, что сделали эти подонки, уж не знаю, кто там распоряжался. Оцепили кладбище солдатами и раскопали обе могилы снова. Им осквернять могилы можно. Ну, в могиле Нины Николаевны — ясно, что гроба нет. Однако нет его и в могиле Грина! Каково?
Старушка так победно, гордо и заносчиво сверкнула на Рубина глазами, словно в эти часы лично прятала гроб подруги от поругания. Рубин хмыкнул, чтобы поддержать рассказ.
— Там лежали они так: справа — Александр Степанович, слева — ее мать, а в середине место оставалось, туда я мальчишек и попросила гроб зарыть. А они будто предвидели, что даже в могиле у Грина обыск будет, — вырыли яму поглубже и гроб Нины Николаевны поместили под гробом Грина. Вот потому эти скоты и не нашли. Даже после смерти, как видите, эта семья творит легенды. Такие по Крыму слухи поползли, вы себе представить не можете!
— Но это и вправду подвиг, — сказал Рубин. — Знаете, так затаскали фразу, что всегда есть в жизни место подвигам, что ее повторять неудобно. А ведь есть.
— Только чем оборачивается, — хмуро возразил молчавший до сих пор длиннолицый лысый старик, с наслаждением пивший водку и непрерывно куривший. Он улыбался всем, кто взглядывал на него, и Рубин, зная, что хозяйка дома неслучайно позвала его сегодня, ждал с нетерпением, чтобы старик заговорил.
— Вы о чем? — спросил Рубин.
— О подвиге, — ответил старик. — Я, знаете ли, как-то с Бусыгиным общался, знаменитым кузнецом-стахановцем из Горького. Вот он мне и рассказал. Бусыгин на съезде передовиков отказался произносить речь, которую на бумажке ему подсунули. Не буду, говорит, пустую трескотню разводить, у нас в городе рабочим жрать нечего, живут в тесноте и грязи, и никто слова пикнуть не смеет, а кто осмелится — исчезает. Устроители съезда так перепугались, что самого Орджоникидзе к нему привели, и Бусыгин лично это наркому выложил. Тот говорит: знаете что, товарищ Бусыгин, пойдемте-ка вместе к Иосифу Виссарионовичу, там они уже собрались все за сценой. И пошли. Сталин там сидит, Каганович, вся их шайка. Сталин трубочкой пыхнул, улыбнулся в усы — излагайте, говорит, товарищ Бусыгин, мы слушаем, нам всего нужнее правда. А Бусыгин возьми и выскажи ему про свой родной Нижний Новгород, как живет хозяин страны, победивший пролетарий, — как последняя собака при плохом хозяине.
Сталин слушает, у всей шайки лица грозные и хмурые, но молчат, сигнала ждут, чтоб растерзать. А усатый улыбнулся так лучезарно и говорит: огромное вам спасибо, товарищ Бусыгин, это вы и расскажите с трибуны. Тот и рассказал. Возвращается в свой Нижний, а там уже в тюрьму посажена вся верхушка города и завода. Разве того он хотел? Новые на их местах сидят — от страха и усердия давят еще пуще, — никаких перемен. Главное же — косятся все на кузнеца: стольких людей посадил, большинство и ни при чем были. Представляете себе, как ему жилось? Вот и совершил человек подвиг.
Все за столом молчали — словно дохнуло на них воздухом той канувшей эпохи.
— Уже мифические это какие-то люди, — сказала Марина, просто чтобы что-нибудь сказать.
— Э, от этих мифов до сих пор сюда дыхание тянется, — откликнулся старик.
Юлия Сергеевна оживилась.
— Миф о вине евреев во всем этом, — горячо сказала она, — среди интеллигенции стал широко распространяться.
— Интеллигент не может быть антисемитом, — впервые вмешался в разговор коллега Марины, человек не очень симпатичный. На лице его было ясно написано, что знаем обо всем, а понимаем еще больше. — Интеллигент — это прежде всего нравственное чувство и нравственные поиски, — надменно добавил он.
Старушка коротко взглянула на него, и что-то еле уловимое мелькнуло в ее глазах. Не хотел бы я, чтобы она так глянула когда-нибудь на меня, подумал Рубин.
— Архитекторы, врачи, музыканты, литераторы, ученые, все там были, — жестко сказала Юлия Сергеевна сослуживцу Марины, не обращаясь лично к нему, просто перечисляя профессии.
— Где «там»? — не понял Рубин.
А где именно, старушка не знала. Она слышала только от приятельницы пересказ выступлений: где-то собирались ревнители памятников старины, все разрушения двадцатых и тридцатых дружно сваливая на заговор евреев.
— Жалко, что меня туда не пригласили, — вдруг сказал лысый старик, опять куривший. (Прослушал, как его зовут, досадливо ругнул себя Рубин.) — Я бы им такую историю рассказал о еврейской сплоченности — пальчики оближешь.
— Расскажите нам, Борис Наумович, — Марина погладила длинную костлявую кисть старика. — Я ведь предупреждала вас, что попрошу рассказывать, Илье это и вправду очень нужно. Вы про лагерь?
— Что-то я ничего, кроме лагеря, вроде и не знаю, — засмеялся Борис Наумович. — Все мои истории — про него. И все мысли оттуда. Что ни услышу — ассоциация с лагерем. Или с поселением. Хотя сидел-то, в сущности, немного.
— Сколько? — буднично спросил Рубин.
— Четырнадцать в итоге, другие много больше тянули, — добродушно ответил ему старик. — Только вы меня, боюсь, напрасно станете допытывать, я круг ваших вопросов знаю от Марины, я вам как бы даже вреден буду, уж извините.
— Такое впервые слышу, — Рубин уже весь был обращен к собеседнику, даже чуть перегибался через стол. — Вреден?
— Видите ли, — старик повел глазами по столу, словно отыскивая там ответ. — Знаете, есть люди, для которых коньяк пахнет клопами. А для меня — клопы напоминают о коньяке. У меня от лагеря остались воспоминания — не скажу, что радужные, но благодарные, что ли. Это было совсем не пустое время. Человеком я стал именно там. Хотя именно там легче всего перестать им быть, извините за неловкость фразы, я не литератор.
— А кто вы по профессии, Борис Наумович? — спросила Марина. — Я ведь уже сколько лет вас люблю, а так и не знаю, кто вы были до пенсии.
Старик засмеялся так хрипло и громко, что Рубин ощутил радость охотника, вышедшего на долгожданный след.
— Я, Мариночка, всю жизнь вождей рисовал, так что художником меня назвать нельзя. И афиши для кино. А в лагере — там я чего только не писал! Картину «Последний день Помпеи» знаете, конечно?
Рубин, к которому был обращен вопрос, кивнул.
— Моя работа! — гордо заявил старик.
— Извините, Борис Наумович, я в живописи не силен, только автор «Помпеи» — Брюллов вроде бы, — сказал Рубин.
— Да! — воскликнул старик. — Да! В музее которая висит — Брюллов, а в лагерной столовой на Воркуте — я!
За столом все дружно рассмеялись.
— И моя в полтора раза больше, — горделиво добавил Борис Наумович. — Потому что я под нее четыре месяца себе выторговал. Пока осматривался в лагере.
— Вы все годы на Воркуте провели? — спросил Рубин, колеблясь, не спугнет ли рассказчика, если достанет записную книжку.
— Нет, я прилично покочевал, — у старика исчезли в глазах насмешливые искры. — Я даже в Марфине был, в шарашке под Москвой. Там тоже много всякого рисовал.
— А для чего в шарашке художник? — спросил Маринин сослуживец. — Там ведь делом занимались?
«Откуда она его взяла? — подумал Рубин. — Ведь насквозь же виден человек. Или уже привыкла и не слышит?»
— О, там я очень большие работы делал, — старик снова оживился. — Заказы у меня были крупные. Например, приносят холсты — уже натянутые на подрамник. А с ними список: Левитана — три копии, Поленова — три, Куинджи — четыре. И — названия картин. С репродукций я их писал. Исполнение требовалось мастерское. Меня оттого и дернули из лагеря, что я к тому времени себя как отличный копиист зарекомендовал.
— Не подделок от вас требовали? Холсты не старые были? — быстро спросил Рубин.
— Нет! — ответил старик. — Откровенные копии. Только хорошего качества. Я сам спрашивал, для чего, а мне говорят: делай и не лезь не в свое дело. Я объясняю: давайте я и рамы тогда сделаю, у меня же больше вкуса. Мне холсты штатский привозил, но сдается, что он чин имел. А образование техническое, это он как-то сам сказал. Потом уже, когда привык. Чай приносил, сахар, даже как-то письмо для жены взял, только очень боялся. А про картины объяснил: это мы дарим иностранным гостям столицы. В посольствах они вешают, в домах своих, в гостиницах эти картины висеть будут, так что не посрамите Россию, Борис Наумович, вашу как-никак родину. А уж рамы подберем мы сами, не беспокойтесь, есть у нас сотрудники со вкусом. Что, не догадались еще?
— Нет, — растерянно ответила за всех Юлия Сергеевна и беспомощно посмотрела на остальных.
— Эти мои точные копии для отвода глаз были, — снисходительно пояснил старик. — А в рамы они микрофоны засобачивали, свою аппаратуру, чтобы подслушивать. Я бы тоже не догадался, это мне потом уже наш куратор шепнул. А второй художник со мной там был — Кирилл Зданевич, из Грузии.
— Тот, который собирал картины Пиросманишвили в двадцатых? — изумленно спросил Рубин. Уже год, как он ходил по старикам, но заново каждый раз искренне удивлялся, когда всплывала в лагерях знакомая, чем-нибудь известная фамилия. А происходило это так часто, словно в истории России вечно присутствовала эта мясорубка и вся страна раньше или позже, но протиснулась сквозь ее стальное сито.
— Он самый, — Борис Наумович закивал головой так радостно и удовлетворенно, словно мимолетное прикосновение к имени Пиросманишвили и ему делало честь, и всем присутствующим.
Теперь уж Рубин просто не мог не вытащить записную книжку. За несколько минут он украдкой — одно-два слова — внес туда все, что услышал сегодня, и приятное испытал чувство уверенности: ничего не пропадет, и не надо будет мучиться утром, вспоминая. Даже выпить теперь можно спокойно. И налил себе, выпил, закурил и продолжал слушать. Старик повествовал со вкусом и удовольствием.
— Умирал я, собственно говоря, два раза в лагере. Сперва в сорок втором, тогда я, в сущности, уже умер.
Старик поймал изумленный взгляд Марины и молодецки расправил пушистые седые усы, делавшие его похожим на кота из кукольного театра.
— Да, правда-правда. Доходил-доходил и умер. Ноги у меня распухли тогда, две колоды неподъемные стали, еле волочил их. Уже с работ меня общих сняли и перевели в барак для доходяг. Огромный такой сарай, нар на всех не хватало, мы где попало валялись. Прямо посреди сарая — костер небольшой, возле него сидели доходяги из уголовных — и такие тогда были, — в карты резались днем и ночью. В основном игра шла на одежку тех, кто уже умер. Интересные, между прочим, уголовники были. С политическими статьями. Да-да. Когда Берия сменил Ежова, то сперва на послабление пошло. Отпустили кое-кого, брали меньше, это старики хорошо помнят. А из лагерей, видать, начальство рабочую силу запросило: работать некому. И загребли тогда массу ворья всякого. Не на кражах их ловили, а брали уже известных, кто раньше сидел, кто на учете был, и лепили им статьи политические: социально опасный элемент и социально вредный элемент. Чтобы лагеря пополнить. Урки, между прочим, так обиделись, что эти аресты так и называли: бессовестный набор.
Рубин засмеялся, и старик замолчал, с одобрением глядя на него. Рубин разлил вино и водку, все молча подняли свои рюмки в сторону Бориса Наумовича. Тот поигрывал по столу пальцами, ожидая возможности продолжать.
— А в конце барака была стенка хилая, скорей перегородка, но с дверью. Туда оттаскивали умерших. Каждый день нас пересчитывали очень тщательно, потому что все мы норовили за умершего соседа его пайку получить; иногда удавалось. Там уже замерзшие лежали трупы, туда тепло не доходило. А в бараке можно было выжить, хоть наша рвань бушлатная к доскам нар и примерзала по утрам, но ничего. Вот тут я и умер. Перетащили меня за перегородку, а я возьми и приди в себя. От холода, во-первых, а во-вторых, от запаха хлорки, там ее как раз насыпала какая-то падла из санчасти. То есть мой благодетель, сказать точнее. Возвратился я к жизни, а лежу голый уже — наверняка, думаю, ребята у костра мои тряпки в карты разыгрывают. Так и есть. Они мне даже не очень удивились, только спор поднялся шумный: имею я право взять карту и попытаться что-нибудь отыграть или нет. Потому что, с одной стороны, игра уже идет, а с другой — мои же шмутки разыгрывают. Победила справедливость, дали мне карту. А тут и фарт пошел: отыграл я свой бушлат обратно, а штаны мой друг мне отыграл. Тут начал я в себя вдруг приходить — от хлорки или от фарта, но только через две недели ушел своим ходом из барака доходяг; взяли меня в санчасть временно, а там за три месяца совсем оклемался. Тут вернулся со штрафной командировки мужик, которого я в санчасти подменял, меня погнали, и стал я снова доходить.
— Борис Наумович, вы ведь обещали что-то про еврейскую сплоченность рассказать, — Марине, кажется, стало плохо от ровного и веселого тона старика.
Борис Наумович бодро шевельнул седыми усами.
— К ней подхожу, слушайте внимательно, ребята. Плетусь я по зоне, еле ноги переставляю. Встречаю Полякова Эмиля Яковлевича, он бытовик был, проворовался где-то, в лагере человек влиятельный, начальник хлебопекарни. Доходишь, говорит, Борис? Дохожу, отвечаю, Эмиль Яковлевич. Ты, спрашивает он, еврей или полукровка? Что это вы мне расистские вопросы задаете, отвечаю я ему, еврей я чистой воды. Как бриллиант. Все, говорю, мои родственники сорвались из местечка как ошалелые и сделали в России революцию. А я, как видите, расхлебываю ихнюю кашу. Вы, Эмиль Яковлевич, я его спрашиваю, не из общества помощи жертвам революции? А то вот я перед вами — в чистом виде экземпляр. Так красиво я тогда, конечно, не говорил, еле-еле языком ворочал. Повернись-ка, говорит он, Борис, ко мне спиной. Поворачиваюсь. Что-то он на спине моей пишет, подложив фанерку, и дает мне клочок газеты. Неси, говорит, в хлеборезку прямо самому Полещуку, и желаю тебе счастья в цветущей жизни. Я плетусь к Полещуку. Сытая такая харя. С Западной Украины перед войной сюда попал. В хоре пел. Вы меня извините, друзья, я отвлекусь. Это я не от склероза, а попутно одну историю вспомнил, не пожалеете, что отвлекся. Вы знаете, за что власть не любит интеллигенцию? Не знаете. Или начнете объяснять подробно и длинно. А я знаю точно: за то, что интеллигенция не поет в хоре.
— Прекрасный образ! — похвалил Рубин, не выдержав.
— Это вам образ, а я буквально мыслю, — возразил Борис Наумович, негодующе сузив зрачки. — В те времена на избирательных участках в день выборов обязательно выступала самодеятельность. И вот помню, как сейчас: война уже кончилась, выборы в какой-то орган идут, а в поселке у вертухаев нет самодеятельности. Начальство к нам: у нас ведь и профессоров навалом, и музыкантов. Оркестр прекрасный был. А хора нет как нет.
— Действительно были хорошие музыканты? — чинно осведомилась Юлия Сергеевна тоном завзятой меломанки.
— Первая труба из оркестра Цфасмана был у нас, третьим саксофоном, — надменно ответил Борис Наумович.
— А хор? — нетерпеливо спросил Рубин.
— А в хор интеллигенты не шли, — обрадовался Борис Наумович. — Их и так и сяк уламывали, карцером грозили, сулили кашу после выступления, а они не шли. И поехал к вертухаям хор из полицаев и проституток. Я там был в этот день, потому что в оркестре играл, так со смеху играть не мог. Полицаи поют: приезжай, товарищ Сталин, посмотри, как мы живем, а проститутки подхватывают: примем прямо как родного и погреться поведем. Ладно, я отвлекся, извините, вы подумаете, что это склероз, а я на Полещуке остановился.
Борис Наумович шумно передохнул, отпил глоток водки и продолжил:
— Берет он этот клочок, читает, кидает его в печь и молча отрезает мне полбуханки хлеба вдоль. Это больше, чем три дневные пайки. Прячь, говорит, под бушлат, а завтра приходи в это же время. Выхожу я из хлеборезки, богатство у меня под бушлатом. Жизнь. Я, наверно, целый час стоял, с собой боролся, делиться мне с другом или самому съесть?
Борис Наумович замолчал, и нетактичного вопроса ему никто не задал. Он ответил сам, сощурившись от воспоминания.
— В первый день не поделился, не хватило духу. А со следующего дня делил поровну. И так меня кормили ровно месяц. А потом Полещук мне говорит: всё, мол, Поляков сказал, что ты и сам теперь выкарабкаешься, завтра не приходи. И правда выкарабкался. И проходит, представьте себе, некоторое время. Я уже года два как работаю фельдшером, сам кому-нибудь помочь могу, если надо, и вызывают меня к начальнику учетно-распределительной части. Сам-то начальник вольный был, он пил без просыпу, всем за него заправлял наш зэк Нозман Яков Матвеевич, бывший профессор физики, не помню где. Вот он меня и дернул к себе. Борис, говорит, пришел новый этап, завтра сними с него тридцать человек, вот тебе список, освободи их сразу дня на три, я за это время их раскидаю кого куда, а то если сразу на общие, потом тяжко их вытягивать будет. Смотрю список: одни евреи. Что кавказцы друг другу помогали, как могли, я уже знал, нормальным это у нас считалось, привыкли. Прибалты тоже гужевались вместе, как умели. Только русские вразнобой жили, да еще и доносили друг на друга нещадно. Хуже, чем украинцы, они себя на зоне вели, а уж хуже и придумать трудно. Знаете, как узбеки о казахах говорят? Казахи — люди грязные, грубые, дикие, они даже до революции плохо жили.
— Не отвлекайтесь, — попросил Рубин.
— Не буду, — согласился старик. — Ладно, говорю, Яков Матвеевич, я человекам десяти температуру подниму: мелкой солью им подмышки разотру, никакой контроль туфты не обнаружит. Двоим-троим чернила в глаз капну, распухнут у них глаза, тоже никто не придерется. Пятерым-шестерым компресс из цветов сделаю, опухоль появится, флегмона целая.
— Из каких цветов? — перебил Рубин.
— Из лютиков, — объяснил старик. — От них такие нарывы получаются — красота просто. Кислота в них есть какая-то. А еще можно в подушечку большого пальца сделать укол из слюны, разнесет к утру руку — тоже сниму с работы. Но, заявляю ему, на тридцать человек не хватит у меня мастырок, Яков Матвеевич, не смогу так сделать, чтоб не заподозрили, а мне ведь жить надо… Нозман этот весельчак был такой обычно, а тут вдруг…
Старик сузил глаза, и легкий рысий проблеск быстро мелькнул в них.
— Вот так он на меня посмотрел! Лицо каменное, в глазах горит по искре бешеной, просто лампочки Ильича в них зажглись, и говорит: а ты, Борис, четыре года назад от Полякова помощь получал? Теперь отдай. И замолчал. Взял я этот список и всё сделал. Вот в какие игры мы играли в Богословлаге.
— Да, история как раз ко времени, — сказала Марина. — Неужели вы осмелитесь публиковать это, Илья?
— Непременно, — отозвался Рубин, лихорадочно черкая в блокноте. — Знай наших, этим гордиться надо.
— А я в разное время по-разному это вспоминал, — угасшим голосом сказал Борис Наумович. — Вроде бы и разумно, всем ведь не поможешь, всех не спасешь, а кого выбирать… Всяко выбирали. — Он замолк.
— Настоящий интеллигент должен помогать всем без разбора, — твердо заявил сослуживец Марины. Она беспомощно и длинно посмотрела на него и отвела взгляд.
— Вот сама пошла голова вспоминать, а еще говорят, что в водке пользы нету. — Борис Наумович постучал себя пальцем по лбу. — Я знаю уникальный случай доноса, нас по нему восемь человек сидело. Помните, я вам рассказывал, Мариночка? И вам, кажется? — обратился он к ее сослуживцу.
Тот ответил за обоих:
— Это очень уж Достоевским попахивает. Все было проще в те годы и объяснялось проще.
Рубин вмешался, боясь, что не услышит историю:
— Кто-то из мудрых людей сказал, что действительность не делится на разум без остатка.
— Неглупо замечено, — похвалил Борис Наумович тоном местечкового гурмана мировой мудрости. — Я вот тоже много в лагере думал: зачем человек, который с нами всеми дружил, взял и написал на нас донос? Бескорыстно совершенно, вот что важно. Это был такой поэт-переводчик, уж не буду называть фамилию, на том свете он теперь. Очень был талантливый, между прочим, человек. Шизофреник немного. Только мы ведь все с приветом. И я подумал: знаете, зачем он это сделал? Из неудержимого интереса. Проверить — это страшно или нет?
— Переступить хотел черту, за которую совесть инстинктивно не пускала, да? Я так вас понял? — спросил Рубин.
Борис Наумович молча кивнул.
— Как Раскольников через кровь хотел переступить, так этот — через предательство, — подхватила Юлия Сергеевна, и все одновременно глянули на сослуживца Марины: это он ведь подсказал ассоциацию. Тот неуловимо приосанился и значительно покачал головой.
— С таким я еще не сталкивался, — благодарно сказал Рубин. — Интересно. И очень правдоподобно. А вот переступив — он еще продолжал или ему хватило?
Что-то вертелось сейчас у Рубина на языке, отчего он говорил медленно, словно понукая и боясь спугнуть всплывающие в памяти слова.
— Стишок я знаю, — сказал он. — Вдруг вспомнил. Как раз об этом. «Иуда припомнил вчерашнее, подумал, нахмурив чело, и понял вдруг самое страшное: что страшного нет ничего».
— Это вы сами написали? — Борис Наумович как-то странно смотрел на Рубина, и взгляд его был недобрым и встревоженным.
— Сам, конечно, — Рубин искренне удивился и посерьезнел. — А что вас так задело вдруг? Я сам свои стишки пишу.
— Правда сами? — теперь в глазах старика мелькнул тот тонкий рысий огонек, который он только что изображал, и Рубин ясно видел матерого лагерного обитателя.
— Разумеется, — Рубин пожал плечами.
— А вы говорите — разум, — Борис Наумович обращался почему-то к сослуживцу Марины, и глаза его помягчели, снова за столом сидел добродушный старик с блестящей от легкого пота лысиной. — Вот ведь в чистом виде мистика, батенька. Дело в том, что точно такое же стихотворение, подлиннее, правда, и чуть пожиже, но о том же самом — что Иуда понял, что ничего страшного нет, — я услышал от того поэта за неделю до своего ареста. Он уже донос, очевидно, написал и свои переживания оформлял поэтически.
— Было бы еще интереснее, — не удержался Рубин, — если б я тоже перед этим стишком на кого-нибудь написал, правда же?
— Типун тебе на язык, Илья, — сказала Марина. — Ничего для вас, мужики, святого нет.
— Удивили вы меня, признаться, Илья Аронович, — медленно сказал старик, внимательно, но уже с прежней мягкой усмешкой всматриваясь в Рубина. — Много есть таких психологических загадок… — И замолчал.
— Расскажите, — негромко попросил Рубин: по лицу старика было видно, когда он вспоминал что-то или пытался вспомнить, напрягаясь.
— Вот, пожалуйста, развяжите этот узел, если вы можете и склонны, — Борис Наумович движением — то ли изящным, то ли ревматическим — выгнул кисть руки, словно держа сюжет на ладони и приглашая всех им полакомиться. — У нас на зоне был один бывший вор. — Борис Наумович запнулся и посветлел, припоминая. — Пропажа часов всех систем с гарантией. Кажется, это у них щипач называлось. А еще он как-то в марте пятьдесят третьего мне сказал: Боря, в Москве сейчас народу видимо-невидимо, большевики своего главного пахана хоронят, вот где для меня полно клиентов — видишь, Боря, душа моя болит о работе. Я отвлекся, извините. Изумительный оказался механик, чинил он бензопилы для лесоповала. Вообще любые механизмы до ума доводил. Из ничего запчасти делал, такие золотые руки. И поспорил с другом своим, что совершит побег небывалым способом, никто еще такого не знал. Кстати, татуировка у него была замечательная — на животе, пусть меня дамы извинят: «Дедушка Калинин, в рот меня мотать, выпусти на волю, брошу воровать». Словом, выточил он винт из кедрового обрубка и превратил бензопилу в вертолет. И на нем перелетел через проволоку. Гибрид Кулибина с Икаром. И судьба такая же. Только стихия была другая, не солнечная. Теперь вот вам психологическая загадка. Понимаете, Сережка всех вертухаев предупредил: мол, не собираюсь я бежать, если увидите меня за зоной — не стреляйте, сам вернусь. Кстати, когда я в лагерь попал, он замечательно надо мной подшутил, до сих пор общий хохот помню. Возвращаемся мы с лесной делянки, уже октябрь был, колючий снег метет, ветер, а нас при входе в зону шмонают не торопясь. Я и спросил, дурак: а что, если найдут чего? А Сережка мне громко объясняет: если найдут чего, то в зону не пустят. На той неделе, мол, у одного нашли, так он три дня в зону просился, по поселку вокруг лагеря шатался. Еле, дескать, умолил вертухаев. Серьезно так объяснил. Вокруг меня просто корчились от смеха, а Сережка даже не улыбнулся. После попритихли все, а он добавил так негромко: а нашли-то два десятка вшей всего… И опять хохот. Как его все любили за такие шутки! А в строю как-то раз!..
Старик замолчал, и глаза его подернулись тонкой поволокой то ли слез, то ли воспоминаний. Рубин хотел вернуть его к теме, но спохватился, что лучше бы дослушать все подряд.
— В строю однажды, — очнулся старик и улыбнулся тоскливо, — нам начальник лагеря проповедь читал, чтоб мы усердней вкалывали, потому как страна на нас надеется. А одна из шавок его, опер мелкий, все время руку за спину совал, гимнастерку, что ли, заправлял поаккуратней в складочку, не помню. А Сережка ему из строя громко говорит: гражданин начальник, не чеши жопу, плохая примета, мамаша в деревне болеть будет. Вертухай руку отдернул машинально. А Серега опять говорит громко: чеши, чеши, я пошутил. Пятнадцать суток карцера он тогда получил, но с выводом на работу, без него никак не обходились. А опер тот, он еще с год искал, как бы Сережке срок прибавить, у нас прямо на зоне дело пришивали новое, ну как везде. А после простил его, ему Сережка починил что-то.
Старик опять замолчал, глядя прямо на Рубина невидящими и уже откровенно прослезившимися глазами.
— Извините, — сказал он треснувшим голосом. — Сейчас доскажу.
Он вытащил платок и обстоятельно вытер оба глаза.
— Кончилось вот как: он обеими руками вцепился в рукоять, пила у него на невысокой стойке специально стояла, и винт на ней, и поднялся Сережка в воздух. И через проволоку перелетел. И метров через сто опустился, всем виден был: там голое место. И тут вертухаи на него собак спустили. А ведь он их предупредил. Вот и всё. Почему они все-таки собак спустили? Мы потом спрашивали у двоих, а они говорят: сами не знаем. От неожиданности, что ли. Вроде как машинально. Так-то обычно у нас кого пристрелят — дня три у вахты валяется, другим в назидание, а Сережку даже не выставили. Вот скажите мне, Илья Аронович, отчего они собак спустили?
— Сами потому что звери, — потрясенно выдохнула Юлия Сергеевна.
— А по всей стране на всё неожиданное собак спускали, — хмуро ответил Рубин. — Чтобы другим неповадно было. И еще такая лихость в зэке должна смертельно раздражать вертухая. Больше ничего придумать не могу. А Сережку вашего ужасно жалко.
— Это он меня когда-то просвещал, что в лагере не маленькая пайка губит, а большая, — глухо сказал Борис Наумович. Глаза у него были сейчас тусклые и смотрели в какие-то иные пространства. Он тряхнул даже легко головой, чтобы вернуться, и смущенно улыбнулся Марине. — Я очень не скоро, признаться, понял, что это и к воле относится и вообще к жизни. Потому что о душе это, а не только о теле. Извините за мои печальные истории. Только вот, чтобы закончить: мы это на нарах тоже обсуждали, про собак. И знаете, что один мужик сказал? Что это вертухаи от страха так поступили. Они ужасно нас боятся, когда в нас вдруг человек просыпается; они, сами того не зная, людей боятся. Потому что несмотря на миф и парашу, что они правое дело творят, а чувствуют они, что высший какой-то, Божий, природный закон нарушают. И любой тогда человек — нежелательный свидетель получается. Этот мужик про подсознание нам толковал. Что мы, мол, по природе так же склонны к добру, как ко злодейству. Оттого чем злодейство в нас отъявленней, тем острее мы, хоть сами не сознаем, начинаем всего на свете бояться, потому что Божьего суда ждем, а возмездие это — неожиданно всегда, непредсказуемо и случайными руками творится, но неизбежно. Словом, я никак вам это не передам так же складно, как тот бывший профессор, Липский его фамилия. Он это тогда так ловко повернул, что и в стране всей кровь проливается — от страха за ту кровь, что еще раньше пролилась.
Рубин неожиданно для себя громко присвистнул. Все к нему обернулись, а у старика посветлели и повеселели глаза.
— Простите, — сказал Рубин, — просто уж очень созвучно словам художника Бруни, он еще в тридцать четвертом сказал, что они свой страх зальют чужой кровью.
— Думал, значит, похожее что-то, понимал наше устройство, — одобрительно кивнул Борис Наумович и широко улыбнулся Рубину. — Давайте я вам что-нибудь повеселее тисну, а то дернула меня сегодня нелегкая в душевной тьме у вертухаев копаться!
— Про пленных немцев, — попросила Марина. — Про ихние бараки и мебель. Ладно, Борис Наумович? Пожалуйста.
— Запомнила, — благодарно сказал старик. — Это тоже, между прочим, русскую классику напоминает — кто это, не помню, описывал разговор русского мальчика с немецким?
— Достоевский, — подсказал сослуживец Марины. И так же уверенно добавил: — Или Салтыков-Щедрин.
— Лагерь пленных немцев у нас рядом был, — сказал Борис Наумович, улыбаясь воспоминанию. — Они так аккуратно жили, мерзавцы, — загляденье одно. Не лагерь, а санаторий. Бараки изнутри струганой доской обшили, а доску обожгли очень красиво, прямо панели получились. Ресторан, а не барак. Резные стулья и столы сделали в готическом стиле. Везде узоры из деревянной резьбы. По стенам разные надписи выжгли на немецком о семье, о Боге, о Германии. Возле плаца бассейн вырыли, забетонировали его, воду налили, по краям — скамейки; деревьев насажали. После их перевели куда-то или освободили, уж не помню, а в те бараки вселили нас. Начальник лагеря построил нас тогда и говорит: видите, можно жить красиво и чисто, давайте так и жить. А нам чего? Жить так жить. Сперва бассейн в помойку превратили. После рядом с немецкими надписями на стенах русские появились. Какие — сами понимаете. А готические стулья за две-три драки друг об друга извели. Через месяц и духу немецкого там не осталось, натуральная российская зона. И вы знаете — лучше стало дышать. Привычней. Тут большой был у нас простор для философских дискуссий. Между прочим, все они сводились к тому, что немчуре до нас далеко, ей порядок нужен и комфорт, а через это она и гибнет, немчура.
В коридоре резко зазвонил телефон, Марина вышла и почти сейчас же вернулась.