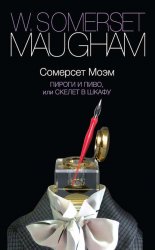Гарики предпоследние. Штрихи к портрету (сборник) Губерман Игорь
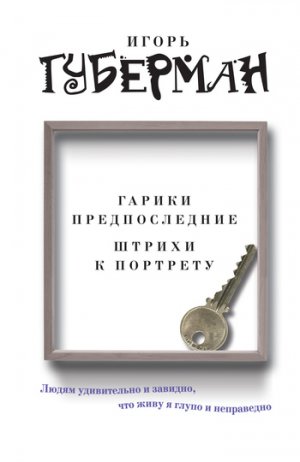
Рубин засмеялся, нирвана снова мягко обволакивала его.
— Давай помянем их, Илья, — сказал старик. — Чистые это люди были. Всех, как есть, приняло их тамошнее болото. Не было на их душах подлой крови. Слепота была. А за нее не судят.
Рубин хотел возразить, но, опрокинув стопку, закурил и возражать не стал.
— Я ведь не о деятелях говорю, — пояснил Варыгин, подбирая крошки колбасы. — На тех вина безусловная. Я о тех, кто в эту мельницу сослепу попал. Фрица Платтена возьми, к примеру. Который с лысым аферистом из Швейцарии за компанию увязался. И за это до самой смерти у нас в тайге щепал дранку для штукатурных работ в инвалидной команде. Долгие годы в холоде и впроголодь. Это что же, справедливо?
— Не знаю, — сказал Рубин угрюмо. — Нету во мне сочувствия к этим энтузиастам. Двадцать лет ваш Платтен до ареста прожил — уж мог понять, куда идем и что творится.
— Жесткие вы, нынешние, — неодобрительно сказал Варыгин, глядя на Рубина, и вдруг тон его резко изменился: — Илья, да ты никак поплыл? Хватит тебе, наверно.
— Нет, — упрямо ответил Рубин и почувствовал, что совершенно пьян. Старик, сидевший перед ним, странно расплывался. Его бледноватая копия, отслаиваясь от него, медленно плыла вправо, потом резко возвращалась назад, на миг сливаясь с основным четким контуром, после чего медленно уплывала влево. Усилием воли напрягшись, Рубин собрал собеседника воедино и схватился за авторучку, твердо сжав ее, хоть ничего не записывал. Старик продолжал что-то говорить, и Рубин включился с крохотным запозданием, было еще понятно, о чем речь.
— С двумя детьми она осталась, отец мой еще работал, она бы выжила. Я, видишь, сам ее убил.
Рубин так резко отрезвел, что в голове у него что-то щелкнуло, как ему показалось, и во рту появился вкус похмелья. Старик помолчал, сделав несколько глубоких затяжек. Смотрел он мимо Рубина куда-то, и лицо его было совершенно темным, почти черным от загара, хмельной багровости и сумерек в зашторенной комнате.
— Я быстро понял, что из лагеря не выйду. Или пришьют, я с уголовниками не ладил, или от голода помру. В сорок первом я ей письмо написал, перед самой войной. Чтобы оно дошло, я его так написал, что она только понять могла. Или отец. Мол, живу здесь я очень хорошо. Кормят нас отлично — как наш Тимофей кормился, так и нас, жду с нетерпением встречи с тещей Марией Николаевной. Поскорей бы. Вот и все. Тимофей — это нищий у нас был когда-то во дворе, полоумный старик, он только из помоек ел, из рук не брал. А теща уже десять лет как померла, так что они поняли, что я прощаюсь. А собой, я написал, распоряжайся, жена, по вольной воле. Все честь честью. Тут она вроде как тихо тронулась. Плакала, звала меня по ночам. И в блокаду померла сразу. Сына нашего уже отец сохранил, отправил его к родне за Волгу при оказии, и выжил он там. А проститься меня с ней старик Лучин надоумил, он так же сделал. Не слыхал о Лучине? Знаменитый был когда-то человек. В Москве на Павелецком вокзале паровоз видел? Музейный?
Рубин сейчас мучительно колебался, стоит ли ему записывать, или он этим спугнет и спутает воспоминания старика. Поэтому налитую стопку он принял без колебаний за помин души неведомого Лучина и, машинально чем-то закусив, решил, что будет запоминать. Только курить не надо, подумал он и закурил.
— Этот паровоз деповские работяги собрали из частей на свалке. Лучин был там старший машинист. И решили они Ленина к себе в бригаду зачислить. Расчетную книжку ему сделали, разряд присвоили. Лучин ему книжку эту и отвозил. Уже Ленин в Горках жил, одной ногой в могиле, плакал, когда книжку брал, растрогался. А когда умер, то кому, как не им, его везти. Вот Лучин и повез. Вдоль пути народ тысячами стоял, а недалеко от Москвы уже — толпа на рельсах сомкнулась. Лучин вышел на передок паровозный и закричал: товарищи, меня Дзержинский лично просил приехать без опоздания, расступитесь, Бога ради, сделайте последнее уважение. И расступились. Лучин это мне раз десять рассказывал, самый был момент в его жизни. После новые паровозы пошли, имени усатого, ты их уже, наверно, не застал. А Лучин всё с этого слазить не хотел. И посадили его за саботаж. Так он у нас и умер. Распух весь, еле ходил, уже на работу не гоняли. Вот таких слепых и невиновных мне жалко больше всех.
— Тут я согласен с тобой, Акимыч, — пробормотал Рубин. Комната опять вовсю плыла и качалась. Колебания контура Варыгина с этими качаниями не совпадали, и от этого было очень трудно сосредоточиться — непонятно было, что останавливать сначала — комнату или собеседника. Рубин громко и очень убедительно говорил что-то, старик молча слушал его и даже кивал головой, после чего встал и отошел куда-то.
— Пойдем, Илья, — сказал он, вернувшись, — пойдем. Приляг. Ты готов уже. Поторопились мы. Гнали быстро. Отдохни.
— Сварился я, — виновато согласился Рубин. — Я часок полежу и оклемаюсь.
Варыгин громко захохотал в ответ и крепко поддержал Рубина во время особенно сильного смещения комнаты, когда Рубин вставал. Снова запах свежей земли ударил ему в нос в коридоре, временно придав силы, после чего мир растворился в темноте, заблестел мелкими звездочками и стал плавать перед глазами, пока вдруг разом не потух. Не было ни проблеска, ни звука. Сновидений тоже не было.
Рубин проснулся от запаха сигаретного дыма, шороха передвигаемых ящиков, хриплого кашля и негромкого одинокого бормотания в коридоре за дверью. Сквозь щели оконных ставень били по комнате насквозь, расплываясь по стене, плоские лучи солнечного света. Рубин лежал одетый на латаном-перелатаном ватном одеяле, ботинки были сняты с него, и свитер лежал в ногах. Сбоку на табурете краснел на блюдце огромный соленый помидор, готовый мгновенно лопнуть и выбрызнуть в спекшееся горло свою живительную мякоть. Рубин жадно воспользовался предложенным и от блаженства полностью пришел в себя. Голова болела вполне терпимо. Оставались, правда, муки морального свойства, но с ними Рубин, истый сын своего времени, справлялся быстро и умело. Ерунда, подумал он. Подумаешь, пришел и вмиг напился. Не дрался ведь и посуду не бил. Наверняка Акимыча ничем не обидел. Жалко, что не записывал, но все помнится, что было до отключки. Тут же на табурете стояла чашка с еще теплым, очень терпким чаем без сахара. Рубин выпил залпом всю чашку, только вслед сообразив, что крепковато. Встал, подвигал ногами. Жив.
— С прибытием, — радушно сказал из-за двери голос Акимыча, — вылезай, коли жив остался. Уже утро. Восьмой час. Крепко ты прикемарил.
Рубин вышел в освещенный такими же лучами коридор — до чего дом щелястый, подумал он с радостью вернувшегося к жизни человека, — и сразу ухватился, помогая, за большой ящик с рассадой, который Акимыч передвигал к другой стене. Они переглянулись и молча улыбнулись друг другу. Рубину показалось, что он жил здесь всю жизнь.
В комнате на столе уже стояла свежеприготовленная закуска.
— Ты чифирнул? — деловито спросил Акимыч. — Я тебе по-лагерному заварил, на всю катушку.
— То-то у меня сердчишко заколотило, — сообразил Рубин. — Я и думаю, с чего бы? Вроде выпил вчера мало. Вы уж простите, Аким Акимыч.
— За что же прощать? — искренне удивился старик. — Мне, наоборот, приятно было, что ты ослаб. Значит, без задней мысли пил, от души. Не таил ничего — без умысла.
Рубин не сразу ухватил эту логику, а сообразив, рассмеялся.
— Это уж точно, — подтвердил он. — Умысел, правда, был, но безобидный и не шкурный: выслушать и запомнить побольше.
— Еще поговорим, — сказал старик. Они уже сидели за столом и неторопливо курили. — Похмеляться будешь?
— Что вы, — испугался Рубин. — И подумать не могу.
— А зря, — старик, не тратя времени на уговоры, налил себе стопку и с таким вкусом выпил ее, что Рубин заколебался.
Варыгин искоса глянул на него, ловко высасывая помидор, и свободной рукой налил себе и гостю. Рубин выпил и почти незамедлительно ощутил покой и волю.
— Сколько ты мне херни вчера наплел, — добродушно сказал Варыгин. — Интересно вы, сегодняшние, о свободе наловчились говорить, ничего по сути в ней не смысля.
Рубин молча смотрел на него, ожидая пояснений. Что-нибудь, наверно, усредненно-либеральное вчера болтал, а для чего — уже не помнилось.
— Вы все талдычите, что человеку дано право на свободу. А ему кто это право дал? — сурово спросил Варыгин и снова стал похож на генерала в отставке. — Что ли Бог? Или от природы? Почему тогда не считать, что свобода — это обязанность человека? Тоже от Бога или от природы. То-то и оно. Свобода — это знаешь на самом деле что такое? Это обычнейшая способность человеческая. Такая же, как способность ходить, жевать, смотреть и слышать, бабу любить. У одних способности этой больше, у других меньше. Как таланта. Я с ходьбой эту способность хоть и сравнил, но она повыше будет, конечно, посерьезней. Теперь смотри. Вот у тебя способность есть, а ее ущемили, и не можешь ты ее проявить. Как ходить не можешь, если к стенке привязан. Вот тут ты и начинаешь брыкаться: дайте мне эту способность проявить. Право, дескать, я имею проявлять любую данную мне способность. Между прочим, рядом с тобой преступник тоже своей свободы требует, прирожденный убийца. И ему давать? А я тоже рядом с вами, но молчу, потому что нету меня этой способности, от рождения нет, у дедов моих ее отбили, а может, я сам такой. Только свобода твоя мне на хер не нужна, мне с ней делать нечего, я от свободы кисну и дурею, мне порядок нужен, и узда жесткая, и чтобы кому-нибудь подчиняться непременно, а если нету сверху никого, мне страшно становится, зябко и неуютно. Теперь опять смотри: у людей российских в большинстве сейчас нету способности к свободе, потому и потребности в ней нету никакой, вывела ее история на корню. Для кого же вы свободы требуете, о ком хлопочете? Народ российский — он наоборот, он о вожжах тоскует и дисциплине, только чтоб кормили за это вдосталь, а не как сейчас. Потому он так и Сталина вспоминает. И вы такие же, если свободы сверху ждете. А власть — не Бог, она способностью не наградит, она только цыкнуть может или подвинуться, промолчав, если кто свою способность объявляет. Оно, конечно, здесь и до тюряги недалеко, однако выбирать человек всегда свободен, которую из способностей утолять поскорее: делать, что по душе, или жить в сытной неволе, самим собой быть и загибаться от холода или в рабах возле огня придуриваться, выбирай свободно. А чтоб и рыбку съесть, и на хуй не сесть — не коммунизм покуда, и не будет никогда, слава Богу.
— Ну и кашу ты наварил, Акимыч, — восхищенно сказал Рубин.
— Не кашу! — упрямо и твердо возразил Варыгин. — Не кашу! Знаешь, я сейчас камеру вспомнил свою в Крестах, где сидел. Народу было битком, на полу вповалку — теснотища. И вот урке одному не понравились слова какие-то, с полу сказанные, сам урка с кентами на нарах в карты играл. Вот он сапог с себя снимает и как запустит в этого профессора на полу. В голову метил, а сапог с подковками, между прочим. В спину попал. Так ведь он почему его кидал так спокойно? Потому что знал: и перетерпит боль этот хилый интеллигентишка, и еще сам сапог обратно принесет. Аж перевернулось во мне все тогда от этого понимания.
— А ты вступился? — быстро и хищно спросил Рубин.
— А на хера мне? — пожал плечами Варыгин. — Если бы тот хилый бросился на урку, я тогда бы, может, и вступился. А уж если бы в меня кто кинул, горло бы успел перегрызть, пока бы убивали. Вот они меня и не трогали. Ведь у страха — у него запах есть, Илья, ты мне поверь, человек всегда знает, кого можно прижать, кого нельзя. Вот когда запахнет от нас всех, что нельзя в нас сапогами кидать, тогда и воздух в нашей камере переменится. Понял ты, о чем говорю?
— Думаю, что да, — протянул Рубин. В это время он примерял такую ситуацию на себя и не был уверен, что кинулся бы перегрызать горло, заведомо зная, что будет изувечен навалившейся кодлой.
— Так они ж нас оттого и держат мертвой хваткой! — словно угадав его мысли, сказал Варыгин. — Когда все мужики или хотя бы многие ощутят в себе способность быть свободными, тогда сразу наша тюрьма развалится, нечего будет и о правах талдычить. А начальная тяга эта к свободе — знаешь, она с чего начинается? Идем, покажу.
И встал, властно кивнув Рубину на дверь. Они вышли на крыльцо, и свежий воздух мигом наполнил их прокуренные легкие, вынудив обоих помолчать и подышать.
— Вот отсюда свобода начинается, — торжественно сказал Варыгин и показал рукой на парники с проклюнувшейся зеленью.
Рубин смотрел на него молча и недоуменно.
— С вольного труда есть путь к свободе, чтобы человеком стать, — негромко сказал Варыгин, теперь уже подыскивая слова, чтобы объяснить поточней. — С вольного труда на самого себя с полной отдачей. Способность к труду, она тайными нитями какими-то, по нервам, что ли, по клеткам в мозге, она с чувством свободы связана. От независимости, что ли, не знаю точно. Пока труд принудительный у нас, пока к нему отвращение — рабы мы все, и никакие права нам не помогут. Зэк у нас был на зоне, — добавил он, помолчав. — Татуировка у него была на ногах: пограничный столб и надпись со стрелкой — Турция. А ниже — буковки наколоты: иду туда, где нет труда. Это вот и есть настоящий раб, настоящий современный товарищ, хоть сейчас его в начальники сажай. А как только человек работать может и хочет — он уже чувствует и способность к свободе. У нас в России это семя на корню истребили. Я о кулаках говорю и прочих хороших людях. Неужели опять не понял?
— Нет, я немного понял, что-то в этом есть, прав ты и неправ, Акимыч, а по полочкам не могу так сразу разложить, — промямлил Рубин.
— Ну как же ты, — огорчился Варыгин, и лицо его страдальчески сморщилось. — Ведь варит у тебя котелок, ты напрягись. Если есть у тебя способность к чему-то, то и потребность есть эту способность утолить. Это же как с бабой точно: зачем баба тебе, если не по силам, понял?
Рубин кивнул головой, чтоб отвязаться и подумать.
— Теперь дальше, — настаивал старик. — Потому и нэп отменил усатый, что свободных людей боялся, потому и кулаков извел, и всех, от кого самостоятельностью пахло. Это сейчас постепенно мы в себя приходим. Уже нас меньше раздражает, ежели инициатива у кого, если хочет он жить хорошо и потому крутится. Постепенная это история, пока рабы в человеческое сознание восходят. Кто через труд на самого себя, кто через торговлю, кто через веру, кто как. Тут и честность появляется, первый признак свободного человека. И стыд, и совесть, и честь — а то ведь начисто извели в людях эти свойства. Не заметил?
— Вспомнил, — сказал Рубин, — мне один старик рассказывал: его с работы выгнали с формулировкой — за избыток инициативы.
— Вот-вот, оно самое, — обрадовался Варыгин. Он стоял возле крыльца на дорожке, прислонясь к перилам и наслаждаясь то ли воздухом, то ли видом своего хозяйства. — А у нас на зоне такой Коля Потапкин был, повар на том самом пароходике, что Сталина с Кировым по Беломорканалу возил. Так он в меню лишнее блюдо одно сделал, от желания потрафить вождю. Скажем, по расписанию восемь блюд полагалось в день изготовить, а он какое-то девятое сочинил. Попытка теракта. Десять лет.
— Кто у вас только не сидел на зоне, — сказал Рубин с крыльца. Только-только начинала яснеть голова. Старик поднял к нему улыбающееся лицо.
— Что ты! — сказал он. — Даже генерал Андерс сидел, поляк этот. Увезли его вместе с остальными поляками. Как мы им завидовали, когда остались! А один из нашей зоны даже к Сталину на свидание ездил. Возили, конечно. Правда-правда, век свободы не видать.
— Закурим? — предложил Рубин. — А то воздух слишком свежий.
— Верно, — засмеялся Варыгин и ловко зажег спичку, охраняя пламя от ветра в огромных своих ладонях. — Левинер его была фамилия. Он когда-то с усатым в одной ссылке был. В Сольвычегодске, кажется. Там у них привольно было, царь-дурак ведь пособие платил ссыльным, им жилось чуть ли не лучше, чем работягам тамошним. Рассказывал еще этот Левинер: они там каток организовали для населения, брали немного за вход — деньги эти шли тем, кто нуждался, зато музыка играла — сплошь из революционеров оркестр. Левинер на трубе дудел, а Коба — на кларнете.
— Слушай, Акимыч, я это записать должен, я не знал, что он играл еще. Про стихи — знаю, а про кларнет — впервые. Позволь, тетрадку притащу, — заторопился Рубин.
По лицу Варыгина пробежала легкая тень, и лицо его окаменело, застыв.
— Пиши, — надменно сказал он. — Варыгин моя фамилия. Аким Акимович. Я ничего не боюсь.
— Да ты что, — Рубин остолбенело смотрел на старика. — Я не собираюсь на тебя ссылаться. Мне сам факт интересен, вот и все. Экий ты чудак. Что в этом криминального?
— Чудак, по-моему, ты, а не я, — старик помягчел и задумчиво смотрел на Рубина. — Неужели правда ты думаешь о лагерях писать и чтоб это кто-нибудь напечатал?
— Акимыч, дорогой, неважно мне, напечатают или нет, мне самому это нужно, для себя, — взмолился Рубин. — Не могу я больше ни о чем, поверь мне. Как судьба это. Понимаешь?
— Бери тетрадь свою, бутылку прихвати, мы на крылечке сядем, — приказал Акимыч. — Давай.
Они уселись поудобней, выпили, молча чокнувшись, и Акимыч, ставя рюмку, сказал:
— Я за то пил, чтоб не попался ты, пока не напишешь. Болтаешь много, небось?
— Не очень, — засмеялся Рубин. — Но болтаю. Расскажи дальше, я пометку в тетради сделал, не забуду теперь.
— В Сольвычегодске, значит, если правильно помню. Этот Левинер посылки там из дома получал и Кобу регулярно подкармливал. По-лагерному это называется — подогревал. Такое забывать негоже. Тому, кого подогревали. Вот мужики и говорят этому Левинеру: пиши, мол, Сталину, не будь дурак, должен помнить, как ты его грел. А Левинер смущается — мол, неудобно. У вас ведь, у евреев, две крайности: или вы наглые, как танки, или застенчивые, как хер на морозе. Уговорили, однако, написал он. И дошло, представь! Вдруг из Москвы спецконвой, и дергают Левинера на этап, а он от страха и надежды полумертвый. Как только такие революцию делали?
Варыгин опять налил по стопке, но Рубин молча отодвинул свою, и старик не настаивал.
— Привозят его, представь, не на Лубянку, а в самую вашу лучшую гостиницу для начальской шатии.
— В «Москву», наверно, — уточнил Рубин.
— В нее, должно быть, — старик помедлил на интересном месте и неторопливо закурил. — Лагерное шмутье с него сдирают, дают отличную одежу, в номере жратва и книги, на стене — кнопка, чтобы обслугу вызывать. Главное, говорят, никуда не выходите ни на минуту. Что потребуется — вызывайте, принесут. Ждите телефонного звонка. И ждал он так, уж я боюсь соврать, но чуть ли не две недели. Кантовался, как хотел. Спал, читал, курил. Только ожиданием мучился. Очень долго. Даже удовольствие от сытости, безделья и тепла уже притупилось. Вдруг ночью — звонок. Сталин. Гражданин Левинер, говорит он, это вы? Я. Гражданин Левинер, говорит эта рябая сука, я получил ваше письмо, вы очень плохой человек. Если бы вы были хорошим человеком, то вы бы мне в письме не стали напоминать, как вы мне когда-то помогли. Но вы это мне напомнили, значит — вы плохой человек, значит — вас посадили правильно. И отбой. Левинер стоит, ноги у него трясутся. И тут же — подслушивали, видать, врываются вертухаи, кидают ему лагерные шмотки, везут к вагону и на этап. Всего месяц он отсутствовал — и снова к нам на зону. Очень быстро доходягой стал. Будто перегорело что внутри. Или надорвалось от ожидания.
— Потрясающая история, — выдохнул Рубин.
— Слушай, — сказал старик, — я тогда сразу подумал вот что: эта злобная рябая гнида неслучайно Левинера столько дней на гостиничных харчах держала. Это не потому, что усатый забыл о нем. Тут издевательство было тонкое, ему свойственное. Вот, мол, я тоже тебе дал передохнуть и подогрел. Теперь мы квиты. А на выручку с моей стороны — не хуя было рассчитывать, разошлись наши дорожки. Ехай и подыхай… Как ты думаешь, похоже?
— Похоже, — согласился Рубин. — Он наслаждался, если мог унизить. Дай-ка теперь я тебе расскажу, очень сходное тут что-то есть. Старый мне писатель один рассказывал. Поссорились за что-то Фадеев с кем-то еще, не помню точно, но из таких же, из тогдашней своры. Дело было на даче у кого-то из холуев. Сталин говорит, помиритесь, я вас очень прошу, негоже вам в ссоре быть, нехорошо. Они ни в какую. Он настаивает. Мягко просит, но убедительно. Наконец Фадеев не выдержал и хмуро руку протягивает. Тот второй тоже. Пожали руки. Сталин говорит: обнимитесь, я прошу вас от всего сердца, нам нельзя в душе злость хранить к своим, нам злость для врагов оставить нужно. Обнимитесь. Опять Фадеев уступил и этого второго обнял. Тогда Сталин его по плечу похлопал и говорит: слабый ты человек, Фадеев.
— Тот же почерк, — Варыгин сперва кивнул, потом мотнул головой, как норовистый жеребец. — И ведь такая тварь у нас за Бога сидела тридцать лет. Это убитых за такое время сосчитать можно хоть приблизительно, а душевные порухи наши, духом искалеченных кто за все годы сочтет? Ну, правда, он и сдох от этого.
— От чего? — не понял Рубин.
— От ненависти общей, — объяснил старик. — Да ты не пялься на меня, как жених на тещу среди ночи. Столько народу ненавидело его, что он от общего излучения и подох. А еще о науке пишешь. Не знаешь, что ли, что от человека излучение идет? Вот они и слились тогда, общие у миллионов зэков к нему чувства. Вроде как бы радиация получается. И от лагерей шла тоже радиация на всю страну. Страха, всякой мерзости душевной, что в человеке от такой жизни развивается, до сих пор мы из-за этого в гавне живем, никак не можем оклематься. Никогда не думал? Это лагерь всех нас облучил. И детям передаем. Это долго выветриваться будет.
— Да, с твоими образами не поспоришь, — засмеялся Рубин. — Очень ты самостоятельный мыслитель, Акимыч.
— Время есть, размышляю помаленьку, — согласился старик.
— Акимыч, — вдруг сообразил Рубин, — а тебе ведь десять давали, отчего же ты пятнадцать просидел?
— Мне за побег накинули восьмерик, — охотно объяснил Варыгин, с явным удовольствием предаваясь воспоминаниям молодости. — За год до конца срока вдруг меня такая тоска прихватила, и я бежать попытался. В вагоне с лесом. Кто-то стукнул, видать, не нашли б они меня без доноса. Ну, поколотили, как водится, сапогами потоптали, в карцер сунули, срок добавили. Хорошо, что на другую зону не перевели, тяжело к новой привыкать.
— Знаешь, — сказал Рубин, — я что-то начинаю понимать в том, что ты мне говорил сегодня. Голова, должно быть, прояснилась. Ведь потребность в свободе, она и вправду только у тех возникает, кто что-то может, и хочет, и умеет. Кто способен к вольному существованию. И труду такому же. От души, а не под палкой. По признанию и доброй воле.
— Видишь, — спокойно отозвался Варыгин, — вот и сходиться начинаем. Даже Кунин меня не сразу понял, тоже о пустой свободе талдычить любил. А это чувство, оно не всем дано. До него расти надо и расти. Или в себе с рождения иметь, тогда на все пойдешь ради свободы. У нас один зэк ради свободы знаешь, что натуфтил? Из «Евгения Онегина» главу написал заместо Пушкина.
Рубин уже встал, чтобы уходить, ему надо было в город позарез, но, услыхав такое, молча опустился на крыльцо.
— Правда, — старик засмеялся, довольный произведенным впечатлением. — Спроси у Кунина, если не веришь.
— Прямо сейчас поеду, — Рубин поднялся снова. — Я эту историю слышал, только не знал, где именно она произошла.
— У нас, у нас, — кивал старик. — Давай на посошок. Он налил две полные стопки, выпрямился и постарел.
— Славное дело ты, Илья Ароныч, затеял, — негромко сказал он. — Только не отступись. Давай за твою удачу.
— Ваше здоровье, Аким Акимович, очень благодарен вам я. — Рубин чувствовал, что на глаза наворачиваются слезы. Похмельная слабость, зло подумал он, чтоб их унять. И у старика нескрываемо проступили слезы в уголках покрасневших век.
— Давай, — сухо сказал Варыгин, опрокидывая стопку. Вытер рот тыльной стороной кисти, подняв руку, чтобы по глазам пройтись ненароком, после чего мокрой ладонью сжал руку Рубина, как клещами, сразу резко пальцы разомкнув.
— Приезжай, — бормотнул он. — И Кунину с Натальей поклон. Я навещу их вскорости. Бывай.
И, не оглядываясь, ушел в дом. Рубин закурил, огляделся, чтобы все получше запомнить, и пошел на станцию, убыстрив шаг, когда бросил сигарету.
Они сидели на скамейке возле подворотни, куда Кунин каждый день выходил из дома подышать, как он говорил, бензином большого города. Даже здесь, в неяркости улицы между высоких домов, была видна желто-зеленая бледность на лице Кунина, не пытающегося шутить и хорохориться. Дряхлый, смертельно больной старик сидел, нахохлившись и опершись на палку, искоса поглядывая на Рубина.
— Как мой бригадир? — сразу спросил Кунин.
— Спасибо. Это было прекрасно. Настоящий. Очень сильный мужик, — Рубин задыхался после быстрой ходьбы. Курить бы бросить, привычно подумал он.
— Сильный — не то слово, — хвастливо сказал Кунин, словно силой друга лично гордился. — Он при мне однажды мужика во мгновение ока задушил. Я ахнуть не успел.
— За что? — Рубин обычно мало верил в такие богатырские байки.
— Сапоги с него урка снять хотел, — буднично пояснил Кунин. — Мы в бараке двое были. Тот вошел так по-хозяйски, Ухо у него была кличка, а на Акимыче сапоги новые. Ухо говорит: снимай колеса, давай махнемся. Акимыч ему вежливо отвечает, как положено: этап идет на Колыму, и шмотки нужны самому. Ухо ему в глаза пальцами полез, Акимыч его за горло двумя руками. И так и поднял. Ухо только ногами дрыгнуть успел. Акимыч руки разжал, а тот готов.
— И обошлось? — У Рубина холодок прошел по спине от простоты и тона рассказанного. — Жаль, что я не Брет Гарт, — добавил он.
— Ты самим собой хоть бы стань, — ворчливо заметил ему старик и сердито насупился.
— Вернемся, а? — мягко попросил Рубин. — Неужели обошлось?
Кунин кивнул.
— Начальству вообще плевать было, а урки в это время друг друга убивали вовсю, у них суки с ворами воевали. Ухо сукой был, а суки друг за друга меньше стояли. Да и не знал никто. Мы ушли из барака, а дневальный тоже где-то ошивался. Обошлось. Только Акимыч дня три ходил как убитый. Он ведь добрый очень, это вид один, что генерал, — спокойно и медленно рассказывал Кунин, пристроив подбородок на руки, лежавшие на резной рукояти старинной палки для прогулок. — Давай про Пушкина расскажу, а то ко мне сюда один клиент может подойти.
И он хитро посмотрел на Рубина: видишь, мол, еще живу и существую. Рубин улыбнулся его взгляду и достал сигарету, выказывая полную готовность.
— Очень это был талантливый мужик, — сказал задумчиво Кунин. — И сейчас он жив еще, мы только не общаемся совсем, давно разошлись. Хотя живет он в Питере. Историк по образованию, что важно. А наглый! Но талантлив был тогда — безмерно. Ему, по-моему, все равно было, что написать — утраченную главу «Евгения Онегина» или сожженную книгу «Мертвых душ».
Рубин расхохотался.
— Хорошо ржешь, — сказал Кунин одобрительно. — Я же тебе рассказывал, тогда просто поветрие всех охватило, когда параша разнеслась, что за важные для родины открытия срок будут срезать и даже отпускать. Уверен, что с умыслом эту парашу распустило начальство. Словом, привезла ему жена Пушкина — но не обычное издание, а Брокгауза и Ефрона — знаешь такое? И еще много всяких книг. И написал! Он нам читал — там ведь филологи в достатке были, а просто гуманитариев — вообще тьма, космополиты валом уже шли. Очень всем понравилось. А что не Пушкин, по запаху было очевидно, только мы ведь происхождение знали, а на свежую голову, если не знаешь, — один к одному. Те подлинные куски, кстати, из десятой главы, что были давно найдены, он аккуратно вмонтировал, неразличимо они сливались. Даже интересно, что он сделал, хитрован: крохотные разночтения с тем текстом, что был известен. Мол, переделывал Пушкин, дело творческое. Дальше он сел и накатал властям парашу: что работал в библиотеке Салтыкова-Щедрина, разбирал чей-то архив, наткнулся в старом молитвеннике на листочки с текстом, в котором опознал десятую главу. И, мол, так был потрясен, что выучил ее наизусть в результате бесконечного перечитывания. И предложил найти эту рукопись, поскольку после его ареста папки с книгами и бумагами сдали, естественно, обратно в хранилище.
— А ему никто не ответил? — утвердительно спросил Рубин.
— Нет, никто, — лаконично откликнулся старик, целиком сейчас где-то в лагерях находясь. — Нет, по-моему, никто не ответил. Вдова напрасно подмывалась. Но пушкинисты это все-таки прочли.
— Кто? — нетерпеливо перебил Рубин. Кунин снисходительно покосился на такую пошлую торопливость.
— Лучшие, — ответил он. — Томашевский, кажется, прочел, Бонди, еще кто-то, уже не помню сейчас. Цявловский, вроде бы. Я это потом уже узнал, на воле. Ну, они все сказали сразу, что не Пушкин… А однако же была и неуверенность в их тоне. После он, кстати, на воле эту игру продолжил. Уперся рогом и утверждает: было, мол, держал в руках и выучил, а не сам писал. Мы-то молчим, нам наплевать, а доверчивых и до сих пор полно. Даже статья была недавно: а вдруг и вправду подлинник? Специалисты хуевы. Знаешь, всюду настолько слабые профессионалы, что при таком раскладе мне бы надо искусствоведом быть: цвета не чувствую и слабо вообще цвета различаю, рисунка и его законов не знаю, фамилии художников через полминуты забываю, и руку опознать ничью не могу — типичный был бы искусствовед.
— Да, богатая страна Россия, — задумчиво сказал Рубин. — Постоянно где-нибудь таланты возникают.
— Оттого она и режет их без жалости, — подтвердил Кунин. — Доволен историей? Тогда беги, куда хотел, а я еще посижу.
— Может быть, помочь наверх подняться? — спросил Рубин, вставая.
— Ни за что, — надменно сказал старик. — Во-первых, я человека жду, во-вторых, взберусь тебя не хуже. Скажи лучше стишок и иди. О старости что-нибудь.
О старости Рубин много писал — с тем большим удовольствием, чем лучше и бодрей себя чувствовал. Ира говорила, что слюнявыми жалобами на старость он свою грядущую дряхлость заклинает таким образом повременить.
— Сколько угодно, — сказал Рубин и встал в позу декламатора. Кунин исподлобья смотрел, опершись подбородком о палочную рукоять.
Рубин прочел торжественно и печально: — «Не грусти, что мы сохнем, старик, мир останется сочным и дерзким, всюду слышится девичий крик, через миг становящийся женским».
— Ну, счастливо, — сказал Кунин. — Возникай, когда появишься. Я еще тоже поживу. Неохота умирать, Илья. Знаешь, очень хочется досмотреть, чем закончится это блядство. — И снова остро и мгновенно у Рубина заволокло глаза. Низко наклонившись, он неловко поцеловал старика куда-то возле уха, резко выпрямился и почти побежал. Почувствовав, что влага высохла, обернулся и помахал рукой. Кунин кивнул ему, слегка приподняв голову над резной рукоятью палки.
Глава вторая
Наступила пора ввести в повествование человека, с которым Рубин давным-давно мог познакомиться, но не пришлось. А понаслышке они знали друг о друге от весьма пожилых дяди и тети Рубина. Вернее, дяди и его жены — оба, впрочем, одинаково любили племянника. Это были удивительные старики: чистые, доброжелательные, неназойливые. Мирно и счастливо прожили они вместе более полувека, тихо и трогательно отпраздновав несколько лет назад свою золотую свадьбу. Каждому было чуть за восемьдесят сейчас, но тетя Ида все-таки настаивала, что ей семьдесят пять, и дядя Сема горячо подтверждал это. Гибельные смерчи тридцатых и сороковых совершенно не коснулись их, по счастью, словно незаметность служила охранительной стеной, — казалось, что на таких просто не поднималась рука доносчика, следователя-стахановца или павликов морозовых, росших у многочисленных соседей. Дядя Сема всю свою жизнь провел в каком-то управлении, ведающем текстильной промышленностью, — то ли экономистом он служил (что, как известно, является профессией национальной), то ли технологом.
Рубин довольно редко навещал стариков, ощущая всегда в их доме смутный стыд за суетливость своего существования. А они очень гордились, что племянник пишет и печатает статьи и книжки, считали его участником распущенной и богемной, но невыразимо привлекательной жизни и расспрашивали всякий раз с тактичным, но настойчивым любопытством, кто с кем живет, кто сейчас разошелся и кто что сочиняет — из тех, кого они читали, слышали или видели по телевизору. Собираясь к ним, Рубин старался припасти какую-нибудь лакомую новость, и она долго обсуждалась ими — доброжелательно и с обилием гипотез. Многие из узловых, болезненных российских тем рассматривались стариками столь просто, что Рубин терялся от бессилия им что-нибудь возразить. Например, о Сталине говорилось прямо и с полной определенностью: да, погибли миллионы людей, но, во-первых, он многого не знал, во-вторых, он хотел добра и при нем часто снижались цены, в-третьих же, что главное, — он выиграл войну и был великим человеком, и не надо все сваливать только на него одного. Обсуждались лень, апатия и общее измельчание сегодняшней молодежи, но причины отыскивались в общем улучшении жизни и выросшей отсюда беззаботности, так что даже неудобно было возражать. А квартиры какие стали строить — помнишь, Ида, как мы ютились в коммуналках? — говаривал дядя Сема, неуклонно переходя на тяжкие перипетии, пережитые текстильной промышленностью, а тетя Ида, выждав удобный момент, принималась вспоминать свою молодость, покойную сестру, с которой очень дружила, и страшное военное время.
Вовсе не были, однако, дядя с тетей просто недалекими и близорукими людьми. Несмотря на годы свои, здраво и зорко они судили, например, о разных людях, неизменно прощая или великодушно смягчая, но проницательно замечая в каждом, в ком это было, — черствость, хитрость, жадность, карьеризм или стяжательство. Но гораздо более они наслаждались и подробничали, когда хвалили людей или отыскивали в них светлые черты. Рубин постепенно пришел к убеждению, что это отсвет их любви друг к другу покрывал таким осветляющим флёром все окружающее их пространство и само мироздание, и уже давно не спорил с ними ни о чем.
Чтобы погреться в их душевном тепле, заходил к старикам довольно часто их ровесник и земляк, тоже очень сохранившийся старик, Матвей Зиновьевич. Впрочем, его и Рубин просто Матвеем называл, повелось это издавна, и обращаться к нему по имени-отчеству было уже неудобно. Жизнь его, полная и деяний зловещих, и воздаяния наотмашь, издавна интересовала Рубина, однако Матвей не склонен был о ней распространяться. То, что Рубин выудил о нем у тети с дядей, очень тесно с духом времени соотносилось.
Году в двадцатом или двадцать первом начиналась бурная часть биографии Матвея. Вынесенный из захудалого местечка ветрами Гражданской войны, лихой конник какого-то забубённого полка, Матвей рубился, не жалея сил, с черной гидрой белой контрреволюции. Где-то в Молдавии, в местечке столь же захудалом, как его родное на Украине, он то ли украл, то ли хитростью увез, то ли от погрома спас (и крылась тут загадка отношений его полка с регулярными частями Красной армии) ослепительно красивую еврейскую девчушку. С огромными глазами, красоты библейской и с библейским именем Рахиль, живой прелестью и сметливостью наполненную, как говаривал Матвей, «до мозга и костей». Ухитрился этот конный жених как-то переправить невесту своей родне, а спустя какое-то время вернулся и с ней вместе уехал в Харьков. Там они блаженно и дружно зажили, и Рахиль очень скоро родила ему сына. Со счастьем этим связан первый (и последний, кажется) в их семье крупный скандал. Молодой отец, обезумевший от радости, но не настолько, чтобы забыть свои воззрения, прислал жене в роддом записку, требуя назвать сына любым из нескольких предложенных им имен. Варианты этих имен Рубин знал, не спрашивая: тут был, должно быть, Вилорик (что означает — Владимир Ильич Ленин — Организатор Рабочих и Крестьян), тут был, без сомнения, Коминтерн, мог быть Эскадрон или на худой конец — Побиск (то есть Передовой Отряд Борцов и Строителей Коммунизма). Любящая жена Рахиль отвечала ему с библейской непреклонностью, что из роддома не выйдет вообще, оставшись в нем санитаркой-нянечкой, если сын не будет назван (тоже на выбор, что свидетельствовало о склонности к примирению) — Моисеем, Соломоном или Исааком. Спорили они, впрочем, недолго — и не только в силу взаимной любви, но и по обоюдной неприязни к непривычному им эпистолярному жанру и сошлись на имени Борис. Рахиль уступила потому, что в имени этом содержалась возможность называть сына Борухом и не стыдно было, таким образом, приехать с ним в родное местечко, а Матвей согласился ради тактического маневра, который он предпринял немедленно: оформляя свидетельство о рождении сына, сделал ему имя Борись! — настояв даже на восклицательном знаке. Тут они опять немного поругались, но Рахиль уже была дома, так что быстро и помирились. Восклицательный знак в устном обращении исчез сам собой, а мягкий знак — при получении паспорта, сохранилась только память о когдатошнем смешном происшествии.
Дальше было не смешно. Принимая рьяное и восторженное участие в устроении сияющей новой жизни, Матвей Зиновьевич Сахнин, ввязываясь во все коллизии партийных свар и усмирения счастливого населения, оказался в конце двадцатых следователем в Наркомате внутренних дел. Он служил здесь так же преданно, озаренно и размашисто, как рубил когда-то конного и пешего врага. Его рассказы о делах на службе стали постепенно тягостны и ошеломительны для семьи земляков, так что однажды он их полностью и разом прекратил. А поводом тому были резкие слова дяди Семена. Тетя Ида этот разговор датировала осенью тридцать третьего года, ссылаясь на неопровержимую зарубку в памяти: трудный дифтерит у единственного сына. Дядя Сема был уверен, что это было в тридцать первом, летом, опираясь на столь же памятную веху: реконструкцию красильных машин на текстильных фабриках Ивановской области.
Матвей в тот день рассказывал, что ему попался крепкий орешек: некий крупный инженер-вредитель. Подследственный упорно не желал свое вредительство признать и покаяться, что мешало вскрыть и обезвредить компанию старых специалистов, целеустремленно и давно тормозивших развитие какой-то слабо процветающей отрасли. Никакие уговоры и доказательства не могли его сломить. Меры воздействия, применявшиеся к нему, были разнообразны и, с точки зрения следователей, предельно гуманны (побоев еще не было тогда) — типа запрещения спать, яркого света в глаза и попеременного потока обещаний и оскорблений. Тут Матвею внезапно явилась мысль, которой он, будучи профессионалом, весьма гордился. Он узнал, что у того инженера есть единственная дочь, свет очей его и средоточие заботы; ради обожаемой дочери инженер готов был все на свете совершить и ради нее, скорей всего, упорствовал, чтобы остаться на свободе.
Нет, с самой дочерью ничего не сделал Матвей, он и в пределах дозволенного оставался мастером своего дела, в справедливости и даже святости которого был совершенно убежден. Просто он поручил фотографам своего учреждения сделать несколько фотографий-монтажей, где в разных ракурсах (для убедительности) была снята дочь вредителя, лежащая среди цветов в гробу. Естественно, он нашел способ предоставить им возможность сфотографировать, явно или тайком, эту живую и невредимую девушку.
— Знаю, почему вы упорствуете, — гневно бросил Матвей инженеру-вредителю на очередном допросе, — вам перед дочкой стыдно. А она вот от стыда за вас бросилась под машину, — и он кинул на стол веером замечательно изготовленные фотографии.
Инженер-вредитель даже звука не произнес, зубами не скрипнул, в лице не переменился, рассказывал Матвей, искренне воздавая должное душевной стойкости скрытого врага. Разве что голос немного выдал состояние вредителя, когда он попросил протоколы признания и все их до одного подписал. А ночью в камере попытался вскрыть себе вены оказавшимся у него осколком бритвы. Но его спасли. Он легкой смерти не заслужил, сказал Матвей, пусть теперь искупит трудом в тяжелых северных условиях свою вину перед родиной и народом.
Этот эпизод старики помнили совершенно отчетливо, потому что именно тогда молчаливый и сплошное добродушие излучавший дядя Семен сказал приятелю резко и угрюмо:
— Бог покарает тебя, Матвей, он тебе этого не простит.
После этого Матвей Зиновьевич и прекратил рассказывать служебные истории в семье друзей. Но возмездие, обещанное дядей Семеном, явно запаздывало. Даже, пожалуй, наоборот: в тридцать седьмом у Рахили родилась замечательная девочка. Она, естественно, была названа Исталиной, и Рахиль ни словом не возразила.
К тому времени оба приятеля чуть ли не одновременно перебрались в Москву, что еще более их семьи сблизило. Матвей Зиновьевич работал до поздней ночи, и Рахиль много времени проводила у земляков.
Вообще они все недооценивали эту веселую, женственную и открытую Рахиль. То есть они ее очень любили, с радостью принимали у себя и ходили к ней, но потом только поняли, что вовсе не такой простушкой и покорной женой она была, просто таила до поры все, что накапливалось и зрело в ней. А пока что они только наслаждались ее оптимизмом и умением разных людей весьма похоже изображать. Вспоминая это, тетя Ида часто пыталась воспроизвести, как Рахиль изображала в лицах приятелей и знакомых того времени, но даже дядя Семен, за всю жизнь тете Иде слова поперек не сказавший, пояснил сдержанно, что такой талант никому не дано повторить.
Особенно, по словам стариков, удавалось Рахили передразнивать задушевную свою подругу Серафиму Фомину, жену какого-то очень-очень ответственного работника Наркомата внешней торговли. Эта смазливая и разбитная бабешка из-под Тамбова совершенно сошла в Москве с ума от столичной возможности одеваться. И о чем бы она ни говорила, эта Серафима Фомина, — сбивалась непременно на то, как была в этот момент одета. Так, однажды Серафима рассказала, что на Новодевичьем кладбище, куда ходила она с мужем гулять (он могилы знаменитых писателей любил рассматривать на отдыхе), вдруг увидели они самого товарища Сталина, приехавшего на могилу к жене.
— Ну, какой он вблизи? — спросила любопытная Рахиль. И Серафима быстро интерес ее утолила:
— Ничего особенного. Стоит. А я — метрах в двадцати. На мне костюм тайер (английский, вставлял всегда дядя Семен), жакет в талию, шляпка тирольская с пером, а туфли — стыдно сказать, но я же не знала — на низком каблучке.
Более того: когда ее мужа Фомина, ответственного работника и перспективного выдвиженца, — арестовали, Серафима, прибежав к Рахили плакать, вскоре отерла слезы и сказала:
— Представляешь себе: они приходят, а мы только что с прогулки. На мне платье блуруаяль (французское, пояснял дядя Семен) с большими перламутровыми пуговицами, белые перчатки, шляпка белая и сиреневые чулки со стрелками а туфли серебряные с голубым отливом на носке.
Обыск был у них тогда же, но пришли еще через неделю — забрать какие-то бумаги, названные Фоминым, — и сразу стали потрошить его стол. И про этот обыск Серафима тотчас же пришла рассказать:
— Приходят утром, я лежу в кровати и реву. А на мне пижама цвета фрез (давленая земляника, пояснял дядя Семен), в рукавах отделана черным шелком и прошита тонкой золотой ниткой. Так я и пролежала весь обыск, они только косились.
Серафиму Фомину забрали месяца через четыре, и во что она была одета в тот день, знали только ее сокамерницы.
Какие-то еще истории вспоминали старики про Рахиль, любившую посмеяться, но минут через десять умолкали. Это шло уже другое воспоминание, и его Рубин тоже слышал неоднократно.
Матвей Зиновьевич приходил теперь домой каждый день только под утро, мрачный и утомленный. Тень не то чтобы задумчивости (даже дядя Семен, сам отнюдь не Сократ, считал Матвея человеком недалеким), а какой-то отключенности, нездешности на него легла, и жене он тоже ничего теперь о работе не рассказывал.
Арестовали его в тридцать восьмом. Передачи брали у Рахили всего дней пять, после чего сказали, что адресат выбыл. В тот же вечер Рахиль пришла к друзьям с детьми, грудной Исталиной и подростком по имени Борись. Она коротко им сказала, что ей сейчас на время необходимо уехать, девочку она с собой возьмет, а парня очень просит подержать покуда у них. Кроме чемодана со своей одежкой сын тащил какой-то узелок и в передней его бросил. Узелок этот обнаружили только утром. Рахиль принесла подруге Иде несколько своих кофт и платьев.
А саму Рахиль нашли спустя месяца три, и то случайно, потому что уехала она, как оказалось, на дачу, недавно ими полученную. Исталину пристегнула она ремнем к спине и с ней вместе бросилась в колодец. Сына через полгода забрали родственники Рахили — они давно получили, как выяснилось, ее письмо, но посмертную просьбу медлили исполнить, и понять их можно было, и тетя с дядей их нисколько не осуждали. Написала им Рахиль, что винит во всем только себя, ибо она давно поняла, что делает Матвей Зиновьевич, и хотела, еще в Харькове живя, заставить его переменить профессию, но не смогла, потому что не старалась. И вот теперь карает себя сама.
Время шло; война дядю Семена пощадила: за два года, что он провоевал, был только однажды легко ранен. После его отозвали что-то восстанавливать, и здоровья он при этом, как часто говорил племяннику, потерял гораздо больше, потому что на войне идиотов не было у него среди командиров, там был страх естественный у всех, к нему привыкнуть можно было, а обезумевшее от тылового страха начальство — куда хуже и тяжелей.
А Матвей Зиновьевич вдруг живой объявился в пятьдесят пятом — совсем облезлый, старый и насквозь больной. Он полгода прожил у них, приходя в себя и квартиру (ту же самую ему вернули) пытаясь поменять, чтобы не мучиться в знакомых стенах.
Сына разыскал Матвей Зиновьевич не сразу, а только через месяц, когда поправился слегка и отошел; старики его одели, как могли, и на зэка-доходягу он уже не походил, как в первый день. Зубы ему вставили за счет организации, из которой он был забран. Встретившись с сыном, Матвей слегка обескуражен был — то ли от встречи, то ли от сыновней неожиданной судьбы: оказалось, что уже давно, по комсомольской путевке призванный, его сын Борис работает в органах государственной безопасности. Очевидно, он отца довольно холодно приветил, потому что о его успехах и его семье Матвей не распространялся в дальнейшем. В курсе был — не более того.
И о лагерных своих годах очень мало повествовал Матвей, на одном только настаивая твердо: был он и остался пламенным коммунистом-ленинцем. И после войны, когда деньги у них в лагере были, он платил тайком партийные взносы в свою подпольную зэковскую ячейку верных большевиков. Словом, был он из той распространенной породы, что прожили в тридцатых свою молодость и зрелость, обмирая от преданности и страха, утешая себя расхожей сказкой, что лес рубят — щепки летят, но до них этот слепой безжалостный топор не доберется. Превратились после в щепки сами, и по пятнадцать-двадцать лет их несло во всероссийском гибельном водовороте, иных засасывая в глину навсегда, иных низводя до мусора. Но выжили. Чудом уцелели. И немедленно обзавелись идеей, что лес рубили безусловно, только как бы и не вырубили вовсе, так что этот лес по-прежнему красуется в монолитном и роскошном цветении, озонируя собою воздух планеты и восхищая человечество, жаждущее такой же судьбы.
В силу этого спасительного мировоззрения Матвей Зиновьевич исключительно о международной политике любил разговаривать, разрубая наотмашь и легко самые запутанные узлы. Жизнь по-прежнему он видел сквозь какую-то нелепую призму, коя все события на свете преломляла так удобно, что система империализма выглядела наподобие Пизанской башни и склонялась со дня на день рухнуть. А все страны, втайне мечтавшие проситься к нам в республики, пока что загнивали, созревая для катаклизмов, которым мы должны были, конечно, помогать, отчего нам самим пока что многого не хватало. Эти и подобные рассуждения лились из Матвея потоком нескончаемым и обильным. Рубин не любил с ним встречаться у стариков и никакой к нему не чувствовал жалости. Порою только думал, как забавно: сын пошел по той же дороге, а с отцом родным не смог найти общий язык.
Борис Матвеевич Сахнин был умен, сухощав и безупречен. И не оттого он обошелся холодно с отцом, что воскрешения его испугался, у многих сотрудников в те годы возвращались из лагерей отцы и близкие, криминальным для послужного списка это не являлось. Но вновь обретенный отец оказался удручающе ограничен, и его докучливые разговоры с оттенком назидания раздражали Бориса Матвеевича до невероятия, до вспышек стыдной неприязни к старику. Отец ему казался мастодонтом, вопреки здравому смыслу продолжавшим свое реликтовое существование. Ради Бога, пусть бы жил себе на здоровье, но к сегодняшней жизни и ее проблемам никакого касательства не имел. Холодно и насмешливо выслушивал Борис Матвеевич разглагольствования старика о преданности партии, возражая ему порой так неожиданно и остро, что отец недоуменно интересовался, как сын может работать в органах с таким преступным и вредительским мировоззрением.
Между тем работал Борис Матвеевич превосходно, и, хотя уже был сильно в возрасте, никто еще о пенсии ему не намекал. Руководил полковник Сахнин огромным оперативным подразделением в сотню человек, из которых половина была с высшим образованием. Все вовремя бывали на местах, безотказно работали записывающие и снимающие аппараты, и ни единой операции за много лет не сорвали подопечные полковника Сахнина.
Наверное, именно поэтому он мог позволить себе шутки, которые никому другому не простились бы. Это он много лет назад сказал с усмешкой на летних командирских учениях: как надену портупею, так немедленно тупею, — и последний зачуханный постовой милиционер, по лимиту прописавшийся в Москве после армии, эту шутку вскоре знал, не говоря уж о сотрудниках Лубянки. И ничего. А в столовой однажды (для начальства, туда не каждый был вхож) говорил он за столом такое, что, бывает, на суде только услышишь, когда судят кого-нибудь за клеветнические измышления.
— Интересно, я подумал сегодня, — громко и сочно говорил Сахнин трем своим высоким сотрапезникам, — что есть фразы, над которыми зря смеются сейчас всякие историки, тайно подмигивая читателю. Помните, конечно (это он к своему прямому начальнику обращался, генералу Селезню), есть у знаменитого Бенкендорфа, начальника жандармов, личной номенклатуры царя, такая известная фраза: прошлое России удивительно, настоящее — более чем великолепно, а уж будущее таково, что недоступно самому смелому воображению. Много раз борзые публицисты припоминали ее с насмешкой, а ведь она безусловно точна с профессиональной точки зрения: это же Бенкендорф о службе надзора и пресечения говорил.
Генерал Селезень, грузный и обстоятельный, ничего, кажется, в жизни, кроме биографии Дзержинского, не читавший, с одобрением кивнул красивой седой головой, а сотрудники, за соседним столом сидевшие, восхищенно переглянулись и разнесли эту мысль немедленно по длинным коридорам их многоэтажной конторы.
Именно полковнику Сахнину одна отменная психологическая формула принадлежала, все теперь ее употребляли как весьма полезный деловой ход. Вызвав на Лубянку для увещевания какого-нибудь зарвавшегося интеллигента — особенно из болтающих с иностранцами, — сотрудник, с ним беседу заканчивая, дружелюбно и вскользь говаривал:
— Ну что ж, я убедился, что вы доподлинно советский человек. Но вот досье на вас уже заведено теперь, смотрите, чтоб оно не пополнялось: папка ведь у нас лежит, а времена — они меняются, заметьте.
Очень многим бравым фрондерам это помогало радикально.
Кое-кто в конторе не любил Бориса Матвеевича — по разнообразным причинам: за постоянно подчеркиваемую начитанность, за суховатую любезность, за неуязвимость и отсутствие заметных слабостей, за разное. Но были люди, обожавшие его, даже подражатели и превозносители были. Очень он однажды репутацию свою повысил и укрепил, когда находчиво и смело выступил на одном собрании, хотя к нему непосредственно тема обсуждения никак не относилась. Речь шла о крупном служебном проступке одного из старых чекистов.
В западногерманском посольстве собрались как-то сотрудники под вечер в кабинете одного из дипломатов, чтоб какой-то праздник отметить. Хлопнуло шампанское, выпили коньяка, и хозяин кабинета сказал, смеясь:
— Жаль мне того русского Васю, который нас сейчас подслушивает, а сам не может выпить, бедолага.
Он это по-русски сказал, ибо по образованию был филолог-славист, своим знанием языка гордился и не прочь был при случае этим щегольнуть. Большинство работников посольства русский понимало тоже, так что дружный смех раздался. А минуту спустя внезапно зазвонил телефон. С недоумением на часы взглянув — уж очень поздно для служебного звонка, — дипломат взял трубку. Вдруг лицо его озарило чрезвычайное какое-то наслаждение, просто расплылось его обычно суховатое лицо, и он знаками подозвал сотрудников. Те столпились, каждый слушал по очереди, и у всех глаза и лица озарялись той же улыбкой счастья. Что-то от детства было в этих улыбках, от озорного, бесшабашного, давно забытого прекрасного детства. В трубке слышался плеск и бульканье, кто-то долго и нарочито громко лил какую-то жидкость из нескончаемой бутылки в бездонный стакан. Долго и громко для того, чтоб догадалась немчура проклятая, что это Вася, нагло осмеянный только что, тоже себе выпивку наливает.
Немцы, восхищенные горделивым русским духом, всюду растрезвонили о происшествии, и дежурный по подслушке лейтенант Михалев был немедля вызван на ковер к начальству, а после этого — на общее собрание отдела. Собрание было призвано и уполномочено в наказание за грубое служебное нарушение ходатайствовать перед руководством об увольнении провинившегося из органов, что кошмарно подрывало пенсионные надежды немолодого служаки. И уже заранее назначенные хулители выступили, требуя зловещей кары. Все было ясно и предопределено, и все молчали привычно, когда слова попросил полковник Сахнин. И был он вдохновенно краток:
— Безусловно, поступок лейтенанта Михалева наказания заслуживает. Только какого? Давно когда-то мы работали с ним вместе — он настоящий чекист, и ничего, кроме хорошего, не могу о нем вспомнить. А теперь? Безусловно, выговора он заслуживает, я согласен. Но не более того. Разве все равно они не знают, что мы их подслушиваем? Знают. И они нас так же в своем Западном Берлине подслушивают. Я за выговор обеими руками голосовать буду. Дисциплина есть дисциплина. Только искренне хочу сознаться, что, рукой за выговор голосуя, всей душой я понимаю Михалева. Это и проступок был, но и поступок тоже — поступок настоящего советского патриота, для которого гордость за свою страну — не пустые привычные слова, а состояние души.
И зал взорвался смехом и аплодисментами, хотя не принято на таких собраниях рукоплескать кому бы то ни было. И сорвалась дисциплинарная акция, большинство проголосовало за выговор, только лизоблюды за увольнение голосовали, да и то некоторые воздержались. И хоть пожурило начальство полковника Сахнина, однако же и оценило его находчивость, так что в самой интонации журения проскальзывало одобрительное согласие. Даже возможность продвижения вдруг для него открылась, так понравился его мужской поступок, но полковник Сахнин заманчивыми вакансиями пренебрег. Более того, самоуверенно и насмешливо сказал он (и, естественно, всем это известно стало), что его не прельщает перспектива выдвинуться: выше въедешь, тише будешь, сказал он, цинично улыбаясь. Это лишь упрочило его репутацию, ибо карьерное бескорыстие было в их среде редкостью уникальной.
Что же все-таки любил Борис Матвеевич, был ли у него вообще круг привязанностей, увлечений, пристрастий? Ибо не службистом был он темным и убогим — а личностью весьма заметной. Ну, во-первых, он семью свою любил. Жену притом — с оттенком благодарного удивления, ибо некогда завел с ней роман из расчета в Москве остаться после института, но потом привык и даже полюбил, очень в этом смысле редкий вытянув у судьбы билет. Обожал он книги и притом литературу именно русскую, особенно классическую, хоть и современной не брезговал, еще в журналах прочитывал новинки. Вообще он литературой и историей России настолько был увлечен, что даже свел своеобразную дружбу на работе с одним полным тупицей — хранителем кабинета, куда поступали антисоветские книги, изданные за рубежом, и отечественный самиздат. Кабинет этот считался справочной библиотекой, но ходили туда очень немногие — в основном причастные к тяжкой борьбе на этом фронте, — а многие, быть может, и ходили бы, но не желали проявить излишний, вызывающий подозрение интерес. Полковник Сахнин пропадал там каждую свободную минуту. Странное приятельство с угрюмым и дубоватым начальником этого кабинета окупалось для Бориса Матвеевича сполна и с лихвой: он единственный литературу эту брал домой — в будние дни до следующего утра, но зато в пятницу — до самого понедельника.
Что находил он там, никогда не всплывало в разговорах, а прочитанное в литературе дозволенной — всплывало часто, ибо секрета из требовательности своей и вкуса полковник Сахнин не делал и про большинство современных авторов отзывался с брезгливым пренебрежением. Притворяются слепыми и блаженными, говорил он, а им ужасно охота шавкать — сочным этим глаголом собственного изготовления он, кажется, очень гордился. Шавкали у него все: вражеская печать и западные радиостанции, клеветники-карьеристы друг на друга и по начальству, супруги в неблагополучных семьях, интеллигенты при общении с иностранцами. Свое кровное чувство привязанности к российской истории и судьбе российской не прокламировал Борис Матвеевич Сахнин, с разумной проницательностью остерегаясь насмешливых искорок в глазах собеседников, но приятелям (друзей у него не было) — склонен был высказать порою то прискорбие свое гражданское, то восхищение чем-нибудь почвенным и исконным, то просто удивляя их вдумчивым и с очевидностью пристрастным, сыновним каким-то анализом эпизодов былой истории. Не скрывал нисколько двойственности в своем отношении к Сталину: перегнул палку, убийца, жажда власти, жалко миллионов крестьян и вообще всех погибших за это время; но было что-то безусловно величественное в его правлении, с царями его роднящее и народному созвучное духу.
В разговорах этих постепенно всплывала, обретала черты и в конце концов ясной для доверенных лиц сделалась — личная, заветная для Сахнина картина идеального российского устройства. И он сам ее высказал, придя однажды на службу в состоянии необычного возбуждения. Прочитал он вдруг о человеке, за сто лет до него пришедшем к идее, которая Российскую империю (независимо от строя и системы) устремила бы по маршруту благоденствия и чрезвычайного расцвета.
Это он о некоем Липранди прочитал, фигуре забытой ныне, а некогда — знаменитой и спорной. Снова и снова с увлечением возвращался Сахнин к разговорам о Липранди и обсуждению его идеи. А при случае он и судьбу Липранди излагал с очевидным удовольствием. Замысловатая это была романтическая история о непонятом, опозоренном и забытом настоящем российском патриоте (по отцу — из испанцев). Те же самые в нем бродили дрожжи, что и в лучшей части российского офицерства, вышедшей однажды на Сенатскую площадь. Неслучайно Пушкин молодой некогда с Липранди подружился — да так, что тосковал, когда не видел его долго. Чуть за сорок было генерал-майору Липранди, когда его, трех войн лихого участника и мастера военной разведки, перевели в Петербург в Министерство внутренних дел.
Все про Липранди знал теперь так хорошо и досконально полковник Сахнин, что по случаю разные эпизоды из его бурной жизни повествовал увлеченно, и сотрудники по нескольку раз эти истории с удовольствием выслушивали. Но о главном, что потрясло Сахнина, он рассказывал с такой сжатостью и насыщенностью текста, что казалось — излагает нечто выученное наизусть и годное для немедленного занесения в какой-нибудь высокий учредительный устав. Ибо венцом творческой мысли Липранди был проект некоего специального органа: высшей тайной полиции.
Было и впрямь необыкновенно по новизне то, что придумал в середине прошлого века незаурядный мыслитель и поэт системы внутренних дел. Ибо ведь только осведомление и пресечение было извечно функцией сыска, но еще никогда в истории не создавалась при полиции сеть людей, отыскивающих и выхаживающих таланты. Именно это выдвинул Липранди в качестве главной задачи тайного учреждения. Не просто расчищать от сорняков, но и культивировать государственную ниву, стать изощренными и вдумчивыми садовниками призывал Липранди тайных рыцарей высшего полицейского органа! Разыскивать, поощрять и взлелеивать, охранять и пестовать людей честных и способных, помогать им пробиваться сквозь извечную российскую толщу равнодушия, безразличия и вражды. Именно этим должен был заниматься замкнутый клан посвященных, рыцарский орден, монашеское единство, нечто вроде иезуитов, вездесущих и осведомленных людей. Их поддержка любых талантов и активное пресечение зла должны вершиться тайно: агентам следовало специальной почтой сообщать наверх о каждой ситуации, требующей вмешательства, а власти должны были немедленно реагировать, помогать и способствовать. Замысел предполагал, чтобы они работали анонимно, даже не зная о существовании друг друга, бескорыстно и самоотверженно, одной-единственной идеей вдохновляемые: польза и возвышение Отечества. Тут бы и переменился российский климат, ибо искоренялись всюду зло и лиходейство, а все доброе и способное — поощрялось и охранялось.
Так упоенно это рассказывал Сахнин и повторял, что однажды даже призван был к начальству, где состоялось нечто вроде импровизированного симпозиума, на котором — увы! — была разбита вдребезги и поднята на смех эта давняя заскорузлая мечта забытого всеми полицейского романтика. Ибо люди, собравшиеся в высоком кабинете, не в силах были отказаться от ханжества и лицедейства даже при интимных беседах. Так что сразу сникло и увяло обсуждение, едва лишь кто-то догадался вслух, что ведь райкомы партии и отдельные коммунисты — вроде бы к тому и призваны, а что в реальности выходит — тут и замолчали все, проявив согласное понимание. Сахнин пытался объяснить, что неправильно такое уподобление, что речь бы шла о небольшом контингенте настоящих подвижников с настоящим образованием и подлинным призванием к такому делу, но осекся, вдруг сообразив с тоской, что ведь и все присутствующие себя считают таковыми, а он им истинную цену знает. Уж какое там бескорыстие и подвижничество… Говорят, в двадцатые годы были такие люди вокруг Феликса Эдмундовича Дзержинского, но уже и в этом сильно сомневался теперь полковник Сахнин, всяческой литературы начитавшись. После того симпозиума он о Липранди больше не разглагольствовал, а вскоре и другие забыли. Только один молодой генерал из контрразведки, как-то встретив в коридоре Сахнина, подозвал его и доверительно объяснил, что население российское — скоты и рабы. Так что работать сотрудникам, если б возник такой орган попечения, — среди столь беспросветного быдла пришлось, что они бы спились немедленно, взятки начав брать за содействие и сокрытие, а скорей всего — очерствели незамедлительно и в таких же аппаратных крыс превратились. Так что не мечите бисер, занимайтесь своим прямым делом, а прожекты и мечты оставьте для бесед за рюмкой коньяка с друзьями. И притом с проверенными, мой вам совет. И генерал пошел дальше, улыбнувшись приветливо, а Сахнин из этого упреждения сделал правильный вывод, больше он публично просветительством не увлекался. Тем более что работы ежедневной было невпроворот: живой, динамичной, оперативной, требующей сообразительности, выдумки и того пластичного разнообразия способов, за которое его ценило начальство. Но читал он по-прежнему запоем.
— А я всегда думал, Толя, что ты совершенно благополучный служака. Бодрый, подтянутый, душа коллектива. Когда с тобой такое началось? Давно?
Спрашивая это, Борис Матвеевич Сахнин искоса глянул на своего спутника и коллегу, тоже полковника государственной безопасности, Анатолия Акимовича Варыгина. Коренной ленинградец, на полтора десятка лет моложе Сахнина, давний его знакомый, Варыгин приятелем Сахнину не был, но, встречаясь изредка на совещаниях, они с симпатией относились друг к другу, а вот теперь заговорили вдруг впервые распахнуто и раскованно. Варыгин приехал в Москву в командировку и утром в воскресенье пригласил Сахнина побродить по городу и поболтать, как бывало в студенческие годы. Не без удивления выслушал его Сахнин и без охоты согласился. На предложение посидеть лучше дома за коньяком и шахматами ответил Варыгин, что не пьет, потому что куража не чувствует от выпивки, а в шахматы ему, психологу, играть — все равно что почтальону совершать прогулки для моциона. Вы инженер, а не психолог, возразил Сахнин. Все мы психологи, ответил Варыгин. Встретились они у памятника Пушкину и шли теперь по Петровскому бульвару. Без обиняков заговорил Варыгин, как тяжело стал чувствовать себя последние годы, как ненавидит свою работу, тяготится службой, задыхается, не знает, что ему делать дальше. Уходить в отставку или менять место, осторожно посоветовал Сахнин. Годы еще не вышли, еще семь лет надо отбыть до полной пенсии, честно объяснил Варыгин, а уходить на маленькую не хочется. А душа не терпит более, и очень тяжкими стали отношения со старшим сыном. Тот запоем читает антисоветские книжки, добывая их у каких-то приятелей, — Варыгин даже знает, у каких именно, — и отца открытым текстом стыдит за причастность к карательно-сыскной системе. Оправданий, что это чисто инженерная работа, парень не принимает. Да, он знает, что отец работает со всяческой следящей аппаратурой, не скрывал это Варыгин никогда, но никак не думал, что его служба может стать причиной их разлада. Сын — филолог, занимается поэзией начала века — Брюсовым, Бальмонтом, декадентами. Смотрите, как забавно, вдруг сказал Варыгин, остановившись, так поразила его внезапная мысль.
Смотрите-ка, Борис Матвеевич, повторил он, декаданс — ведь это упадок, а декадентами называли всех поэтов того времени, которое сейчас именуется русским Ренессансом, то есть Возрождением. А когда в нашу пору возродилась русская свободная мысль после своего многолетнего обморока, то вольнодумцев стали называть шизофрениками и сажать в психушки, чтоб этот якобы упадок разума лечить. Правда же, забавное совпадение? И мы с вами к этому причастны, Борис Матвеевич, глухо добавил он. Почему я именно к вам пристал с этим разговором? Ну не пристал, хорошо, не придирайтесь к слову. Просто мне больше не кому. В конторе нашей ленинградской все друг на друга стучат. Из разных соображений, по разным мотивам и причинам. Не с кем поговорить открыто. Я вас давно уже приметил и выделил. Знаю, кстати, что вы запоем читаете книги, которые наши же сотрудники изымают. И вообще вы мне внушаете доверие. Нет, я не надеюсь, что вы думаете так же, как я, просто был уверен, что могу с вами побеседовать по душам. Уж извините, если не в резонанс попал.
Тут Сахнин и выразил свое удивление и спросил, давно ли это с полковником Варыгиным случилось.
— Давно, — признался Варыгин с невеселым смешком.
В отлично сшитом сером костюме, с промельками серебра в густых каштановых волосах, стройный, хотя с намечающимся уже брюшком, он упруго вышагивал рядом с сухощавым теннисистом Сахниным, и со стороны, должно быть, очень выигрышно смотрелись эти немолодые, но отлично сохранившиеся мужики.
— Давно, — повторил Варыгин. — Я ведь блокадник, хотя блокаду не помню, маленьким был. Но рассказывали мне о ней достаточно. И вот однажды узнаю, представьте, что из голодного блокадного Питера шли в тыл продуктовые посылки. Да, да, продуктовые. Это порученцы Жданова своим семьям посылали. Хватало, значит.
— Так ведь он сам в это время в теннис играл, от ожирения спасаясь, — подтвердил Сахнин. — Это я от одного тренера знаю. Ты не обижаешься, что я к тебе без отчества?
— Нормально, — сказал Варыгин. — Я после тоже на имя перейду. Я вас уж очень старшим воспринимаю. Меня тогда вот это про блокаду просто потрясло. Потом еще. Вы вряд ли помните, конечно, — был у нас такой мэр города в начале шестидесятых — Смирнов. Председатель городского совета депутатов трудящихся.
Последние слова Варыгин выговорил с таким презрением, что Сахнин недоуменно глянул на него.
— Сейчас объясню. — Варыгин вытащил сигареты, приглашающе протянул пачку, Сахнин отрицательно покачал головой, и Варыгин закурил, не замедлив шага. — Я тогда только начинал работать после института. Я институт связи кончал. Соблазнился романтикой, если признаться честно. И сразу попал в оперативную группу. Это у вас сейчас в группе человек сто, а нас тогда всего-то было человек пятнадцать, нарасхват нас требовали, ночей не спал. И нравилось очень. Сами знаете, наверняка прошли через это.
Сахнин кивнул. Охота за людьми, он давно это заметил, побуждала к рьяному азарту даже самых отъявленных лентяев. В старых служаках это было вообще острым стимулом — особенно если их достаточно вводили в курс дела. Оттого, кстати, так безупречно работали все у Сахнина: он знал, что отдача будет полней, когда сотрудник настолько посвящен в детали операции, что чувствует себя полноправным участником всего действия, а не исполнителем третьестепенной роли в эпизоде.
— Мы отслеживали связи товарищей из городского треста, — продолжал Варыгин. — Они воду в вино подмешивали, меняли сорта вин, регулировали автоматы на недолив — обычные хищения среди ихней братии. И каждый, естественно, отстегивал часть добычи своему руководству, а те — своему. И начальство треста получало свою долю, и ревизоры, и милиция, все чин по чину. А самое их высшее торговое начальство — те несли деньги в горсовет и в обком партии. Но мы до этого не сразу докрутились. И тут вы знаете, меня что поразило? Сидит, к примеру, у следователя по этому делу заместитель мэра города, чуть не второе в Питере лицо, всесильный человек; после чего, угадайте, — куда идет? К вшивому магазину шампанских вин и там в задней комнате отчитывается, как мальчишка, перед директором этого шалмана. И тот еще кричит на него: мол, я вас выдвинул, я вас кормлю, я вас и обратно задвину, если не умеете держать язык за зубами! Это, знаете ли, я много позже понял, что вся наша система плодит подкуп и воровство так же естественно, как печень выделяет желчь, а желудок — дерьмо. Тогда и удивляться перестал.
— А что же Смирнов? — нетерпеливо спросил Сахнин.
— Редкостный был здоровяк, — уважительно сказал Варыгин. — Человек-гора. Выпивал две бутылки коньяка. Когда выяснилось, что деньги именно к нему стекались, разрешено было его допросить. На понедельник разговор назначили. Только Бог нас уберег. Он в родительскую субботу поехал к своей матери на кладбище. Не знаю, ездил ли всегда, но в таких ситуациях просыпаются религиозные чувства. Вроде как люди защиты у мертвых просят. Или у Бога скидки. Словом, выпил он там бутылку коньяка, пересадил шофера своего назад и на скорости в сто пятьдесят километров не вписал свою «чайку» в поворот. Почти напополам его рулем передавило.
— А шофер? — спросил Сахнин.
— Шофер ему руль не хотел отдавать. А Смирнов ему по морде врезал. Мол, соображай, кто ты, а кто я. Шофера наши ребята забрали после аварии. Дней десять продержали. Был еще с ними в машине брат Смирнова, комиссар какого-то районного военкомата. Так вот, после аварии он, едва очухался, велел шоферу взять вину на себя. Пригрозил, что хуже будет, парень испугался. Наши сразу разобрались, но до команды сверху все-таки шофера не отпускали. А прикажи — и упекли бы. Словом, не в этом дело. Ушел Смирнов, по счастью, от допроса. И для него, и для нас — по счастью. А теперь в Питере проспект его имени. Святой труженик. Сгорел на работе. Варыгин искоса посмотрел на Сахнина.
— Почему для нас это счастье — понимаете? — спросил он.
— Конечно, — просто ответил Сахнин. — При его связях сожрал бы вас Смирнов за полчаса со всеми потрохами.
— Да, — подтвердил Варыгин. — Мы как-то ехали в Москву с одним старым чекистом, он мне вдруг и говорит: в хорошее время служим, Анатолий Акимыч, в былые годы прямо дома пулю вшили бы. У Смирнова в сейфе камни нашли драгоценные, деньги наши и финские, золотых монет коробку, а главное — меня как коренного питерца это особенно взбесило — знаете, что?
— Знаю, — сказал Сахнин. — Ордера на квартиры, уже утвержденные горсоветом, осталось только фамилии вставить — и можно подарить или продать.
— Верно, — Варыгин явно удивился такой проницательности. Или осведомленности? — Вы это знали? — спросил он.
— Нет, — ответил Сахнин, — просто очень скуден набор всего, что извлекают из своих должностей слуги народа. Сгнила напрочь наша империя, до омерзения протухла, это я тебя понимаю. Только не в этом дело, Толя. Мы ведь все равно — несокрушимая система. И как раз, мой милый Толя, по причине нашей гнилости и рабства полного. Преданности. Патриотизма. Как хочешь, так и называй.
— Слово это не люблю теперь, — поморщился Варыгин. — Только что же из того, что сгнила, но несокрушима наша империя, Борис Матвеевич? Вроде вы в этом оправдание себе и мне находите? Или утешение?
— И то и другое, — подтвердил Сахнин, одобрительно глянув на понятливого младшего коллегу. — Такой путь у России выдался, судьба такая.
— Вот и батя мой так считает, только в своей системе координат, — перебил Варыгин.
— Что же считает твой батя? — Сахнин с явным облегчением дал себя перебить.
— Что Россия распята, как Христос, чтобы своими муками вразумить человечество, — ответил Варыгин.
— Так, да не так, — Сахнин чуть покривился. — Я о другом. Однако глубоко твой батя свои идеи оформляет.
— У него про все на свете своя концепция есть, — сказал Варыгин.