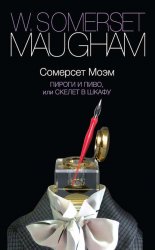Гарики предпоследние. Штрихи к портрету (сборник) Губерман Игорь
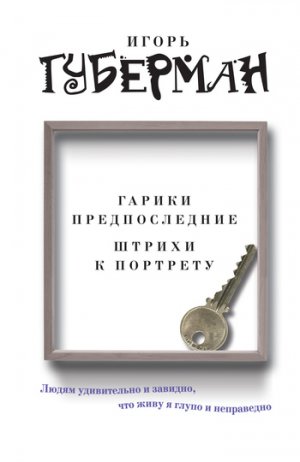
— Это Ира по твою душу, Илья, — она улыбалась от короткого разговора, они дружили. — Тебя просят на киностудию приехать срочно. Что это они тебя так ищут? Или ты ударник экрана?
— Ударник я, ударник, — проворчал Рубин, поднимаясь: очень не хотелось уходить. — На доске почета вишу. На ночь меня вывешивают. И с обратной стороны. Извините. Очень рад был познакомиться. Можно я вас как-нибудь еще навещу, Борис Наумович? И вас, Юлия Сергеевна?
— Буду рада, — церемонно улыбнулась старушка.
— Приходите, про сегодняшние дни поговорим, — пригласил старик. — Сегодня пайка побольше, жить трудней.
И он молодо Рубину подмигнул.
До киностудии было минут тридцать на метро и в автобусе. Редакторша, просившая его приехать, сказала, чтоб он сразу шел в отдел кадров, зачем-то его разыскивали.
Начальник отдела кадров студии, высокий одутловатый мужчина с выправкой и походкой бывшего военного, был ему знаком немного, они здоровались. Но сейчас, пожав как-то по-особому крепко и значительно руку Рубина, он кивнул на плечистого молодого мужчину, вольно раскинувшегося в кресле в углу кабинета.
— Вот, хотят с вами побеседовать, Илья Аронович, так что извините за беспокойство. Оставляю вас вдвоем, чтоб не мешать. После, когда уйдете, дверь мою прихлопните, а то я уезжаю сейчас, позже буду. Желаю здоровья.
И церемонно кивнул обоим, уходя.
— Старший лейтенант Комитета государственной безопасности Рыбников Сергей Сергеевич, — сказал мужчина, вставая и протягивая руку. — Очень рад познакомиться. Нам надо бы поговорить, для того и приехал.
Начинается, подумал Рубин. Кто-то из приятелей сболтнул лишнее.
— Слушаю вас, — ответил Рубин приветливо. — Как вы думаете, курить здесь можно?
— Можно, можно, — лейтенант улыбнулся по-мальчишески и очень дружелюбно.
Закурили оба. Затянулись и помолчали. Рубин был серьезен, лейтенант лучился доброжелательством. Лицо у него было донельзя стандартное: и для комсомольского вожака годилось, и для плаката, возвещающего, что накопил — и машину купил.
Тонкая рубашка плотно облегала его могучие плечи. Только глазки подводили — слишком узко посаженные на большом мясистом лице, яркие и невероятно блудливые. Ходок по бабам, примирительно подумал Рубин. Старший лейтенант Рыбников удобно откинулся в кресле и неторопливо посматривал на него.
— Так я вас слушаю, — Рубин не выдержал молчания.
— Собственно, это я бы вас хотел послушать, — благодушно сказал лейтенант (лет ему чуть за двадцать, сопляк ведь, а уже хозяин жизни, таким себя и ощущает — Рубин подумал это без осуждения). — Видите ли, Илья Аронович, я хотел бы узнать о ваших ближайших жизненных планах. Что вы пишете, о чем думаете, над чем собираетесь работать. И о личной жизни немного: переписываетесь ли с уехавшими друзьями, не подумываете ли сами покинуть родину. Словом, всё о вас хотел бы услышать поподробней.
— А скажите мне, Сергей Сергеевич, — ощерился Рубин (остановись, дурак, успокойся, не заводись, подумал он), — вы не собираетесь бросать жену, сходиться с любовницей, менять квартиру, подсиживать начальника?
— Не понимаю вас, — выпрямившись в кресле, лейтенант в мгновение ока утратил свою приветливость, но спохватился и вернул на лицо улыбку, — почему вы меня спрашиваете об этом?
— Потому же самому, что вы меня, — ответил Рубин, радуясь, что снова держит себя в руках. На самом деле стало вдруг очень страшно — мелькнула мысль о рукописи, запросто лежавшей в столе. — Отчего я должен вам, постороннему человеку, в первый раз увиденному, все о себе рассказывать и исповедоваться? С какой стати?
— Ну, мы с вами еще можем и подружиться, — напористо сказал лейтенант. — Спрашиваю я по долгу службы, а от ваших ответов зависит дальнейшее, о чем я с вами и уполномочен разговаривать.
Уже потом, дома, с гадливостью вспоминая и анализируя этот разговор, убедил себя Рубин, что ничего страшного и опасного не было. Его просто наметили, чтобы стучал на ученых, которых знал действительно много. И прислали к нему кретина с набором штампов. Если вы настоящий советский человек, Илья Аронович, говорил он, вы должны нам помочь, потому что невидимый враг повсюду, а мы должны знать всех, кто может соблазниться его неустанной и ловкой пропагандой западного образа жизни. Ничего конкретного о Рубине он тоже не знал, а служебные инструкции так и выпирали из его речи, как пружины из старого дивана: похвала способностям и успехам собеседника, туманные обещания поддержать на работе, упор на лестное доверие органов, посулы свободных туристских поездок за границу, периодическое напоминание о патриотизме, из которого осведомительство вытекало само собой как почетный долг и святая обязанность.
Рубин юлил и уворачивался, как мог, ибо извечный страх разозлить эту всесильную контору был ему свойствен, как и всем. Он говорил о краткости и узости журналистского общения, о своей нелюдимости и неумении переходить на скользкие темы, о скудости своих знакомств и безупречности всех, с кем доводилось общаться. Беседа была обоюдовялой, ленивой и неинтересной.
— Вы увиливаете, отлыниваете, Илья Аронович, — без обиды и бодро сказал, наконец, старший лейтенант Рыбников Сергей Сергеевич, могуче напрягая в кресле свое засидевшееся мускулистое тело. — Не могу и не хочу вас принуждать, вы еще созреете сами и осознаете необходимость помогать органам.
— Тогда и приду, — вставил Рубин с облегчением.
— Надеюсь, — Рыбников явно склонен был завершить разговор миролюбиво (кстати, среди уговоров, лести и посулов ни одной угрозы не прозвучало; блаженные наступили времена, подумал Рубин). — Теперь давайте временно расстанемся, Илья Аронович, я еще буду вам звонить, а пока дайте мне подписочку о неразглашении.
— Что еще за подписочку? — изумился Рубин.
— Кратенькую, — пояснил лейтенант. — Что обязуетесь не разглашать факта и содержания сегодняшней беседы.
— Ни в коем случае, — впервые за это время Рубин говорил категорически и наотрез. — Не считаю нужным ничего ни от кого скрывать, не считаю секретным наш разговор, не собираюсь у вас в конторе никаких расписок оставлять, а самое главное — я болтун неисправимый, все равно сразу протреплюсь — даже если дам расписку. Так что — ни в коем случае.
Говоря это, уже встав и закуривая последнюю сигарету, Рубин видел, как меняется лицо лейтенанта. Несколько раз промелькнули на нем не только недоумение, растерянность и злость, но даже в какую-то секунду — и готовность взять Рубина за горло своей спортивной рукой. Потянулись нудные уговоры дать подписку о неразглашении. Препирались они стоя, крупное лицо Рыбникова вспотело, глазки сверкали, он улыбался уже так натянуто, что лучше бы не старался. Рубин ясно понял, что ругают этих ловцов душ не за то, что клиент сорвался с крючка, а именно за отказ молчать об этом. Успел даже сообразить почему: завтра он похвалится друзьям своей выдержкой и упрямством, а послезавтра его примеру последуют другие, видя, что отказался человек — и ничего с ним не происходит. Нет-нет, стойко и тупо повторял Рубин. Вы горько пожалеете, об этом настаивал Рыбников. Ничего я противозаконного не делаю, и жалеть не придется, отвечал Рубин, с ужасом думая о рукописи и дальнейших походах к бывшим зэкам. Длилось это минут двадцать, если не больше, и измочалило обоих куда сильней, чем предыдущий разговор. Наконец Рубин догадался сослаться на неотложное дело и был немедленно отпущен — с рукопожатием, улыбкой, добрыми пожеланиями и просьбой тщательно подумать, ибо лейтенант скоро позвонит еще раз. Сколько угодно, буркнул Рубин, выскакивая.
И, на улице машинально закурив, с отвращением отбросил сигарету. Мерзко и перекурено было во рту, гнусно и пакостно внутри — не оставляло ощущение, что появилась где-то рядом гибкая и могучая ядовитая змея и следит за Рубиным, неторопливо раскачиваясь. Вроде и не нужен он ей, но самый факт ее присутствия, ее повсюдного и неотрывного взгляда — портит жизнь и отравляет все чувства.
Рукопись теперь надо прятать на всякий случай, думал Рубин по дороге домой. Вскоре от быстрой ходьбы улучшилось настроение и понемногу стал вязаться стишок. Придя домой, Рубин его тут же прочитал жене (каждый новый казался самым лучшим краткое время): «Во что я верю, жизнь любя? Ведь невозможно жить, не веря. Я верю в случай, и в себя, и в неизбежность стука в двери».
— Типун тебе на язык, — сказала Ирина. — Разве можно самому беду на себя накликать? Стихи же ведь сбываются всегда, не знаешь, что ли?
— Это у настоящих поэтов, — скромно ответил Рубин в смутной надежде быть немедленно возведенным женой в этот ранг. Но не дождался.
— Садись обедать, — сказала Ирина, — расскажи, что было у Маринки.
Про киностудию она даже не вспомнила: будничное дело — звонок редакторши. И Рубин решил ее не расстраивать — зачем в доме лишние страхи? Но с кем-нибудь это, конечно, следовало обсудить.
Больше месяца уже не был Рубин у Фалька. Даже не звонил ему, настолько к вечеру уставал. Он с утра сидел за столом дома, а вечерами торчал в библиотеке, делая выписки из бесчисленного количества газет и книг. Возвращаясь поздно вечером, он подолгу смотрел в метро на беззаботные молодые пары, пока не понял вдруг, что это просится на волю стишок, и немедленно сочинил его, записав в тетрадь, где были заготовки для книги: «Плетусь сутулый и несвежий, струю мораль и книжный дух, вокруг плечистые невежи влекут прелестных потаскух».
К телефону подошла дочь Фалька. Голос у Оли был странный, взъерошенный какой-то, — впрочем, Рубин ее редко слышал по телефону.
— Приезжайте, Илья Аронович, — сказала она. — Только папы нет.
— А когда будет? — весело спросил Рубин. — И будет ли вообще? Загулял?
Непонятный звук, будто всхлип, послышался в трубке, и Оля положила ее. Или случайно разъединилось? Рубин перезвонил.
— Приезжайте! — сказала Оля настойчиво и грубовато, даже не переспросив, он ли это.
Рубин поймал такси. Шофера явно распирало желание что-то рассказать. Рубин достал сигареты, парень предложил ему в ответ свои и заговорил:
— Я только что одного вез, чудной клиент попался! Весь такой сам из себя — в дубленке, шапка ондатровая, очки на цепочке и чемоданчик вроде дипломата, но пошикарней. И молчит. Стали у светофора, на меня не смотрит, говорит будто стеклу лобовому: в Японии я недавно был — херово живут. Ну, я молчу. Херово — и херово. У следующего стали. Говорит: в Англии я тоже был — херово живут. Ну, тут я хмыкнул, но опять молчу. Как назло, у каждого светофора торчим, и он у каждого о какой-нибудь стране говорит, что бывал там и что херово живут. Веришь, земляк, он весь глобус перебрал, пока доехали до Смоленки, — он, видать, в министерстве там работает. Расплатился, дал на чай пятьдесят две копейки, у меня мелочи не было, он рукой махнул. Дверью хлопнул, после снова открыл, всунулся и говорит: ты меня не видел, я на тебе не ехал, — но так херово, как у нас, нигде не живут. Во клиент попался!
Рубин захохотал, радуясь, что байки сами плывут ему в руки, а Фальк еще говорит, что нет фольклора. Вот расскажу сейчас — не поверит. Скажет, как всегда, что сам придумал.
Они доехали. Рубин заплатил, посуровел и сказал таксисту, вылезая:
— Вовсе, брат, не чудик это никакой, а похоже, что ты Штирлица вез.
И, захлопывая дверь, увидел распахнутый рот шофера. На звонок ему открыла Оля, и немедленно из глаз ее потекли слезы.
— Папу две недели как убили, — сказала она.
Рубин ошеломленно молчал. Какой-то хриплый вопросительный звук выдавился из него, но в слово не воплотился. Из-за Олиного плеча Рубин увидел раскрытую дверь в комнату Фалька, где вместо привычных книг стояла модная стенка для белья, посуды и престижа.
— А? — снова попытался он спросить и опять замолк. Они уже сидели на кухне.
— Я хотела вам позвонить, — сказала Оля, — я ваш телефон нашла в папиной старой книжке, но он давно мне уже сказал, что если с ним что случится, чтобы я вас не беспокоила, он так странно сказал: не вовлекала. — У нее вытекли две слезы, она аккуратно промокнула их кухонным полотенцем, висевшим за ее спиной. И улыбнулась виновато. — Вы уж не обижайтесь, Илья Аронович. Папа так сказал. Он вас любил очень.
— Как это случилось? За что? — спросил Рубин бесцветным голосом.
— В подъезде, — сказала Оля буднично и затверженно, как давно и много раз повторяемое. — Ему кастетом сзади голову проломили. Он умер сразу, сказал врач, мгновенно. Соседка неотложку вызвала, я-то в обморок упала. Вечером. Вот в это же примерно время, часов в десять. И не взяли ничего, только часы и записную книжку с паспортом, да у папы ведь и не было ничего. Ну, может, десятка, не знаю. Милиция к нам ездила всю ночь, собаку приводили, так ведь затоптано всё. Подъезд — он и есть подъезд.
— Зачем это? — пробормотал Рубин. У него кружилась голова, словно с сильного похмелья, но никак не мог он ничего сказать, сообразить, спросить. С его места на кухне была по-прежнему видна комната Фалька с наглой импортной стенкой, где уже поблескивал из-за стекла хрусталь и какие-то расписные вазы. Это все выглядело так основательно, будто не было никогда в той комнате живого Фалька, с этой мебелью просто несовместимого.
— Книги папины мы все продали, — бубнила Оля. — Такие книги дорогие оказались, вот купили сразу стенку, видите? Я хотела вам позвонить, Илья Аронович, вас папа так любил, но Борис, муж мой, говорит: с него неудобно брать деньги за книги, а ты давно о стенке мечтала, за ней два года в очереди стоят, а тут по случаю у него на работе продавал один, с женой развелся, ему досталась стенка, а ей вся мебель, они монету кидали, кому что достанется…
Оля тараторила еще что-то о продаже и покупке — ей, похоже, стыдновато было, что такую верткую сноровку проявила; но ведь дело житейское, подумал Рубин вяло, это же для них как если бы сосед умер. Или она все же любила отца, но уже привыкла к потере? Да и тесно было им в одной комнатенке с мужем и пятилетней дочерью — теперь вот есть еще одна комната. Странное какое-то убийство!..
Он, оказывается, это вслух сказал. Оля очень обрадовалась перемене темы.
— К нам приезжал его приятель, — сказала она. — Как раз назавтра после похорон пришел — не вашего он возраста, помоложе. Он к отцу и раньше приходил, я его знала. Он расспрашивал меня подробно, просил папины бумаги посмотреть.
— А кто он такой? — спросил Рубин, настораживаясь.
— Аркадий Евсеевич, друг папин, фамилии не знаю, учитель школьный. Я его у папы много раз видела, только сразу в комнату он проходил, и чай я им туда носила. А бывало — и водку.
Оля наклонилась через стол к Рубину и понизила голос:
— Что-то они писали вместе, я знаю. Много спорили, но при мне замолкали. Он смеется, как мальчишка, Аркадий этот Евсеевич. А уже под сорок. Веселый такой. И странный.
— Что он, забрал бумаги? — спросил Рубин.
— Нет, ничего не взял, — ответила Оля. — Посмотрел, что на столе лежало, мы стол соседям тоже продали. — Проговорившись, она запнулась на мгновение, но Рубин слушал, не шелохнувшись. И она продолжила тем же быстрым полушепотом: — Странный он, так улыбнулся вдруг и говорит мне: это всё сожгите, Оленька, ведь это никому теперь не нужно. И уходить стал. А по дороге говорит, вроде как сам себе и улыбаясь: да, забавно придумали, быстро и дешево. Я переспрашивать не стала, неудобно, но Борису, мужу моему, рассказала. А он мне: Оля, это не наши с тобой дела, забудь — и всё. Он теперь начальник, мой Борис, заместитель начальника отдела. Ну, я и сожгла все папины бумаги. В тазу на кухне. Форточку открыла и все проветрила, Соня только постоянно спрашивает меня: где дедушка, где дедушка, а я реву. Мы ее на время похорон отвозили, чтобы она не видела. Детям вредно.
— Лучше б видела, — сказал Рубин. — Дольше бы дедушку помнила.
— Детям такие нервные стрессы вредят, — твердо и осуждающе сказала начитанная Оля.
Для души растущей это нужно, хотел сказать Рубин, но промолчал. Странное ощущение какой-то непристойной приятности вдруг мелькнуло в нем от непойманной возникшей мысли; тут же осозналась она, и Рубин ужаснулся своей похожести на торопливую Оленьку. Фальк ему сказал однажды: вы меня в свою книжку вставьте, Илья, в качестве старого ребе-резонера, пусть буду я мудрец, отвечающий на все вопросы. Не хотите? Законы жанра не позволяют или то, что я жив пока? То, что жив, хотел ответить Рубин и, естественно, не ответил. А промелькнувшая сейчас мысль как раз об этом и была: теперь Фалька и его слова свободно можно вставить в книгу. Сволочь, подумал Рубин. Нормальный естественный человек. Сволочь. А ведь теперь и вправду можно.
Рубин мешковато поднялся, ибо не о чем было больше говорить.
— Урну с прахом я через неделю получила, — сказала Оля, — мы уже захоронили ее. Такая даль! Знаете, где этот новый крематорий? Рассказать вам, как туда добираться?
— Я вам лучше после позвоню, если позволите, — бормотнул Рубин. — Когда поеду.
— Вы не думайте, Илья Аронович, — сказала Оля, — папу я любила очень. Только вот какие-то мы разные были. И Борис к нему всегда с уважением относился. Правда, приятелей его я не любила. Кстати, знаете, кто еще заходил? Этот бандит, с которым папа познакомился в Сибири. Представляете, без звонка пришел. Я ему все рассказала прямо в передней, в комнату побоялась пускать; он выслушал, повернулся и ушел. Кстати, он еще звонил потом и про вас меня спрашивал. Я сказала, что не знаю такого. Зачем вам бандюга этот, правда?
— Да, конечно, Оленька, до свидания, — рассеянно сказал Рубин и стал настойчиво толкать неподдающуюся дверь.
— Она у нас вовнутрь открывается, уже забыли? — приветливо и облегченно сказала Оленька. — Заходите к нам, Илья Аронович. Звоните.
Дверь захлопнулась. Сигареты остались в кухне, на столе. Рубин вытащил их, но не закурил, потому что Оля как раз бормотала в это время, как накуривал в комнате у Фалька этот учитель. Как его? Аркадий Евсеевич? А фамилия? И где его искать? И зачем? Возвращаться не хотелось. Возле остановки троллейбуса Рубин стрельнул у какого-то мальца сигарету жуткой крепости — кубинцы, что ли, делают такую гадость? — и успел ее докурить, пока пришел почти пустой троллейбус. Одиннадцать, уже некуда пойти и выпить, подумал Рубин, сколько раз они с Ирой договаривались что-нибудь спиртное держать дома на всякий случай про запас — а стоило купить бутылку, немедленно сами выпивали. А Фальку было выпить не с кем. Понять бы, что произошло. А что с этого толку? Вы об меня часто советуетесь, Илья, говорил ему как-то Фальк, только помните, что я живой, а потому пристрастный, на меня не стоит полагаться без раздумий, человек человеку в лучшем случае костыль, а ковылять непременно надо самому. Извините, что говорю красиво. Надо сейчас приехать и всё, что помню, записать о нем, подумал Рубин.
Интересно, черствость это или нормальный профессионализм?
Он почти наверняка знал, кто убил Фалька, но боялся это ясно осознать, ощущая обиду — и стыдясь этой мальчишеской обиды, что была у Фалька область жизни, куда он Рубина так и не впустил.
В состоянии смутном и опустошенном шел Рубин по двору своего дома, удивляясь каждой будничной мысли, внезапно всплывавшей в нем: куда надо позвонить, где добыть сейчас спиртное, не забыть бы завтра лампочку ввинтить над подъездом, опять какой-то экономный жлоб украл ее, чтоб не тратить тридцать копеек на покупку…
В тамбуре между дверями подъезда Рубин почти столкнулся с двумя выходившими мужчинами. Он посторонился, пропуская их, и мгновенно рот его был зажат потной теплой ладонью, а сам он — тесно придавлен боком к простенку тамбура.
— Скажешь, падла, слово — замочу сей миг, — услышал он шепот прямо в ухо и зловонное, с табачно-водочным перегаром, дыхание ощутил.
— На глушняк, — добавил медленно второй голос, ладонь убралась. Рубин открыл глаза и увидел спокойно стоявшего рядом улыбающегося Семеныча, о котором только что говорил с Олей.
— Семеныч! — сказал Рубин обрадованно и удивленно. — Зачем ты это?
— Психологицкий фактор, — важно сказал высокий и тощий парень с гладким безволосым лицом дебиловатого подростка. — Верно, Семеныч?
— Не серчай, Илья, — сказал Семеныч, — я что-то вовсе голову потерял. Или вас по отчеству надо? Как вас там? Аронович?
Высокий хихикнул. Семеныч косо глянул на него, тот стер улыбку и достал сигареты.
— Перебздел, земляк? — спросил он Рубина сочувственно. — Очко, конечно, не железное, оно играет. Аронович, — добавил он и снова хохотнул.
— Давай выйдем покурим, — сказал Семеныч. Ноги были ватные сейчас у Рубина — ему казалось, что они вот-вот прогнутся. Пальцы, когда он брал сигарету, чуть дрожали, но высокий этого, кажется, не заметил. Спичку зажигал высокий.
— Кто убил Фалька? — хмуро спросил Семеныч, оставаясь в тамбуре.
— Ясно, что менты, — сказал парень. — Гопники на глушняк не бьют.
— Всяко бывает, — сказал Семеныч, не отводя от Рубина сузившихся глаз.
Рубин жадно сделал вторую затяжку.
— Чекисты? — спросил Семеныч. Глаза его сделались еще острее.
Рубин молча кивнул, но поправился:
— Думаю, что они. А только кто ж теперь узнает? А гопники — это что такое?
— Гоп-стоп. Бандиты, — сказал дебиловатый парень. Ему очень нравилась ситуация и его роль в ней.
— Я так сразу и подумал, — сказал Семеныч. — С ними в игры не играй. Значит, не сыщешь ту суку, что руку поднял.
— Ты же завязал с мокрухой, Семеныч! — сказал парень весело.
— Для такого дела развязал бы, — нехотя отозвался Семеныч, продолжая в упор смотреть на Рубина.
— Слушай, земляк, у тебя выпить дома не найдется? — дурашливо и дружелюбно спросил дебил.
— Погоди, Пашка, — оборвал его Семеныч. — Не приставай. Лучше выйди и постой на воздухе минуток пять. Цинканешь нам, если что.
— А нас пасли разве? — бравада Пашки мигом улетучилась.
— Нет, — сказал Семеныч мягко. — Потолковать мне надо с человеком. Свали на воздух.
— Пожалста, — не обидевшись, сказал Пашка и подмигнул Рубину. А понадобится, он также без злости задушит меня, подумал Рубин.
— Слушай, ты в курсах, чем Юлий занимался? — спросил Семеныч.
— Только догадывался, — честно признался Рубин.
— Значит, он и тебе не говорил, — задумчиво протянул Семеныч. И, поколебавшись, продолжал: — Слушай, ведь теперь-то все равно уже. Ему не опасно, а мне и вовсе наплевать. Понимаешь, у меня в Казани в спецпсихушке кент есть, дружок мой давний. Меня Юлий попросил достать через него список тех, кто сидит в психушке. Многим, он сказал, помочь можно, если шум поднимется. Передать он этот список хотел. А куда — не мое собачье дело.
— А твой дружок — он сидит? — спросил Рубин.
— Они там с братом в надзирателях кантуются. Он, конечно, сука последняя, что согласился на такую работу, но сейчас это неважно. Он сидит и сам, конечно, срок у него большой, но там житуха льготная. Придуркам всегда полегче. Ну, я Фальку обещал, и список мы вытянули. Там такое делается, даже мне стало муторно, как услышал. А теперь, выходит, список ни к чему. Достали они Фалька. Он им крепко, видать, в почки въелся, а по закону взять не на чем. Ах, какой мужик был!
— Знаю я, какой он был, — хмуро ответил Рубин.
— Ни хера ты о нем не знаешь и знать не можешь, — сказал Семеныч. — Извини, конечно, за грубость. Потому что человек только на зоне узнается.
— А ты думаешь, воля от лагеря сильно отличается? — спросил Рубин. — Здесь человек тоже узнается. Только чуть помедленней, конечно.
— Пожалуй, так, — согласился Семеныч. — Значит, ни к чему мои старания. Сам ты этот списочек не пристроишь? Больно охота мне последнюю просьбу Юлия исполнить полностью.
— Не знаю я никого, — огорченно сознался Рубин. — По другим дорожкам бегаю, в другие игры играю… Впрочем, давай список, я попробую.
— Нет, одна пробовала и семерых родила, — сказал Семеныч вежливо. — Юлий просил, значит, верняк нужен. А попробовать я сам могу.
— Мне ведь легче, — слабо возразил Рубин. — Кого и где ты будешь искать?
В дверь всунулся Пашка и глумливо сказал:
— Гундите вы здесь, как «Голос Америки». Скоро кончите?
— Скоро только кошки кончают, закрой дверь, Паша, — властно сказал Семеныч.
— Ночевать нам ехать надо, — просительно сказал Паша. — Не лето на дворе. — И исчез.
— Давай так, Илья, — сказал Семеныч. — Надыбаешь если дыру, куда просунуть мою бумагу, чтобы без хипежа обошлось, черкани открыточку, что ты жив, мол, и здоров. Я приеду или пришлю с кем. А не надыбаешь — желаю счастья в личной жизни.
— Погоди, Семеныч, — растерянно забормотал Рубин. — Может, ко мне зайдем? У меня и переночевать можно, и чайку.
— Да нет, ехать надо, у нас с Пашкой крыша есть на окраине, — усмехнулся Семеныч. — Приятель один ждет меня и беспокоиться зря будет. Неудобняк. Запиши-ка адресок мой, Илья.
— Постой! — воскликнул Рубин обрадованно. Вспомнил он внезапно, что есть знакомый француз-славист, с которым изредка встречались они на пьянках у одного художника. Как-то француз пришел туда сияющий, как Архимед, и объявил громогласно, что наконец ему открылась непостижимая тайна русской души. В маленьком каком-то городишке под Москвой застрял он со своей машиной посреди огромной лужи, образовавшейся от прорыва теплоцентрали. Поначалу просто буксовали колеса, а потом отказало зажигание. Француз сидел в машине, не решаясь выйти в черную густую грязь, когда мимо с песнями прошла какая-то пьяная свадьба. Он на своем ломаном русском языке попросил о помощи, и парни в свадебных костюмах тут же запросто полезли в лужу, не раздумывая, а веселясь от ситуации с жалким иностранцем. Они мигом выкатили машину и ушли, стряхивая грязь отчаянным притопом. Француз быстро устранил неполадку, а поехав дальше, оказался у распахнутых ворот двора, где плясала и что-то пела компания его спасителей. Он, естественно, остановился, посигналил им благодарственно, крикнул свое спасибо и тронулся вперед, когда один из благодетелей схватил булыжник и могучим броском разбил в его машине заднее стекло. Вот она, русская душа! — восторженно делился француз своим замечательным открытием.
— Давай бумагу, Семеныч, — решительно сказал Рубин. — Вспомнил я. Прости, что не сразу. Очень давно не видел того человека.
— А не заложит он тебя? — хмуро спросил Семеныч. — А ты потом — меня. Подумай. Это Фальк умел играть в такие игры, да и то вот, видишь, доигрался.
— Давай, давай, — сказал Рубин. — А зря подозревать человека — это тебе не западло? Я о себе говорю.
— Я, Илья, никому не верю, — просто сказал Семеныч. — Я и бабе своей не верю. Фальку верил. Теперь опять некому. Держи.
Он вытащил из-за пазухи записную книжку, достал из нее бритву и ловко взрезал обложку. Листок был из папиросной бумаги, исписанный мелко и густо.
— Ох, сколько там сидит! — изумился Рубин, подслеповато вглядываясь в листок.
— Это еще не все. Спецотделение есть. Но там десяток-полтора. И не дотянуться туда. Чтобы парашу не разводить, скажи — десяток. А узнаю точно, тебя сыщу. И если что случится — сыщу, — добавил Семеныч холодно. — Не обижайся.
— Суровый ты мужчина, — вяло сказал Рубин.
От усталости и переживаний дня ноги уже плохо держали его. Они обменялись быстрым рукопожатием, потом Семеныч глянул на Рубина, чуть отодвинувшись, и крепко обнял его. У Рубина вдруг брызнули слезы.
— Счастливо, чудик, — ласково сказал Семеныч. — Не будь лохом. Свидимся еще. Бог даст.
И быстро вышел.
Медленно-медленно поднимался Рубин на свой второй этаж. Ирина выскочила ему навстречу.
— Где ты был? — спросила она, целуя его и помогая снять пальто. — Я звонила к Фальку, я уже все знаю. Я чуть с ума не сошла от страха, что ты где-нибудь напьешься.
— Пойду-ка спать, — сказал Рубин. — Завтра поговорим.
Ему приснились за ночь несколько бурных снов, он просыпался после каждого, пытался его восстановить, но сюжет мгновенно улетучивался. Тут Рубин неожиданно вспомнил смешной сон, как-то рассказанный Фальком: будто Фальк неторопливо беседует, сидя на камне, с Иисусом Христом. Фальк спросил его, отчего христианство запрещает самоубийство — ведь бывает порой в жизни, что это единственно достойный, спасительный или разумный выход. В ответ на это Иисус объяснил, что так действительно бывает, но это истина слишком глубокая, а далеко не каждому человеку нужно знать последнюю правду, есть различные ее уровни, которые нужны различным людям. Фальку эта мысль очень понравилась, и он спросил Христа, как ему сослаться на источник, если он эту мысль вставит в свою научную статью. Собеседник подумал и сказал: так и напишите — Иисус Христос, личное сообщение.
Рубин тихо засмеялся в темноте и снова задремал. Сон, явившийся ему под утро, был тревожным и напряженным — его Рубин, проснувшись, вспомнил сразу.
Он бежал по улицам от кого-то, а точнее — быстро шел, чтобы не привлекать внимание прохожих, но знал точно, что его преследуют, и очень хотел скрыться. Он поравнялся со старым зданием университета и свернул туда. Там в глубине двора было здание института психологии, где Рубин часто бывал у приятелей, туда он и вошел, сразу свернув налево, в зал для собраний, докладов и защиты диссертаций. В зале было полно знакомых и незнакомых людей — шла панихида. Прямо у кафедры стояли два гроба, усыпанные цветами; Рубин подошел поближе и ничуть не удивился, он даже знал это, пришел не случайно, — в гробах лежали Бруни и Фальк.
Кто-то произносил речь о неразрывной связи психологии с искусством, когда в зал гурьбой вошли преследователи. Только тут Рубин понял, от кого скрывался: во главе кучки мужчин шел рослый, бравый и могучий красавец в свитере — лейтенант Сергей Сергеевич Рыбников. Он был разгорячен погоней, возбужден удачей — куда ты теперь денешься, голубчик? — и, поймав взгляд Рубина, мерзко и нагло подмигнул ему: пойдем, мол. Вся компания остановилась у дверей, перекрывая выход. Рубин прекрасно понимал, что при всех они брать его не будут, и беспомощно осматривал собравшихся, ища, кого бы попросить о защите. Были знакомые ученые из институтов, вовсе далеких от психологии; стояли поодаль два старика-зэка из тех, что Рубин разыскал и расспросил; среди молодых высился уголовник Пашка, тоже ничьего внимания не привлекавший. К нему-то Рубин и решил подойти с просьбой выйти вместе. Но, проталкиваясь и перед кем-то шепотом извиняясь, он поймал Пашкин взгляд, направленный в сторону двери. Это был блудливый, пакостный, сообщнический взгляд. И еле уловимо Пашка подмигнул лейтенанту Рыбникову. Рубин остановился как вкопанный и стал оглядываться. Тут только он заметил, что все присутствующие время от времени тоже смотрят в сторону двери и разным образом показывают лейтенанту, что они с ним заодно. Рубину стало холодно, одиноко и безнадежно. Он перевел глаза на гробы: Бруни и Фальк смотрели на него. Потом прикрыли веки одновременно, снова открыли и посмотрели. Надо было идти к дверям.
С этим Рубин и проснулся. Он встал, чтобы одеться, но вместо этого сел в кресло и закурил. Проснулась Ирина.
— Что это ты куришь натощак? — спросила она недоуменно. — И оделся, как Пятница, и куришь натощак.
Рубин рассказал ей свой сон. И про дикое чувство одиночества, которое от сна еще осталось.
— Иди сюда, — хрипло сказала Ирина. — Иди скорей ко мне, Илья.
После они лежали, чуть отодвинувшись друг от друга, и Рубин сказал негромко:
— Если вдруг получится сын, мы его назовем Юлием. А дочку — Юлей.
— Никогда! — ответила Ирина, блаженно потягиваясь и кладя ему ладонь на глаза. — Ни за что. Во-первых, потому, что я уже старая, а во-вторых, потому, что ты дурачок.
А француз отыскался очень быстро и согласился с радостью. Еще бы, настоящее русское приключение! И сказал даже, что знает, куда надо передать эту бумагу.
Глава третья
— Вызывали, товарищ генерал?
— Вызывал, а как же, — генерал Селезень приветливо встал из-за стола и пошел навстречу полковнику Сахнину. Что это он так, подумал Борис Матвеевич, надо ему что-нибудь от меня, не иначе.
Генерал крепко пожал ему руку, хотя утром они виделись в коридоре, и, не отпуская, мягко усадил его на стул у стола для совещаний. Сам сел рядом, глядя с отеческой пристальностью.
— Ты что-то осунулся, Борис, не болен ли? — спросил он тоном, напомнившим Сахнину кинофильмы о старых чекистах — заботливых, проницательных и любящих своих сотрудников, как собственных детей.
— В полном порядке, товарищ генерал, — дружески-почтительно ответил Сахнин.
— Мне здесь говорил недавно кадровик наш, — продолжал Селезень добродушно, — мол, полковнику Сахнину на пенсию пора, срок он выслужил, дорогу молодым пусть дает…
Он помолчал.
— А я ему говорю: полковник Сахнин даст фору пятерым молодым, это бесценный сотрудник, гордость моего управления, и забудьте о его возрасте, у таких чекистов возраста нет. Все-таки дурацкая у нас кадровая политика: отслужил — и на помойку.
— На пенсию, товарищ генерал, — вежливо поправил Сахнин, уже ясно понявший, что нужен для чего-то непростого, иначе не было бы увертюры, в которой скрыта очевидная угроза — возраст в самом деле пенсионный, срок выслужен давно, уволить могли вот-вот.
Генерал Селезень тоскливо махнул рукой, отгоняя призрак собственной пенсии.
— Все одно — на помойку, — по-стариковски грустно сказал он. — Без живого дела — какая это жизнь? В домино, что ли, играть, как Каганович? Или в церковь ходить, как Маленков? Мы ведь с тобой не сможем без дела.
— А я пенсии не боюсь, — браво и беспечно ответил Борис Матвеевич, чтобы сразу обозначить свою независимость. — Сяду писать детективный роман. Столько сюжетов уже вертится в голове — было бы время.
— Да, ты начитанный, — медленно протянул Селезень. То ли посоветоваться ему надо было срочно, то ли о чем попросить. Но совета он просил без предисловий.
Старый ты уже, Селезень, подумал Сахнин, мой почти ровесник, а старый какой. Не выйдет из тебя уже ни Фуше, ни Мюллера. И симпатию вдруг ощутил к генералу, очень по-домашнему они сидели сейчас, и сколько всякого позади, а подлости от Селезня никогда ему не было никакой. Зависел полностью от него, с потрохами, — от его аттестаций и отношения зависел. Особенно когда евреев увольняли из управления. Правда, и Борис Матвеевич отплачивал начальнику верностью и не только никогда не подводил, а даже дарил идеи или остерегал от ошибок. Хороший мужик Селезень, повезло с начальством.
— Дома все в порядке? — спросил генерал.
— В полном, — ответил полковник.
— А у меня совсем плохо, — сказал генерал. — Дочь почти все время плачет. Прямо как больная: ходит и ревет. И с утра уже зареванная встает. Внука ни за что колотит. Заступлюсь — огрызается, как волчиха. Аленушка, говорю, возьми себя в руки, образуется все со временем, пожалей Вовку, он ведь маленький у тебя совсем, а на мужика плюнь, твой Сергей сам образумится, дай ему свое мужицкое отгулять. Не дам, говорит, зачем тогда он женился на мне? Гулял бы и гулял. Елена Петровна тоже на ее стороне: хоть я, говорит, и мачеха Алене, и Сергею вообще никто, а прощать такое мужику нельзя, нельзя потакать. Стыдно это, мол, и унизительно — кобелю потакать. Зря ты его, Николай Антоныч, защищаешь и выгораживаешь. Дочку бы лучше пожалел. Вот такие пироги. А ведь, кроме них, у меня нет никого, сам знаешь, Борис. Нету. Ни единой родной кровинки.
Сахнин знал это. Отец и мать Николая Антоновича Селезня были заживо сожжены в Белоруссии за связь с партизанами. Полдеревни тогда дымом в небо ушли. Сахнин был там как-то проездом вместе с Селезнем, до сих пор помнил он сухие запавшие глаза генерала, когда они вылезли из машины и постояли на месте того массового сожжения.
— Курить будешь? — спросил Селезень.
— Бросил, не дразните, — ответил Сахнин.
— Железный ты какой-то, Борис, — неодобрительно сказал генерал и тяжело поднялся, идя к столу за сигаретами. — Американские, — по-мальчишески похвастался он. — Ароматизированные, специально от астмы. Не попробуешь?
— Ну, давайте, — согласился Сахнин.
— Вот вы все такие, бросатели, волевые люди, — ворчливо и довольно сказал Селезень. — Теперь будешь чужие переводить, а курить все равно не бросишь.
— За компанию, — благодушно ответил Сахнин, наслаждаясь дымом. — Ну и гадость вы, однако, курите, товарищ генерал.
— Если бы ты знал еще, сколько мне платить приходится за эту гадость! — радостно засмеялся Селезень, снова усаживаясь рядом.
— А как у вашего Сергея на работе? — спросил Сахнин. Он знал, что у старшего лейтенанта Сергея Рыбникова дела на самом деле вовсе плохи: уже дважды он выговор в приказе получал, а выволочек на ковре у начальства — не счесть. За выпивки на работе, за отлынивание от поручений, за приставание к каждой машинистке, секретарше, любой мало-мальски смазливой сотруднице. Глухо поговаривали о денежных вымогательствах у кого-то из торговых людей. Дни работы Рыбникова, похоже, были сочтены. И Селезень, конечно, знал это. Если б не его негласная опека и не защитная аура такой родственности, давно уже был бы вычищен из органов этот красивый и бездарный прощелыга.
— Сам знаешь. Хуже некуда, — буркнул Селезень, полуотвернувшись. И добавил мрачно: — Если его вычистят, он Аленку сразу бросит. Это и ежу понятно, что его удерживает. А она без памяти от него, идиотка безмозглая.
— Может, я могу помочь? — спросил Сахнин и тут же испугался, что зря лезет в эти дрязги, ничем он помочь не может, никто здесь никому не помощник. Но добавил все же: — Поговорить с ним? Образумить как-то? Ко мне его перевести? — Вот бы кошмар был, подумал он.
Селезень не пошевелился, глядя на стол, словно что-то выглядывая на полированной поверхности. А ведь это он меня рассматривает, сообразил Сахнин. Отражение мое. Но глаз полковник Сахнин не опустил, чтобы проверить. Только подобрался весь внутри. Много раз он забывал за годы совместной службы, что совсем не так прост генерал Селезень, и не зря он так давно здесь сидит, когда вокруг такая частая смена начальников. Забывал, потому что сам подкармливал Селезня идеями, потому что помощи его ни в чем не просил, к заступничеству не прибегал, провинностей и упущений не совершал и всегда был больше нужен Селезню, чем тот — ему. Вот и расслабился, подумал Сахнин, но ничего, все вовремя, теперь я к его дружбе снова готов.
— Разговором не поможешь и от баб его не отвадишь, — сказал Селезень тускло. — А к тебе перевести нельзя, у тебя технари работают, грамотные ребята, ему только носить за ними что-нибудь потяжелее, да и тут уронит. Он такой ведь: ни украсть, ни покараулить. Морда у него кобелья да хрен, видать, отменного качества, вот и все его достоинства. Разговаривать я с ним разговаривал. Много раз. По-партийному, по-мужски, по-офицерски. Пустое. Но у меня есть план, Борис. И без тебя, я прямо тебе скажу, мне этот план не выполнить. А он надежен.
Все это Селезень говорил медленно, тяжело глядя в стол и головы не поднимая. Недоговорив, поднял, и лицо его сразу стало иным. Это было хорошо знакомое Сахнину лицо старого работника органов, безупречного чекиста генерала Селезня, принявшего решение и диктующего свою волю. Дряблая отечность немолодого человека, сидящего в четырех стенах сутками напролет, обернулась твердыми и почти скульптурными чертами. Глаза смотрели дерзко, насмешливо и уверенно. Он помолодел и похорошел. Сахнин подумал, что не хотел бы оказаться врагом генерала Селезня — а такие были у него в Комитете. Хорошо, что я ему не враг, подумал Сахнин. Хорошо, что он нуждается во мне и мной дорожит. Хорошо, что он мне так доверяет.
— Слушаю, — сказал полковник Сахнин.
— Карьера лейтенанта Рыбникова не просто висит на волоске, а даже волосок подрезан, — жестко сказал Селезень. — Несколько дней назад он вербовал в осведомители одного журналиста. Некоего Рубина. Этот писатель, прости за выражение, ошивается среди ученых, потому он и был нужен. Но он не только категорически отказался работать с нами — даже не дал, мерзавец, подписку о неразглашении, засмеялся и отказался. Серега его дожать не сумел.
Селезень обмяк, положил руку на колено к Сахнину и наклонился, переходя на энергичный доверительный тон.
— Так что осталось этого засранца лейтенанта гнать в три шеи. Завтра он станет вербовать кого-нибудь еще, а тот подумает: вон писатель Рубин вчера в гостях болтал за водкой, что отказался напрочь и подписку даже не дал, а на хуй их послал, чем я хуже этого писателя? Большая воспитательная плешь получается в нашей работе по информации. Но давай посмотрим, как промашку этого кобеля можно повернуть на выигрыш. Очень просто. Сергей пишет рапорт, что по ходу разговора с достоверностью установил причастность журналиста Рубина, во-первых, к диссидентским кругам, а главное — к той большой краже наркотиков со склада Четвертого управления, которой твои ребята недавно занимались тоже. Помнишь?
Сахнин кивнул головой. Он не понимал еще план генерала. Кстати, уж не тот ли это Рубин, любимый племянник двух смешных пасторальных стариков, к которым ходит его отец? Рубиных, вообще говоря, немало, но этот — журналист. Или пишет сценарии для кино? И еще где-то мелькала эта фамилия. Впрочем, все это неважно пока.
Селезень продолжал негромко и наставительно:
— Невзятие подписки о неразглашении покрывается сразу же, упущение лейтенанта становится тонким замыслом. Пусть, мол, болтает, его болтовня теперь поможет выйти на след легче и быстрей. Что касается причастности к этим сопливым правдолюбцам, то она вполне очевидна, так как известно, с кем он дружит. Один из них, кстати, получил недавно по заслугам, все никак не получалось за руку его поймать и кислород перекрыть, да случай помог. И не исключено, кстати, что от потери этой Рубин замечется активней, а его метание нам только на руку. Теперь самое существенное. Рапорт лейтенанта срабатывает, об этом я лично позабочусь, и Рубин включается в списки на обыск по делу о краже наркотиков. Какую-нибудь литературу у таких интеллигентов найти можно всегда, они без нее жить не могут, она их души освежает и укрепляет амбиции, не говоря о возможности трепануться за столом. Проницательность лейтенанта Рыбникова оправдывается, репутация укрепляется. Логично?
Сахнин кивнул. Что будет сказано сейчас, он уже знал. Селезень выпрямился и снова отвердел.
— Теперь вторая и узловая часть. Гипотеза о наркотиках тоже должна полностью оправдаться. Об этом нам надо позаботиться самим. Я уже тут попросил у ребят, мне из вещественных доказательств отсыплют. Объяснение, зачем мне это надо, их устроило. Даже обрадовало. Цветной телевизор старику Селезню понадобился, японский, с приставкой для кино. А сосед — наркоман и может устроить. На крючке теперь будет у них старик Селезень с потрохами вместе.
— А Сергей уже рапорт написал, — полуутвердительно-полувопросительно сказал Сахнин.
— Конечно, — подтвердил генерал. — Он был счастлив и клялся в преданности нашей семье. Даже на кастрацию согласился бы, сукин сын, только нам его жертвы не нужны. А просить о таком деле не тебя, а кого-нибудь из молодых — совесть старого чекиста мне не позволяет: на каких примерах будет наша смена расти? Это же не приведи Господь, что из них тогда получится. А ты — мой старый друг, Борис. Ты знаешь, что я зла тебе не делал, а добро — всегда готов. Неужели ты мне не поможешь?
Сахнину вполне ясно уже было, что попал он в ловушку. Просить о таком скользком одолжении молодняк из оперативной группы захвата — значило рисковать головой. Молодец, старый убийца. Настоящий убийца, это ведь известно всем давно. Все продумал. И отвертеться нельзя. Кроме того, Селезень — железный мужик, он по-крестьянски упорно доведет дело до конца. Кто-то все равно исполнит его план, и безразлично, другой будет или Сахнин. Колебаний этот убийца тоже не простит. Страшнее, чем отказ, колебания при такой просьбе.
— Знаете, Николай Антонович, — глухо и медленно сказал полковник Сахнин, глядя в упор и с лицом непроницаемо серьезным, — я дослушал вас, и мне стало стыдно. То ли за себя, то ли за вас — не разберу.
— Что же так? — служебно-сухо поинтересовался генерал Селезень и напрягся, ожидая любого поворота.
— Столько лет мы с вами рядом и вместе, и вы столько слов напрасно тратите, во мне сомневаясь. Неужели я доверия вашего не заслужил? Тогда мне за себя стыдно. А если вы после стольких лет меня не раскусили по-настоящему, то мне стыдно за вас. Неужели вы могли подумать, что я откажу вам или завиляю?
Властное и жесткое лицо генерала Селезня медленно распустилось в такую отеческую растроганность — даже веки покраснели и набрякли, — так по-киношному плавно все это происходило, что Сахнин успел тоскливо подумать: значит, на пенсию теперь он выгонит меня наверняка. Выгонит не сам, будет в отпуске в это время или в инспекционной поездке, а в кадрах просто издадут приказ. Вернувшись, генерал будет громко возмущаться близорукостью и формализмом, непременно пойдет по начальству, а после вызовет, разведет руками и обнимет. Ну что ж, и поделом тебе, полковник. При отказе вышло бы, наверно, то же самое, только раньше на полгода.
— Боря! — сказал Селезень и, нагнувшись вперед, чуть обнял Сахнина. — Я в тебе, поверь мне, не сомневался. Но эта замашка старого разведчика, она ведь в кровь уже нам въелась, Боря. Ты не обижайся на меня.
— Давайте лучше детали уточним, — суховато и по-деловому сказал Сахнин. — Как меня подключат к группе?
— Я позвоню дежурному и попрошу тебя включить с целью ознакомления с квартирой. Меня подробнее никто не спросит, — старческой размягченности как не бывало, и уже совершенно сухими были глаза генерала Селезня. Шла будничная разработка операции. — Тебе я пишу служебную записку, а хочешь — объясню задание устно…