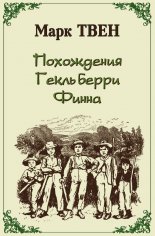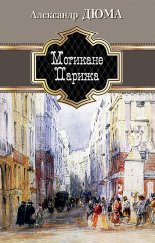Женщина со шрамом Джеймс Филлис

– Это важно мне.
Оба молчали. Потом Маркус сказал:
– А сейчас, пожалуйста, оставьте меня. Со мной уже все в порядке. Честное слово, в порядке. Мне надо побыть одному. Только дайте мне знать, когда ее найдут.
Он мог быть вполне уверен, что именно Летти способна понять, как ему необходимо, чтобы его оставили в покое, знал, что она не станет спорить. Она сказала только:
– Я приверну лампы. – Потом положила подушку на табуретку. – Откиньтесь на спинку кресла и положите ноги на подушку. Я вернусь через час. Постарайтесь поспать. – И она ушла.
Однако у него не было намерения спать. Со сном нужно было бороться. Существует лишь одно место, где ему следует находиться, если он не хочет сойти с ума. Ему надо подумать. Попытаться понять. Принять то, что – как подсказывает ему собственный разум – оказалось правдой. Ему следует быть там, где он может найти более глубокий покой и большую мудрость, чем среди этих мертвых книг и пустоглазых бюстов.
Он тихо вышел из библиотеки, закрыв за собой дверь, прошел через Большой зал, сейчас погруженный в темноту, в дальнюю часть дома, мимо кухни, к боковой двери и вышел в сад. Он не ощущал ни резкого ветра, ни холода. Миновав старые конюшни, он прошел через регулярный сад и подошел к сложенной из камня часовне.
Когда он приблизился к часовне в занимающемся свете зари, он увидел на камнях перед дверью какую-то темную тень. Что-то было там пролито, что-то такое, чего там не должно было быть. Сбитый с толку, он опустился на колени и дрожащими пальцами потрогал это липкое что-то. Тогда он почувствовал запах и, подняв руки, увидел, что они покрыты кровью. Он подполз вперед на коленях и усилием воли заставил себя встать. Ему удалось поднять защелку. Но дверь оказалась заперта изнутри на засов. И тогда он понял. Он бился о дверь, рыдая, выкрикивая ее имя, пока силы его не оставили, и он снова опустился на колени, прижав окровавленные ладони к неподдающейся дубовой двери.
Там, двадцать минут спустя, поисковики и нашли Маркуса, все еще стоящего на коленях в крови его сестры.
6
И Кейт, и Бентон пробыли на дежурстве более четырнадцати часов, и, когда труп Кэндаси Уэстхолл наконец увезли, Дэлглиш приказал им отдохнуть два часа, поужинать пораньше и явиться к нему в Старый полицейский коттедж в восемь часов. Ни тот, ни другая в эти два часа так и не смогли заснуть. В постепенно темнеющей комнате, с окном, открытым в угасающий свет дня, Бентон неподвижно лежал, не в силах расслабиться, будто напряженные нервы и мускулы были каждую секунду готовы включиться в действие. Часы, прошедшие с того момента, когда их вызвал Дэлглиш и они впервые увидели пламя и услышали крики Шарон, теперь казались вечностью, в которой бесконечно долгое ожидание патологоанатома, фотографа, фургона-перевозки перемежалось моментами, запомнившимися так четко, будто они, словно слайды на экране, один за другим высвечивались у него в мозгу: мягкая бережность, с какой Чандлер-Пауэлл и сестра Холланд буквально переносили Шарон через каменную ограду и, поддерживая с обеих сторон, вели ее по липовой аллее; Маркус, одиноко стоящий на черной сланцевой плите, вглядываясь в серое, неустанно пульсирующее море; фотограф, мелкими шажками семенящий вокруг трупа, чтобы не наступить на кровь; хруст суставов, когда доктор Гленистер ломала мертвые пальцы один за другим, чтобы вынуть кассету, зажатую в руке Кэндаси Уэстхолл. Бентон лежал в постели, не сознавая усталости, чувствуя лишь боль в верхней части руки и плече, разбитых, когда он в последний раз бросился вышибать дверь часовни.
Вместе с Дэлглишем, упершись плечами, они пытались выдавить дубовую дверь, но засов не поддавался. Тогда Дэлглиш сказал:
– Мы с вами только мешаем друг другу. Попробуйте вы, Бентон, – с разбегу.
Он попробовал, не торопясь, выбрав направление так, чтобы не наступить на кровь. Отошел ярдов на пятнадцать. Первая попытка сотрясла дверь. На третий раз дверь распахнулась, прямо за ней лежал труп. Бентон сделал шаг в сторону, давая Дэлглишу и Кейт войти первыми.
Кэндаси Уэстхолл лежала, сжавшись в комочек, словно спящий ребенок, у правой руки валялся нож. На запястье был только один надрез, но глубокая рана зияла, точно раскрытый рот. В левой руке была зажата кассета.
Четкий образ разлетелся вдребезги от звона будильника, и тотчас же в дверь громко постучала Кейт. Бентон вскочил с постели. Через несколько минут оба были одеты и спустились вниз. Миссис Шепард поставила на стол шипящие свиные колбаски, печеные бобы, картофельное пюре и удалилась на кухню. Еда была не такой, какую она обычно готовила, но казалось, она поняла, что им сейчас нужнее всего съесть что-то горячее, дающее поддержку и успокоение. Оба были поражены тем, какими голодными оказались, и ели с жадностью, почти не разговаривая друг с другом. Потом вместе направились в Старый полицейский коттедж.
Проходя мимо Манора, Бентон заметил, что дом-фургон и машины охранников уже не стоят у главных ворот. В окнах дома сверкали огни, словно там шел праздник. Никто из обитателей Манора не произнес бы вслух это слово, но Бентон знал, что огромная тяжесть свалилась с души каждого из них: они наконец освободились от страха, от подозрений, от боязни, что правда так никогда и не выяснится. Конечно, арест одного из них был бы предпочтительнее, чем такая развязка, но арест означал бы продление неопределенности, перспективу судебного процесса, прогремевшего на всю страну, публичное шоу свидетельских показаний, вредоносную известность. Признание и последовавшее за ним самоубийство было рациональным и – каждый из них сможет это себе сказать – самым милосердным выходом для Кэндаси. Эту мысль они тоже не выскажут вслух, но Бентон, когда он вернулся с Маркусом в Манор, видел ее отражение на их лицах. Теперь они смогут просыпаться по утрам без того, чтобы их окутывало темное облако страха перед тем, чем грозит им новый день, смогут спать, не запирая двери спален, им не нужно будет обдумывать каждое слово. Завтра или послезавтра окончится пребывание полиции в их доме. Дэлглишу с группой еще придется вернуться в Дорсет на коронерское следствие, но сейчас им уже нечего больше делать в Маноре. И скучать о них никто не станет.
Были сделаны и заверены три копии пленки, записанной самоубийцей, а оригинал доставлен на хранение в дорсетское полицейское управление, чтобы он затем был представлен на коронерском следствии. Сейчас они втроем, всей группой, снова прослушают эту запись.
Кейт ясно видела, что Дэлглиш не спал. Камин был набит поленьями, весело плясали языки пламени, в доме, как обычно, пахло горящим деревом и свежесваренным кофе, однако вина на столе не было. Они сели за стол, Дэлглиш вставил в плеер кассету и нажал кнопку. Они были готовы услышать голос Кэндаси Уэстхолл, но голос звучал так ясно и так уверенно, что Кейт на мгновение показалось, что она здесь, в комнате, вместе с ними.
«Я обращаюсь к коммандеру Дэлглишу, понимая, что эту пленку затем передадут коронеру и любому лицу, законным образом заинтересованному в том, чтобы узнать правду. То, что я сейчас заявляю, является правдой, и я не думаю, что это вас удивит. Я уже более двадцати четырех часов назад поняла, что вы собираетесь меня арестовать. Мой план сжечь Шарон у ведьминого камня был моей последней отчаянной попыткой спастись от суда и пожизненного приговора, а также от всего, что было бы с этим связано для тех, кто мне дорог. И если бы я смогла убить Шарон, я оказалась бы в безопасности, несмотря на то что вы заподозрили правду. Ее сожжение выглядело бы как самоубийство невротической и одержимой убийцы, как самоубийство, которое я опоздала предотвратить. И каким образом удалось бы вам предъявить мне обвинение в убийстве Грэдвин с хотя бы малой толикой надежды на обвинительный приговор, когда среди подозреваемых находилась Шарон с ее криминальной историей?
О да, я знала. Я ведь была там, когда она явилась на собеседование, чтобы получить работу в Маноре. Флавия Холланд была со мной, но она сразу определила, что Шарон не подходит для работы с пациентами, и оставила меня решать, найдется ли ей место среди домашней прислуги. А нам в то время отчаянно не хватало работников. Она была нам нужна, кроме того, меня одолевало любопытство. Двадцатипятилетняя женщина, без мужа, без любовника, без родителей, очевидно – без биографии, без стремления занять иное место, чем самое низшее в иерархии домашних слуг? Тут должно было найтись какое-то объяснение. Смесь раздражающего желания угодить с периодическими молчаливыми уходами в себя, впечатление, что она чувствует себя как дома в официальной обстановке учреждения, что она привыкла к тому, что за ней наблюдают, что она как бы все время находится под надзором. Только одно преступление могло бы объяснить все эти особенности. В конце концов я узнала точно. Она сама мне сказала.
И была еще одна причина, почему Шарон должна была умереть. Она видела, как я уходила из Манора после того, как убила Роду Грэдвин. Теперь она, которая всегда должна была хранить свою тайну, узнала тайну другого человека. Я почувствовала, как она торжествует, как она довольна этим. И она рассказала мне о том, что собирается сделать у Камней, о своей последней дани уважения и любви Мэри Кайти, об акте памяти и прощания. Да и почему бы ей не рассказать мне об этом? Мы ведь обе убили, нас обеих связало это страшное преступление, опровергающее устоявшиеся представления общества. А потом, в самом конце, после того как я обвязала веревку вокруг ее шеи и облила всю ее керосином, я не смогла зажечь спичку. В тот миг я поняла, кем я стала.
Я мало что могу рассказать вам о смерти Роды Грэдвин. Самое простое объяснение – я убила ее, чтобы отомстить за смерть дорогого друга, Аннабел Скелтон; но простые объяснения никогда не открывают всей правды. Вправду ли в ту ночь я пошла к ней в палату, чтобы ее убить? Ведь я все-таки всерьез старалась отговорить Чандлера-Пауэлла от того, чтобы он принял ее на операцию в Манор. Потом я подумала, что нет, я хотела только напугать ее, привести в ужас, сказать ей правду о ней самой, заставить понять, что она уничтожила юную жизнь и огромный талант, что если Аннабел совершила плагиат всего лишь четырех страниц диалога и описаний, весь остальной роман был совершенно оригинален и прекрасно написан ею самой. Но когда я убрала руку с ее горла и поняла, что общения между нами никогда больше не будет, я почувствовала облегчение, освобождение, столько же физическое, сколько и психологическое. Казалось, что одним этим актом я смыла с себя всю вину, все отчаяние и все сожаления прошедших лет. В один опьяняющий миг все это умчалось прочь. И я до сих пор ощущаю какой-то след этого чувства освобождения.
Сейчас я верю, что, отправляясь к ней, я понимала, что собираюсь ее убить. Зачем же иначе я стала бы надевать хирургические перчатки, которые я потом разрезала в ванной комнате пустовавшей палаты? Я пряталась в этой палате после того, как вышла из Манора, как обычно, через главный вход, и вернулась позже через боковую дверь, открыв ее своим ключом до того, как Чандлер-Пауэлл запер ее на ночь, и на лифте поднялась в отделение для пациентов. Риска, что меня обнаружат, практически не было. Кому пришло бы в голову осматривать пустой номер в поисках проникшего туда чужака? После всего я спустилась на лифте, ожидая, что придется отодвигать засов на двери, но оказалось, что он не задвинут. Шарон вышла из дома раньше меня.
То, что я говорила после смерти Робина Бойтона, в основном соответствует действительности. Он придумал совершенно абсурдную теорию насчет того, что мы скрыли реальную дату смерти отца, заморозив его труп. Сомневаюсь, что он сам это придумал. Все шло от Роды Грэдвин, и они собирались расследовать это дело вместе. Потому-то, после более чем тридцати лет, она вдруг решила избавиться от шрама и предпочла оперироваться именно здесь. Потому-то Робин явился сюда и в ее первый приезд, и когда она приехала оперироваться. Конечно, их план был смехотворен, но существовало несколько фактов, из-за которых в него можно было бы поверить. Поэтому я поехала в Торонто – встретиться с Грейс Холмс: она была при моем отце, когда он умирал. Вторая причина моего визита к ней – выплатить ей единовременную сумму взамен пенсии, которую, как я чувствовала, она вполне заслужила. Я ничего не говорила брату о том, что собирались делать Грэдвин и Робин, у меня и так хватило бы доказательств, чтобы обвинить их обоих в шантаже, если они замышляли именно это. Но я решила вести свою игру до тех пор, пока Робин не увязнет окончательно, а тогда насладиться и его разочарованием, и собственным отмщением.
Я пригласила его встретиться со мной в старой кладовке. Крышка морозилки была опущена. Я спросила, как он предполагает договориться с нами, и он сказал, что, по его мнению, он имеет моральное право на треть семейного состояния. Если эта сумма будет ему выплачена, никаких претензий в будущем он предъявлять не станет. Я предупредила, что ему вряд ли удастся обнародовать сведения о том, что я фальсифицировала дату смерти отца без того, чтобы его самого не обвинили в шантаже. Он признал, что мы оба находимся друг у друга во власти. Я предложила сойтись на четверти состояния, с выдачей пяти тысяч фунтов сразу же – для начала. И сказала, что деньги – наличными, а не чеком – лежат в морозилке. Мне нужно было получить его отпечатки на крышке морозилки, а я знала, какой он жадный, и была уверена, что он не устоит перед соблазном. Возможно, у него возникли сомнения, но ему нужно было посмотреть. Мы вместе подошли к морозилке, и когда он открыл крышку, я неожиданно для него схватила его за ноги и опрокинула внутрь. Я – пловчиха, у меня развитые плечи и сильные руки, а он не был тяжеловесным мужчиной. Я захлопнула крышку и заперла защелку. И сразу почувствовала необычайное изнеможение, дышать стало тяжело, но ведь я не могла устать: опрокинуть его оказалось легко, словно он – ребенок. Я слышала какие-то звуки изнутри морозилки, крики, стук, приглушенные мольбы. Несколько минут я стояла, слушая, как он кричит. Потом прошла на кухню, приготовила себе чай. Звуки становились все слабее, и когда они совсем смолкли, я пошла в кладовку, чтобы его выпустить. Он был уже мертв. Мне хотелось только привести его в ужас, но теперь я думаю, пытаясь быть совершенно честной – только кто из нас вообще способен на это? – что я обрадовалась, когда нашла его мертвым.
Я не испытываю жалости ни к одной из моих жертв. Рода Грэдвин уничтожила истинный талант и причиняла боль и горе многим ранимым людям, а Робин Бойтон был настоящий овод, незначительное, немножко забавное ничтожество. Сомневаюсь, что о ком-то из них станут горевать или хотя бы скучать.
Вот и все, что я должна сказать. Хочу лишь ясно и четко добавить, что все, что я совершила, я делала одна. Я никому ничего не говорила, ни с кем не советовалась, ни у кого не просила помощи и никого не вовлекала ни в свои действия, ни в последующую ложь. Я умру без сожалений и без страха. Оставлю эту пленку там, где могу быть полностью уверена, что ее найдут. Шарон расскажет вам свой вариант этой истории, а правду вы и так уже подозревали. Надеюсь, у нее все сложится хорошо. Что до меня, у меня нет ни надежды, ни страха».
Дэлглиш выключил плеер. Все трое откинулись на спинки стульев. Кейт заметила, что дышит глубоко, словно приходя в себя после тяжкого испытания. Не говоря ни слова, Дэлглиш принес из кухни и поставил на стол кофеварку, а Бентон разлил кофе по трем чашкам и подвинул на середину стола сахар и молоко.
– Если учитывать то, что сообщил мне вчера вечером Коксон, чему в этом признании мы можем верить? – спросил Дэлглиш.
Подумав с минуту, Кейт ответила:
– Мы знаем, что она действительно убила мисс Грэдвин. Это доказывает хотя бы один факт: никому в Маноре не было сообщено, что мы обнаружили доказательство использования латексных перчаток, которые затем были разрезаны и спущены в унитаз. И смерть эта не была непреднамеренным убийством. Никто не пойдет к жертве, надев перчатки, если цель прихода – всего лишь напугать эту жертву. Кроме того, мы имеем нападение на Шарон. Это не могло быть притворством. Она собиралась ее убить.
– Разве? – возразил Дэлглиш. – Не уверен. Она убила и Роду Грэдвин, и Робина Бойтона и объяснила нам свои мотивы. Вопрос в том, поверят ли коронер и его коллегия присяжных, если он станет проводить следствие с присяжными, в истинность этих мотивов?
Теперь заговорил Бентон:
– Разве сейчас мотив будет иметь значение, сэр? Я хочу сказать, он имел бы, если бы дело слушалось в суде. Мотив нужен присяжным – и нам тоже. Но вы всегда говорили, что физические доказательства, неопровержимые факты, а не мотивы, решают дело. Мотив всегда остается загадочным. Мы не способны заглянуть в чужой ум. Кэндаси Уэстхолл привела нам свои мотивы. Они могут выглядеть неадекватными, но мотив убийства всегда кажется таким. Не вижу, как мы могли бы оспорить то, что она говорит.
– Я этого и не предлагаю, Бентон, во всяком случае, не предлагаю оспорить это официально. Она ведь сделала то, что по сути является предсмертным признанием, заслуживающим доверия, подтвержденным доказательствами. Главная трудность для меня лично – верить ее признанию или нет? Это наше расследование нельзя назвать особенно успешным. Оно уже закончено или скоро закончится – после коронерского следствия. Но осталось несколько странностей, связанных со смертью Робина Бойтона. Давайте-ка сначала послушаем ту часть пленки еще раз.
Бентон не устоял перед соблазном высказаться:
– Зачем ей надо было все это снова рассказывать? У нас уже есть ее показания о подозрениях Бойтона и о том, что она решила поводить его за нос.
– Похоже, ей надо было записать это на пленку, – сказала Кейт. – И она гораздо дольше описывает, как умер Бойтон, чем то, как умирала Грэдвин. Она что, пытается отвлечь внимание от чего-то более важного, чем нелепое подозрение Бойтона по поводу морозилки?
– Думаю, да, – ответил Дэлглиш. – Она делает решительно все, чтобы никто не заподозрил подлога. Поэтому ей было так важно, чтобы пленку обязательно нашли. Оставить ее в машине или на куче одежды на берегу означало бы рисковать, что пленка потеряется. Поэтому она умирает, зажав кассету в руке.
Бентон поднял глаза на Дэлглиша:
– Вы предполагаете оспорить ее признание, сэр?
– Какой в этом смысл, Бентон? У нас могут быть личные сомнения, наши собственные теории о мотивах, и они могут быть вполне рациональными, но их подтверждают лишь косвенные свидетельства, и ни одно из наших соображений доказать мы не сможем. Невозможно ни допросить мертвых, ни предъявить им обвинение. Вероятно, это самонадеянность – потребность выяснить правду.
– Нужно немалое мужество, чтобы умереть с ложью на устах, – заметил Бентон. – Впрочем, наверное, это вмешалось мое религиозное воспитание. Это со мной случается – в самое неподходящее время.
– У меня на завтра назначена та встреча с Филипом Кершо. Официально, при том, что мы получили пленку с предсмертным признанием самоубийцы, расследование закончено. Вы сможете быть свободны завтра, во второй половине дня.
Он не добавил: «И возможно, ко второй половине завтрашнего дня расследование закончится и для меня самого». Это дело вполне может оказаться для него последним. Он мог бы пожелать, чтобы оно закончилось иначе, но по крайней мере еще оставалась надежда, что оно закончится выяснением правды – настолько, насколько все, кроме Кэндаси Уэстхолл, могли надеяться ее выяснить.
7
В пятницу, к середине дня, Кейт и Бентон распрощались с обитателями Манора. Джордж Чандлер-Пауэлл собрал всех вместе в библиотеке, и все обменялись рукопожатиями с полицейскими, кто-то бормотал себе под нос какие-то прощальные слова, кто-то произносил их четко и ясно, с разной степенью искренности, – во всяком случае, Кейт воспринимала это именно так. Она понимала, не испытывая неприязни, что с их отъездом атмосфера Манора покажется всем им заново очистившейся. Скорее всего это групповое прощание было устроено мистером Чандлером-Пауэллом для того, чтобы проявление необходимой вежливости прошло без излишней суеты. Гораздо более тепло они попрощались с хозяевами Вистерия-Хауса, где Шепарды обошлись с ними, как если бы они были их частыми и желанными постояльцами. Во время любого расследования встречались места и люди, которые надолго оставались счастливым воспоминанием, и для Кейт Шепарды и их Вистерия-Хаус оказались как раз такими. Она знала, что Дэлглиш часть завтрашнего утра будет занят беседой с сотрудником коронера и прощанием с начальником дорсетской полиции, которому он обязательно выразит свою благодарность за помощь и сотрудничество, оказанные дорсетскими полицейскими, особенно К.-Д. Уорреном. Потом он собирается поехать в Борнмут – беседовать с Филипом Кершо. Он уже официально попрощался с мистером Чандлером-Пауэллом и обитателями Манора, но ему придется вернуться в Старый полицейский коттедж – забрать свои вещи. А сейчас Кейт попросила Бентона остановиться там и подождать в машине, чтобы она смогла убедиться, что дорсетская полиция забрала оттуда все свое оборудование. Кейт не сомневалась, что ей не придется проверять, все ли чисто на кухне, а поднявшись наверх, увидела, что с кровати все снято и постельное белье аккуратно сложено. В те многие годы, что они с Дэлглишем работали вместе, она каждый раз испытывала укол ностальгического сожаления, когда заканчивалось очередное расследование и то место, где они собирались и сидели, беседуя, по вечерам, в конце концов оказывалось покинутым. Каким бы кратким ни было их пребывание там, для Кейт оно всегда становилось символом домашнего тепла. Дорожная сумка Дэлглиша стояла внизу, уже упакованная, и Кейт поняла, что следственный чемоданчик должен быть с ним, в машине. Единственным оставшимся предметом оборудования, который следовало увезти, был компьютер, и, поддавшись порыву, она ввела свой пароль. На экране высветилось единственное послание – e-mail:
«Дорогая Кейт, e-mail – неподобающее средство для того, чтобы выразить что-то особенно важное, но мне нужна уверенность, что ты это послание получишь и, если отвергнешь, оно будет не таким долгохранящимся, как обычное письмо. Последние полгода я прожил монахом, чтобы кое-что доказать себе самому, и теперь знаю, что ты была права. Жизнь слишком драгоценна и слишком коротка, чтобы тратить ее на людей, которые нам безразличны, и, более того, слишком драгоценна, чтобы перестать верить в любовь. Есть две вещи, которые я хочу тебе сказать и которые не сказал тебе, когда ты со мной простилась, потому что тогда они прозвучали бы как оправдание. Думаю, на самом деле это оно и есть, но мне надо, чтобы ты об этом знала. Девушка, с которой ты меня видела, была первой и последней с того времени, как мы стали любовниками. Ты знаешь – я никогда тебе не лгу.
Постели в монастыре ужасно жесткие, и спать в них одиноко, и еда тоже ужасная.
С любовью, Пьер».
Кейт посидела с минуту в полной тишине; вероятно, минута эта длилась дольше, чем она думала, потому что тишину нарушил настойчивый гудок машины Бентона. Но ей понадобилось задержаться не более чем на секунду. Улыбаясь, она напечатала ответ:
«Послание получено и понято. Расследование закончено, хотя не очень удачно. Буду в Уоппинге к семи. Почему бы не распрощаться с аббатом и не вернуться домой?
Кейт».
8
Хантингтон-Лодж стоял на высоком утесе примерно в трех милях к западу от Борнмута. Подъехать к нему можно было по недлинной въездной аллее, вьющейся среди огромных кедров и кустов рододендрона и подходящей прямо к внушительному, с колоннами, главному входу. В целом приятных пропорций здание было испорчено современной пристройкой в стиле модерн и, слева, обширной стоянкой для машин. Большая забота была проявлена, чтобы не расстраивать посетителей такими выражениями, как «интернат для престарелых», «для удалившихся на покой», «инвалидный», «приют». Бронзовая доска, ярко начищенная и скромно укрепленная на стене сбоку от чугунных ворот, просто указывала название этого дома. На звук дверного звонка быстро вышел слуга в короткой белой куртке, который подвел Дэлглиша к столу администратора в противоположном конце вестибюля. Там седовласая женщина, с безупречной прической, в костюме-двойке и в жемчугах, нашла его имя в книге ожидаемых посетителей и сообщила, что мистер Кершо ждет его и что он находится в комнате на втором этаже, которая называется «Вид на море». Что предпочитает мистер Дэлглиш – пройти туда по лестнице или подняться на лифте? Чарлз проводит его наверх.
Выбрав лестницу, Дэлглиш последовал за молодым человеком, открывшим ему дверь, по широким ступеням красного дерева. Стены лестничной клетки и коридора над ней были увешаны акварелями, гравюрами и парой литографий, а на небольших столиках у стен располагались вазы с цветами и тщательно расставленные фарфоровые безделушки, в большинстве своем слащаво сентиментальные. Все в Хантингтон-Лодже, с его безупречной чистотой, выглядело безличным и – с точки зрения Дэлглиша – угнетающим. Любое учреждение, отделявшее людей друг от друга, каким бы необходимым и доброжелательным такое отделение ни представлялось, порождало у него чувство неловкости, которое он мог объяснить себе воспоминаниями о давних днях, проведенных в подготовительной школе-пансионе.
Его провожатому не понадобилось стучать в дверь «Вида на море». Ее открыл Филип Кершо, опиравшийся на костыль и уже поджидавший Дэлглиша. Чарлз незаметно удалился. Кершо пожал Дэлглишу руку и отступил в сторону, сказав:
– Проходите, пожалуйста. Вы приехали, разумеется, поговорить о смерти Кэндаси Уэстхолл. Мне не показали ее признание, но Маркус звонил в нашу контору в Пуле, и мой брат позвонил мне сюда. Очень любезно, что вы договорились со мной о приезде заранее. С приближением смерти человек утрачивает вкус к сюрпризам. Сам я обычно сижу в этом кресле у камина. Если вам не трудно пододвинуть сюда второе кресло, думаю, вы найдете его довольно удобным.
Они уселись, и Дэлглиш положил портфель на столик между ними. Ему подумалось, что Филипа Кершо до времени состарила болезнь. Редкие волосы были тщательно зачесаны на голове, отмеченной многими шрамами – возможно, следами давних падений. Желтоватая кожа обтягивала острые кости лица, которое когда-то, видимо, было красивым, но сейчас все было покрыто пятнышками и исчерчено морщинами, словно иероглифами, нанесенными возрастом. Он был одет очень тщательно, будто пожилой жених, но морщинистая шея поднималась из белоснежного воротничка, который был по меньшей мере на размер больше, чем нужно. Он выглядел легкоранимым и вызывал жалость, но его рукопожатие оказалось крепким, хотя рука была холодна, а когда он говорил, его низкий голос звучал негромко, но предложения он строил четко и без видимого труда.
Ни размеры комнаты, ни качество и разнообразие не подходящих друг к другу предметов меблировки не могли скрыть того факта, что это – палата больного. Справа от окон, у стены, стояли односпальная кровать и ширма, которая, если смотреть от двери, не полностью скрывала кислородный баллон и шкафчик для лекарств. Близ кровати – дверь, что, должно быть, ведет, как догадался Дэлглиш, в ванную комнату. Открыта была только одна верхняя фрамуга окна, но в комнате ничем не пахло, воздух был чист и свеж, не ощущалось ни намека на больничные запахи. Такая стерильность показалась Дэлглишу еще более неприятной, чем запах дезинфицирующих средств. В камине не горел огонь, что было неудивительно для палаты пациента, нетвердо держащегося на ногах, однако в комнате было тепло, даже слишком. Очевидно, центральное отопление включено на полную мощность. Но пустой камин выглядел безрадостно; на каминной полке виднелась лишь одна фигурка: дама в кринолине и шляпке-капоре, несообразно наряду держащая в руке садовую тяпку. Дэлглиш сомневался, что эта безделушка – выбор самого Кершо. Но ведь бывали и гораздо худшие комнаты, в которых приходилось переживать домашний арест или что-то ему подобное. Единственным предметом обстановки, какой, по мысли Дэлглиша, Кершо мог привезти сюда с собой, был длинный дубовый книжный шкаф, так туго набитый книгами, что казалось, тома просто склеены вместе.
Взглянув в окно, Дэлглиш произнес:
– У вас отсюда вид весьма впечатляющий.
– Да, действительно. Как мне часто напоминают, мне очень повезло, что я получил эту комнату. Повезло и в том, что я могу позволить себе жить в этом месте. В отличие от многих других инвалидных домов здесь любезно соглашаются заботиться о тебе, если понадобится, до самой смерти. Вероятно, вам захочется получше рассмотреть этот вид.
Предложение было необычным, но Дэлглиш последовал за Кершо, который с трудом прошел к эркеру, где, помимо главного окна, было еще два по обе его стороны, и все вместе они открывали глазам панораму Английского канала.[35] Утро было серым, с редкими и какими-то судорожными проблесками солнечного света; горизонт виделся плохо, едва различимой линией между морем и небом. Под окнами оказался вымощенный каменными плитами дворик – патио – с тремя деревянными скамьями по краю, на равном удалении друг от друга. За ними земля круто обрывалась вниз, к морю, футов на семьдесят, в хаотическом сплетении деревьев и кустов, одетых густой, плотной и блестящей вечнозеленой листвой. Там, где кусты были реже, Дэлглиш мог разглядеть сквозь листву редких гуляющих по прогулочной набережной, движущихся бесшумно, словно сменяющие друг друга тени.
Кершо сказал:
– Я могу смотреть на этот вид только стоя, а для меня теперь это связано с некоторым напряжением сил. Мне стали слишком хорошо знакомы смены времен года, небо, море, деревья, некоторые кусты. Человеческая жизнь идет ниже меня, до нее не дотянуться. Раз у меня нет желания интересоваться вон теми почти невидимыми фигурами, отчего же я огорчаюсь, что лишен общения с людьми, ради приглашения которых ничего не предпринимаю и которые мне были бы скорее всего неприятны? Мои коллеги – гости Хантингтон-Лоджа… мы тут не называем друг друга пациентами… давно истощили запас тем, какие им интересно обсуждать: еда, погода, обслуга, вчерашняя программа по телевизору и раздражающие слабости то кого-то одного, то другого. Большая ошибка – дожить до тех пор, когда начинаешь приветствовать свет нового дня не с облегчением – и уж точно не с радостью, но с чувством разочарования, а иногда и с сожалением, близким к отчаянию. Я пока еще не вполне достиг этой стадии, но это не за горами. Я упоминаю о смерти не для того, чтобы ввести мрачную ноту в нашу беседу или – Боже упаси! – вызвать жалость к себе. Но будет лучше, прежде чем мы начнем разговор, правильно понять, как обстоят дела. Мы с вами, мистер Дэлглиш, неминуемо станем смотреть на вещи по-разному. Но вы приехали вовсе не обсуждать вид из моего окна. Может быть, перейдем к делу?
Дэлглиш открыл портфель и положил на стол копию завещания Перегрина Уэстхолла, полученную Робином Бойтоном.
– Очень любезно с вашей стороны, что вы согласились принять меня, – сказал он. – Пожалуйста, скажите, если я вас утомляю.
– Я думаю, вы вряд ли сможете меня утомить, коммандер, или даже невыносимо наскучить мне, – ответил ему Кершо.
Он впервые обратился к гостю, назвав его чин.
– Я так понимаю, – произнес Дэлглиш, – что вы действовали в интересах семьи Уэстхолл как при составлении завещания деда, так и при составлении завещания отца?
– Не я, а наша семейная фирма. С тех пор как я поступил сюда одиннадцать месяцев назад, рутинную работу ведет мой младший брат, в нашей конторе в Пуле. Тем не менее он держал меня в курсе дела.
– Значит, вы не присутствовали ни при составлении этого завещания, ни при его подписании?
– Никто из партнеров нашей фирмы там не присутствовал. Нам не прислали его копию, когда оно было составлено, и ни мы, ни члены семьи не знали о его существовании до тех пор, пока, три дня спустя после смерти Перегрина Уэстхолла, его не обнаружила Кэндаси Уэстхолл в запертом ящике шкафчика, стоявшего в спальне ее отца, где старик хранил секретные документы. Как вам, вероятно, говорили, Перегрин Уэстхолл имел обыкновение писать и переписывать свои завещания, когда находился в том же доме для престарелых, что и его покойный отец, – в основном это были кодицилы, то есть дополнительные распоряжения к завещаниям, написанные его собственной рукой и заверенные медсестрами. Казалось, он получает такое же удовольствие от их составления, как и от их уничтожения. Мне представляется, что такая его деятельность имела целью создать у семьи впечатление, что он властен в любой момент изменить свое решение.
– Так завещание не было спрятано?
– По всей вероятности, нет. Кэндаси сказала, что нашла запечатанный конверт в ящике шкафчика, в спальне, ключ к нему ее отец держал у себя под подушкой.
– А в то время, когда это завещание было подписано, ее отец еще мог без чужой помощи встать с постели, чтобы положить конверт в ящик? – спросил Дэлглиш.
– Должно быть, мог, если только не попросил кого-то из слуг или посетителей положить его туда. Никто из их семьи, никто из их прислуги не говорил, что знал об этом конверте. Разумеется, мы даже представления не имеем, когда завещание было на самом деле положено в ящик. Это могло быть вскоре после того, как его составили, а тогда Перегрин Уэстхолл вполне мог передвигаться без чужой помощи.
– Кому был адресован конверт?
– Конверт нам не был представлен. Кэндаси сказала, что сразу его выбросила.
– Но вам прислали копию завещания?
– Да, мой брат прислал ее мне. Он знает, что меня интересует все, что касается моих старых клиентов. Возможно, он хочет, чтобы я чувствовал, что все еще занимаюсь нашим общим делом. Наш разговор превращается почти в перекрестный допрос. Пожалуйста, не думайте, что я возражаю против этого, коммандер. Просто прошло довольно много времени с тех пор, как моим мозгам приходилось работать.
– А когда вы увидели завещание, у вас не возникло сомнений в его достоверности?
– Никаких. И сейчас у меня их тоже нет. Откуда бы им взяться? Я полагаю, вам известно, что собственноручно написанное завещание имеет такую же законную силу, как любое другое, при условии, что оно подписано, датировано и заверено, и никто, знакомый с почерком Перегрина Уэстхолла, не мог бы усомниться, что именно он написал это завещание. Условия абсолютно те же, что в его предыдущем завещании, не в том, что непосредственно предваряло этот текст, но в том, что было отпечатано у меня в конторе в 1995 году. Я затем привез его к нему в дом, где он тогда жил, и оно было заверено двумя моими служащими, которые приехали со мной специально для этой цели. Условия я считаю в высшей степени разумными. За исключением библиотеки, которую он оставил своему колледжу, если колледж захочет ею воспользоваться, а в ином случае ее следовало продать, все, чем он владел, он оставил в равных долях сыну и дочери – Кэндаси. Так что в этом он проявил справедливость к презираемому полу. Я все-таки мог влиять на него, пока активно занимался адвокатской практикой. И использовал свое влияние в этом смысле.
– А существовало ли еще какое-то завещание, предварявшее то, что было теперь утверждено Высоким судом?
– Да, оно было составлено за месяц до того, как Перегрин Уэстхолл покинул инвалидный дом и переехал в Каменный коттедж, к Кэндаси и Маркусу. Вы вполне можете с ним познакомиться. Оно тоже написано от руки. Оно даст вам возможность сравнить почерк. Будьте добры, отоприте бюро и поднимите крышку. Вы увидите там черный ящик с документами. Это единственный ящик, который я решил привезти сюда. Вероятно, он понадобился мне как талисман, гарантирующий, что когда-нибудь я снова смогу работать.
Длинными деформированными пальцами он извлек из внутреннего кармана ключи и подал Дэлглишу. Тот принес к камину ящик с документами и поставил на стол перед поверенным. Ключом, висевшим на том же кольце, но поменьше размером, Кершо отпер ящик и сказал:
– Здесь, как вы увидите, он отменяет свое предыдущее завещание и оставляет половину состояния своему племяннику, Робину Бойтону, а другую половину делит в равных долях между Маркусом и Кэндаси. Если вы сравните почерк на обоих документах, думаю, вы согласитесь, что это одна и та же рука.
Как и в более позднем завещании, почерк был твердый, написанные черными чернилами буквы – на удивление четкие для старого человека, высокие, с толстыми, идущими вниз линиями, и тонкими, направленными вверх. Дэлглиш спросил:
– Разумеется, ни вы сами и никто из партнеров вашей фирмы не сообщили Робину Бойтону об этой блестящей перспективе?
– Это стало бы серьезной профессиональной ошибкой. Насколько мне известно, он ничего не знал об этом и никогда не наводил справок.
– И даже если бы знал, вряд ли мог бы опротестовать завещание, раз оно утверждено Высоким судом?
– Предполагаю, что и вы не сможете, коммандер. – Помолчав немного, Кершо продолжал: – Я согласился подвергнуться вашему опросу, а теперь хочу задать один вопрос вам. Вы полностью удовлетворены утверждением, что Кэндаси Уэстхолл убила Роду Грэдвин и Робина Бойтона, а затем пыталась убить Шарон Бейтман?
– Я отвечу «да» на первую часть вашего вопроса. Я верю не всему признанию целиком, но оно правдиво в одном отношении. Кэндаси Уэстхолл действительно убила мисс Грэдвин, и смерть мистера Бойтона произошла по ее вине. Она призналась, что собиралась убить Шарон Бейтман. Но к этому времени она, должно быть, уже приняла решение покончить с собой. Раз она заподозрила, что я узнал правду о последнем завещании, она не могла пойти на перекрестный допрос в суде.
– Правду о последнем завещании, – повторил Филип Кершо. – Я так и думал, что мы к этому подойдем. Но знаете ли вы правду? И даже если знаете, устоят ли ваши показания в суде? Если бы Кэндаси осталась жива и ее обвинили в подлоге, в том, что она подделала подписи отца и двух свидетельниц, при том, что Робин Бойтон умер, правовые осложнения вокруг завещания были бы весьма тяжелыми. Жаль, что я не смогу обсудить некоторые из них с коллегами.
Он, казалось, даже оживился, впервые с тех пор, как Дэлглиш вошел к нему в комнату. Дэлглиш спросил:
– А что бы вы показали под клятвой?
– По поводу завещания? Я сказал бы, что счел его имеющим законную силу, что у меня не возникло подозрений по поводу подписей как завещателя, так и свидетельниц. Сравните почерк на этих двух завещаниях. Разве здесь можно усомниться, что это одна и та же рука? Коммандер, вы ничего не сможете сделать, да ничего делать и не надо. Это завещание могло бы быть оспорено только Робином Бойтоном, а Бойтон мертв. Ни вы, ни Столичная полиция не можете иметь locus standi[36] в этом деле. Вы получили признание. Вы получили своего убийцу. Дело закрыто. Деньги были завещаны двум людям, имевшим более всего прав на их получение.
– Я могу согласиться, – сказал Дэлглиш, – что, раз имеется признание, делать, разумно говоря, больше нечего. Но мне не нравится бросать расследование неоконченным. Мне необходимо знать, прав ли я, необходимо понять. Вы мне очень помогли. Теперь я знаю правду, насколько ее вообще можно знать, и думаю, что понял, почему Кэндаси Уэстхолл это сделала. Или стремиться к этому – самонадеянность?
– Знать правду и понимать ее? Да, коммандер, при всем моем уважении к вам, я полагаю, что это – самонадеянность. Это самонадеянно и, вероятно, неуместно. Как жадно мы копаемся в жизни знаменитых покойников, будто квохчущие куры, склевывая по зернышку каждую сплетню и каждый скандал. А теперь я опять спрошу вас кое о чем, коммандер. Готовы ли вы нарушить закон, если тем самым вы могли бы восстановить справедливость, исправив зло, или принести добро человеку, которого любите?
– Я уклонюсь от прямого ответа, – сказал Дэлглиш, – но ваш вопрос гипотетичен. Это должно зависеть от важности и обоснованности закона, который я стану нарушать, и от того, окажется ли то добро, которое я хочу принести мифическому любимому человеку, а на деле – человеческому обществу, по моему мнению, значительнее, чем тот вред, который я причиню, нарушив закон. Если говорить о некоторых нарушениях закона, таких преступлениях, как, например, убийство или изнасилование, как можно было бы на это пойти? Ваш вопрос нельзя рассматривать абстрактно. Я ведь полицейский, а не моралист-теолог или эксперт в области этики.
– Ох, коммандер, разумеется, вы эксперт. Со смертью учения, которое Сидни Смит[37] называл рациональной религией, и при том, что сторонники того, что осталось, постоянно отправляют нам такие неопределенные и сбивающие с толку послания, всем цивилизованным людям приходится быть экспертами в области этики. Мы должны с углубленным вниманием разрабатывать наш собственный путь к спасению, основанный на том, во что мы верим сами. Так что скажите мне, есть ли такие обстоятельства, которые заставят вас нарушить закон ради блага любимого человека?
– Блага – в каком смысле?
– В любом, в котором оно может быть принесено. Чтобы удовлетворить потребность. Чтобы выразить протест. Чтобы восстановить справедливость. Чтобы исправить зло.
– Тогда, если формулировать это в таком общем виде, ответ должен быть – да, – сказал Дэлглиш. – Я мог бы представить себе, что способен помочь женщине, которую люблю, более милосердно уйти из жизни, если бы она вдруг оказалась, по выражению Шекспира, распята на дыбе нашего бесчувственного мира, где каждый вдох несет с собою боль. Надеюсь, мне никогда не придется делать ничего подобного. Но поскольку вы задаете мне этот вопрос, я отвечаю – да, я могу представить себе, что нарушу закон ради блага того, кого люблю. Я не так уверен насчет восстановления справедливости или, иначе говоря, исправления зла. Это предполагает, что у меня хватит мудрости решить, что на самом деле есть зло и что есть добро, хватит и смирения, чтобы поразмыслить о том, улучшит ли положение вещей совершенный мной поступок или ухудшит. А теперь я хотел бы задать вопрос вам. Простите, если он покажется вам неуместным. Не могло ли случиться так, что для вас любимым человеком была Кэндаси Уэстхолл?
Кершо, схватившись за костыль, с трудом поднялся на ноги и прошел к эркеру. Там он остановился и несколько мгновений смотрел в окно, словно за ним открывался мир, где такие вопросы никогда не задаются, а если бы задавались, то не требовали бы ответа. Дэлглиш ждал. Затем Кершо двинулся обратно, и Дэлглиш смотрел, как он, словно человек, впервые учащийся ходить, неверными шагами преодолевает расстояние до своего кресла.
– Я собираюсь рассказать вам о том, – произнес он, – о чем никогда не говорил ни единому человеку и никогда не скажу. Я это делаю потому, что уверен – вы сохраните эту тайну. И вероятно, наступает такое время, когда твоя тайна превращается в тяжкое бремя, которое тебе необходимо переложить на другие плечи, как будто сам факт, что кто-то еще знает твой секрет и участвует в его сохранении, каким-то образом делает твое бремя легче. Думаю, именно поэтому верующие ходят на исповедь. Каким необычайным ритуальным очищением такая исповедь, должно быть, становится! Тем не менее для меня этот путь закрыт, и я не предполагаю заменить неверие, длившееся всю мою жизнь, тем, что для меня стало бы всего лишь иллюзорным утешением в ее конце. Так что я расскажу об этом именно вам. Моя тайна не станет для вас бременем, не причинит вам горя, и говорить я стану не с Адамом Дэлглишем – детективом, а с Адамом Дэлглишем – поэтом.
– В настоящий момент между ними нет различия, – ответил Дэлглиш.
– В вашем сознании – возможно, – возразил Кершо. – В моем оно все-таки, видимо, существует, коммандер. Есть еще одна причина, не очень похвальная – но, вообще-то говоря, какую причину можно считать похвальной? Я могу признаться вам, какое удовольствие доставляет мне разговор с цивилизованным человеком на тему, не касающуюся состояния моего здоровья. Первое и последнее, о чем спрашивают люди из здешнего персонала и навещающие меня гости, это – как я себя чувствую. Именно так меня теперь определяют – через болезнь, через ее смертельность. Вы, несомненно, испытываете затруднения в том, чтобы оставаться вежливым, когда вас расспрашивают о ваших стихах.
– Я пытаюсь быть любезным, поскольку люди таким образом проявляют свою доброжелательность, но я терпеть этого не могу, и это мне нелегко дается.
– Что ж, тогда я не стану касаться ваших стихов, если вы не будете касаться моей печени.
Он засмеялся, тонким, коротким, словно резкий выдох, смехом, тотчас же прекратившимся. Смех прозвучал как вскрик боли. Дэлглиш ждал, ничего не говоря. Казалось, Кершо собирается с силами, располагая свое исхудавшее до костей тело поудобнее в глубоком кресле. Наконец он заговорил:
– По сути, это вполне банальная история. Такое случается часто и повсюду. В ней нет ничего необычного или интересного ни для кого, кроме тех, кого она касается. Двадцать пять лет назад, когда мне было тридцать восемь, а Кэндаси – восемнадцать, она родила от меня ребенка. Я тогда только стал партнером в нашей фирме, и мне было поручено вести дела Перегрина Уэстхолла. Они были не слишком трудоемкими, не слишком интересными, но я часто посещал их большой дом в Котсуолдсе, где в то время жила его семья, чтобы знать, что там происходит. Хрупкая, миловидная жена, превратившая свою болезнь в способ защититься от мужа, молчаливая, запуганная дочь, погруженный в себя младший сын. Мне представляется, что в то время я воображал себя человеком, которого интересуют люди, человеком, чутким к их переживаниям. Возможно, я таким и был. А когда я говорю, что Кэндаси была запугана, я вовсе не хочу сказать, что ее отец ругал или бил ее. У него имелось только одно оружие, и притом смертельное, – его язык. Сомневаюсь, что он хоть когда-нибудь прикоснулся к Кэндаси, и, уж конечно, никогда – с нежностью. Он просто не терпел женщин. Кэндаси стала для него разочарованием с момента своего рождения. Мне не хотелось бы создать у вас впечатление, что Перегрин Уэстхолл был осознанно жесток. Я знал его как выдающегося ученого. И я его не боялся. Я мог с ним разговаривать, а Кэндаси не могла. Он испытывал бы к ней уважение, если бы она смогла ему противостоять. Он ненавидел слепое подчинение. И разумеется, он лучше бы относился к ней, если бы она была хороша собой. Разве так не всегда бывает с дочерьми?
– Очень трудно противостоять человеку, если ты боишься его с раннего детства, – возразил Дэлглиш.
Не подав виду, что услышал это замечание, Кершо продолжал:
– Наши отношения – я говорю вовсе не о любовной интрижке – возникли, когда я был в книжном магазине Блекуэлла, в Оксфорде, и увидел там Кэндаси. Она приехала на осенний семестр, начинающийся в Михайлов день, 29 сентября. Ей явно очень хотелось поговорить, что было на нее не похоже, и я пригласил ее выпить со мной кофе. В отсутствие отца она, казалось, просто оживала. Она говорила – я слушал. Мы договорились снова встретиться, и у меня вошло в привычку приезжать в Оксфорд, когда там была Кэндаси, и приглашать ее на ленч где-нибудь за городом. Оба мы были энергичными ходоками, и я стал с нетерпением ждать этих осенних встреч и совместных поездок в Котсуолдс. Секс у нас был только один раз, в необычайно теплый день, в лесу, под пологом просвеченных солнцем древесных крон, когда, как я теперь думаю, сочетание красоты и уединенности среди деревьев, тепла и ощущения довольства после хорошей еды привело к первому поцелую, а от него – к неизбежному совращению. Я полагаю, что потом мы оба поняли – это было ошибкой. И мы оба были достаточно проницательны, чтобы понимать, отчего это произошло. У Кэндаси выдалась неудачная неделя в колледже, и она нуждалась в утешении, а обладание возможностью дать утешение соблазнительно. И я имею в виду – не только физически. Кэндаси чувствовала себя сексуально неполноценной, отчужденной от своих сверстников и, сознавала она это или нет, искала возможности потерять девственность. Я был человеком много старше ее, добрым, привязавшимся к ней, свободным – идеальным партнером для первого сексуального опыта, которого она и желала, и боялась. Со мной ей было спокойно.
А когда, слишком поздно для аборта, она сообщила мне, что беременна, мы оба поняли, что ее семья никогда не должна об этом узнать, особенно – отец. Кэндаси сказала, что отец ее презирает и станет презирать еще сильнее, не столько за секс – это, возможно, его нисколько не взволновало бы, – сколько за то, что это произошло не с тем, с кем надо, и за то, что она имела глупость забеременеть. Она сумела точно изобразить мне, что и как скажет ее отец, и это было страшно и отвратительно. Я приближался к среднему возрасту, я был не женат. Желания взять на себя ответственность за ребенка я не испытывал. Сейчас, когда уже поздно что бы то ни было исправить, я вижу, что мы отнеслись к младенцу так, будто это была злокачественная опухоль, которую необходимо вырезать или в любом случае избавиться от нее – и навсегда забыть о ее существовании. Если мы станем размышлять в терминах греха и искупления, а вы, как я слышал, сын священника, и семейное влияние, несомненно, еще что-то значит для вас, тогда это был наш грех. Кэндаси удалось скрывать свою беременность, и когда появилась угроза, что тайна раскроется, она уехала за границу, а вернувшись, отдала девочку в приют в Лондоне. Мне было нетрудно устроить передачу девочки на частное воспитание в семью, а потом и на удочерение – я ведь юрист. Я обладал необходимыми знаниями и достаточными деньгами. А контроль за такими делами в те дни был гораздо слабее.
Кэндаси все это время вела себя совершенно стоически. Если она и любила своего ребенка, она умело это скрывала. После удочерения девочки мы с Кэндаси больше не виделись. Я думаю, между нами не было настоящих отношений, на которых можно было бы строить все дальнейшее. Встречаться снова означало бы вызывать неловкость друг у друга, стыд, воспоминания о беспокойстве, о необходимости лгать, о несостоявшейся карьере. Позже она сумела закончить Оксфорд. Мне думается, она занялась классическими языками, чтобы завоевать любовь отца. Насколько я знаю, ей не удалось преуспеть в этом. Она больше не видела Аннабел – даже имя девочки выбрали ее будущие приемные родители, – пока той не исполнилось восемнадцать лет, но я думаю, она все же должна была как-то поддерживать связь, возможно, не прямо и никогда не признаваясь, что ребенок – ее. Очевидно, Кэндаси удалось выяснить, в какой университет поступила Аннабел, и она получила там работу, хотя это было не так уж естественно для специалиста по классическим языкам и со степенью доктора филологических наук.
– А вы виделись с Кэндаси снова? – спросил Дэлглиш.
– Только один раз и впервые за двадцать пять лет. Эта встреча была также и последней. Седьмого декабря, в пятницу, она вернулась из поездки в Канаду, к старой медсестре – Грейс Холмс. Миссис Холмс – единственная живая свидетельница из подписавших завещание Перегрина Уэстхолла. Кэндаси ездила выплатить ей некую сумму денег, мне кажется, она говорила – десять тысяч фунтов, в благодарность за помощь, какую та оказывала, ухаживая за Перегрином Уэстхоллом. Вторая свидетельница была старой служанкой из дома Уэстхоллов, вышедшей на покой, и она уже получала небольшую пенсию, которая, естественно, окончилась с ее смертью. Кэндаси сочла, что Грейс Холмс не должна остаться без вознаграждения. Она также беспокоилась о том, чтобы получить от медсестры свидетельство в подтверждение даты смерти своего отца. Кэндаси рассказала мне об абсурдном утверждении Робина Бойтона, что мертвого отца прятали в морозилке, пока не прошли двадцать восемь дней со дня смерти деда. Вот письмо, которое написала и дала ей Грейс Холмс. Кэндаси хотела, чтобы оно хранилось у меня, а у нее осталась его копия, может быть, чтобы подстраховаться. Если бы возникла необходимость, я передал бы его главе фирмы.
Кершо приподнял копию завещания и достал из-под нее лист писчей бумаги, который передал Дэлглишу. Письмо было датировано пятницей, пятого декабря, 2007 года. Почерк был крупный, буквы округлые и тщательно выписанные.
«Дорогой сэр!
Мисс Кэндаси Уэстхолл попросила меня послать вам письмо, подтверждающее дату смерти ее отца, доктора Перегрина Уэстхолла, которая произошла 5 марта 2007 г. В течение двух дней перед этим ему становилось все хуже, и 3 марта его посетил доктор Стенхауз, но не стал прописывать никаких новых лекарств. Профессор Уэстхолл сказал, что хочет видеть здешнего священника, преподобного Матесона, и священник тотчас приехал. Его привезла его сестра. Я в это время находилась в доме, но не в комнате больного. Мне было слышно, как кричал профессор, но слов священника я расслышать не могла. Они оставались в доме недолго, и преподобный Матесон выглядел расстроенным, когда они уходили. Через два дня доктор Уэстхолл умер, и я находилась в доме с его сыном и мисс Уэстхолл, когда он отошел. Это я обмыла его и приготовила к погребению.
Я также засвидетельствовала его последнюю волю, которая была написана его собственной рукой. Это было в какое-то время лета 2005 года, только я не помню число. Это последнее завещание, какое я подписывала, хотя профессор Уэстхолл писал и другие в предыдущие недели, и мы с Элизабет Барнс их обе подписывали, но те, как я думаю, он разорвал.
Все, что я написала здесь, правда.
Искренне Ваша, Грейс Холмс».
– Ее ведь попросили подтвердить дату смерти, – сказал Дэлглиш. – Интересно, зачем она добавила этот абзац о завещании?
– Поскольку Бойтон высказал сомнения по поводу даты смерти его дяди, возможно, она решила, что важно упомянуть любую деталь, касающуюся смерти Перегрина, которая впоследствии может вызвать вопросы.
– Но ведь завещание не вызвало никаких вопросов, не правда ли? И почему Кэндаси Уэстхолл сочла необходимым отправиться в Канаду и лично встретиться с Грейс Холмс? Финансовые дела не требовали личного визита, а информацию о дате смерти можно было сообщить по телефону. И зачем она вообще понадобилась? Кэндаси Уэстхолл знала, что преподобный Матесон видел ее отца за два дня до смерти. Свидетельства Матесона и его сестры было бы вполне достаточно.
– Вы предполагаете, что десять тысяч фунтов были платой за ее письмо?
– За последний абзац этого письма, – ответил Дэлглиш. – Я думаю, возможно, что Кэндаси Уэстхолл постаралась застраховаться от риска разоблачения со стороны единственной живой свидетельницы, подписавшей завещание ее отца. Грейс Холмс помогала ухаживать за Перегрином Уэстхоллом и знала, что пришлось вытерпеть от него его дочери. Думаю, она была бы счастлива увидеть, как совершается справедливость по отношению к Кэндаси и Маркусу. И разумеется, она не могла не взять эти десять тысяч. И что, собственно, ее попросили сделать? Всего лишь сказать, что она засвидетельствовала последнюю волю, но не помнит дату подписания. Неужели можно хоть на миг вообразить, что кто-нибудь когда-нибудь убедит ее изменить свой рассказ, сказать больше, чем уже сказано? И ведь она не видела предыдущего завещания, она его не подписывала. Она ничего не знает о несправедливости, совершенной по отношению к Робину Бойтону. Возможно, она даже смогла убедить себя, что говорит правду.
Они сидели молча почти целую минуту, потом Дэлглиш спросил:
– Если бы я поинтересовался, обсуждала ли с вами Кэндаси действительную историю с завещанием ее отца, когда приезжала к вам в последний раз, вы бы мне ответили?
– Нет, и полагаю, что вы не ожидали бы от меня ответа. Поэтому вы меня и не спросите. Но я скажу вам вот что, коммандер. Кэндаси была вовсе не из тех, кто стал бы обременять меня большим количеством сведений, чем мне было нужно знать. Она хотела оставить мне письмо Грейс Холмс, но это была наименее важная часть ее визита. Она рассказала мне, что наша дочь умерла, рассказала, как она умерла. У нас с ней было незаконченное дело. Были слова, которые нам необходимо было сказать друг другу. Мне хотелось бы думать, что, когда она уходила от меня, значительная часть горечи, накопившейся за последние двадцать пять лет, ушла из ее души, но это похоже на романтический софизм. Мы причинили друг другу слишком много вреда. Я думаю, ей было легче умирать, потому что она поняла, что может мне доверять. Вот и все, что между нами было – и раньше, и теперь: не любовь, но доверие.
Однако у Дэлглиша остался еще один, последний вопрос. И он его задал:
– Когда я позвонил вам и вы согласились со мной встретиться, вы сообщили Кэндаси Уэстхолл, что я приеду?
Кершо взглянул ему прямо в глаза и быстро ответил:
– Я позвонил ей и сказал об этом. А теперь, извините меня, мне нужно отдохнуть. Я рад, что вы приехали, но мы с вами больше не увидимся. Будьте так добры, нажмите кнопку звонка у кровати, Чарлз проводит вас к выходу.
Кершо протянул ему руку. Его пожатие было по-прежнему крепким, но огонек в глазах потух. Что-то закрылось наглухо. Чарлз ждал Дэлглиша у двери, и когда Адам повернулся – в последний раз посмотреть на Кершо, тот сидел в кресле, молча глядя в пустое жерло камина.
Едва Дэлглиш успел застегнуть ремень безопасности, как заверещал его мобильный. Звонил детектив-инспектор Энди Хауард. Нотки торжества в его голосе звучали сдержанно, но не распознать их было невозможно.
– Мы его поймали, сэр! Местный парень, как мы и подозревали. Четыре раза был раньше допрошен по поводу сексуальных нападений, но ни разу обвинения ему не удалось предъявить. Правовой отдел вздохнет с облегчением, что это не еще один нелегальный иммигрант или кто-то из отпущенных на поруки. Ну и, конечно, у нас ведь есть его ДНК. Меня немного беспокоит, что мы держим его ДНК, пока обвинение еще не предъявлено, но ведь это уже не первый случай, когда она оказывается полезной.
– Поздравляю, инспектор. Вы не знаете, есть ли шанс, что он признает себя виновным? Хорошо бы избавить Энни от присутствия в суде. Это было бы для нее настоящей пыткой.
– Я бы сказал – есть все шансы, сэр. Его ДНК – не единственная улика, но она все окончательно решает, и потребуется еще очень много времени, пока эта девочка будет способна стоять на свидетельском месте.
Когда Дэлглиш захлопнул мобильник, на душе у него было уже не так тяжело. Но теперь ему потребовалось найти место, где он мог бы какое-то время посидеть в молчании и покое.
9
Дэлглиш направился к западу от Борнмута и ехал до тех пор, пока, свернув на прибрежную дорогу, не нашел место, где мог остановить машину и смотреть на море за гаванью Пул-Харбор. В последние две недели все его мысли и энергия были посвящены гибели Роды Грэдвин и Робина Бойтона, но теперь ему предстояло лицом к лицу встретиться со своим будущим. Перед ним встал не один выбор, а целый ряд возможностей, большинство из них требовало от него очень многого, другие были ему интересны, но до сих пор он мало о них задумывался. Определенной была только одна, меняющая всю его жизнь перспектива – женитьба на Эмме, и здесь не было никаких сомнений, ничего, кроме уверенного ожидания радости.
И он наконец узнал правду об этих двух убийствах. Вероятно, Кершо все-таки прав: это самонадеянность – всегда стремиться узнать правду, особенно правду о мотивах человеческих поступков, о загадочной работе разума другого человека. Дэлглиш был убежден, что Кэндаси Уэстхолл вовсе не намеревалась убить Шарон. Она, должно быть, поощряла ее фантазии, когда они оставались одни и когда Шарон помогала Кэндаси разбирать книги. Но то, чего добивалась Кэндаси, что она планировала сделать, было найти единственно верный способ убедить всех, что только она, она одна, убила Грэдвин и Бойтона. С учетом ее признания вердикт коронера не вызывал сомнений. Дело будет закрыто и с его, Дэлглиша, ответственностью за расследование будет покончено. Он больше ничего не может сделать, да и не надо.
Как после каждого расследования, от этого останутся воспоминания, люди, которые, без всякого желания с его стороны, молчаливыми образами поселятся в его сознании и в мыслях на многие годы и станут оживать в каких-то неожиданных местах, при виде незнакомого лица, при звуке чужого голоса. У него не было желания заново переживать прошлое, но такие краткие видения вызывали у него любопытство: хотелось знать, почему именно эти люди поселились в его памяти и как сложились их дальнейшие судьбы. Очень редко это бывали главные персонажи расследования, и ему казалось, что он знает, кто из действующих лиц последней недели ему запомнится. Отец Кёртис и целый выводок его белокурых детишек, Стивен Коллинзби и Летти Френшам. Сколько чужих жизней в прошедшие годы на какое-то время касались его собственной, чаще всего – ужасом и трагедией, страхом и отчаянием? Не подозревая того, эти люди с их судьбами служили вдохновением для некоторых из его лучших стихов. А какое вдохновение сможет он найти в бюрократическом служении или в плодах конторской работы?
Однако пора было возвращаться в Старый полицейский коттедж, забрать вещи и отправляться в путь. Он уже попрощался со всеми в Маноре и заезжал к хозяевам «Вистерия-Хауса», поблагодарить их за гостеприимство, оказанное его сотрудникам. Теперь ему не терпелось увидеться только с одним человеком.
Подъехав к коттеджу, он открыл дверь. Камин был разожжен, но в гостиной не горел свет, кроме одной лампы, на столике у кресла, стоящего перед камином. Эмма поднялась с кресла и пошла Дэлглишу навстречу, ее лицо и темные волосы подсвечивал пылавший в камине огонь.
– Ты слышал новости? – спросила она. – Инспектор Хауард произвел арест. И Энни как будто идет на поправку.
– Энди Хауард мне позвонил, – ответил Дэлглиш. – Это замечательные новости, моя дорогая, особенно про Энни.
Обнимая его, Эмма сказала:
– Бентон с Кейт встретили меня в Уэреме перед тем, как отправиться в Лондон. Мне подумалось, тебе может понадобиться попутчик для поездки домой.
Книга пятая
Весна
Дорсет, Кембридж
1
В первый официально весенний день Джордж Чандлер-Пауэлл и Хелина Крессет сидели бок о бок за письменным столом в главном офисе. Вот уже три часа они изучали и обсуждали колонки цифр, схемы и планы архитектора, а сейчас каждый из них, словно по обоюдному молчаливому согласию, протянул руку – выключить компьютер.
Откинувшись на спинку стула, Чандлер-Пауэлл сказал:
– Что ж, значит, с финансовой точки зрения это возможно. Разумеется, это будет зависеть от того, удастся ли мне не только сохранить в теперешнем виде, но и пополнить список частных пациентов в больнице Святой Анджелы. Дохода от ресторана не хватит даже на то, чтобы поддерживать в порядке сад, во всяком случае, поначалу.
Хелина убирала на место планы. Она ответила:
– Мы с большой осторожностью подсчитывали доходы от работы в больнице Святой Анджелы. Даже при ваших теперешних операциях там вы получаете две трети того, что – как мы подсчитали – получили за предыдущие три года. Я согласна – перестройка конюшенного блока обходится дороже, чем вы планировали, однако архитектор хорошо поработал, и по завершении все должно получиться немного ниже заявленной стоимости. А так как ваши дальневосточные акции стоят хорошо, вы могли бы покрыть расходы из портфеля ценных бумаг или взять кредит в банке.
– Надо ли нам объявлять о ресторане у главных ворот?
– Не обязательно. Но надо поместить где-то объявление, указав время открытия и часы работы. Вам нельзя быть слишком брезгливым, Джордж. Вы либо занимаетесь коммерческим предпринимательством, либо нет.
– Дин и Кимберли Босток, кажется, просто места себе от счастья не находят по этому поводу, – проговорил Чандлер-Пауэлл. – Но тому, что они способны сделать, видимо, есть какой-то предел.
– Поэтому мы выделяем средства на дополнительных помощников, занятых неполный рабочий день, и еще на одного повара, после того как ресторан начнет работать в полную силу. А в отсутствие пациентов, которые в Маноре всегда бывали очень требовательны, Дин и Кимберли вынуждены были бы готовить только для вас, когда вы здесь, для тех, кто постоянно работает в Маноре, и для меня. Естественно, что Дин в эйфории. То, что мы с вами запланировали, – это изысканный, первоклассный ресторан, не какая-нибудь чайная, он привлечет посетителей со всех краев графства, да и из-за его границ тоже. Дин – замечательный шеф-повар. Вы не сможете удержать его у себя, если не предложите ему возможности достойно применять его мастерство. При том, что Кимберли так радостно ждет ребенка, а Дин помогает мне планировать создание ресторана, который он вполне может считать своим, он выглядит таким счастливым и удовлетворенным, каким я его никогда еще не видела. А ребенок не станет здесь проблемой. Манору просто необходим ребенок.
Чандлер-Пауэлл встал и, подняв руки над головой, потянулся.
– Давайте пройдемся к Камням, – сказал он. – День слишком хорош, чтобы просидеть его за письменным столом.
Они молча надели куртки и вышли через западную дверь. Операционный блок был уже снесен, и остатки медицинского оборудования вывезены. Хелина сказала:
– Вам придется подумать о том, что вы хотите сделать в западном крыле.
– Мы оставим там номера в прежнем виде. Если нам понадобится дополнительный персонал, они найдут применение. Но вы рады, что клиники больше нет, правда? Вы никогда ее не одобряли.
– Неужели это было так очевидно? Мне очень жаль, но она всегда была в Маноре чужеродным телом. Здесь ей было не место.
– Лет через сто о ней забудут.
– Сомневаюсь. Она станет частью истории Манора. И я не думаю, что кто-то окажется в состоянии забыть вашу последнюю частную пациентку.
– Кэндаси предупреждала меня о ней, – сказал Чандлер-Пауэлл. – Она ужасно не хотела, чтобы та приехала сюда. И если бы я оперировал ее в Лондоне, она не погибла бы, и жизнь каждого из нас сложилась бы иначе.
– Иначе, но вовсе не обязательно лучше, – возразила Хелина. – Вы поверили признанию Кэндаси?
– Первой части. Что она убила Роду Грэдвин. Да, поверил.
– Преднамеренно или непреднамеренно?
– Думаю, она потеряла контроль над собой, но ей никто не угрожал, никто ее не провоцировал. Думаю, присяжные вынесли бы вердикт о преднамеренном убийстве.
– Если бы дело вообще дошло до суда, – сказала Хелина. – У коммандера Дэлглиша не было достаточных улик даже для того, чтобы произвести арест.
– Я думаю, он был очень близок к этому.
– Тогда он пошел бы на риск. Какие у него были доказательства? Не было судмедэкспертов. Любой из нас мог совершить это преступление. Не случись нападения на Шарон и не оставь Кэндаси признания, дело никогда не было бы раскрыто.
– То есть, конечно, если оно действительно раскрыто.
– Вы полагаете, она могла солгать, чтобы выгородить кого-то другого? – спросила Хелина.
– Да нет, это нелепость. И ради кого она могла бы сделать это, кроме как ради своего брата? Нет, она убила Роду Грэдвин и, я думаю, собиралась убить Робина Бойтона – да ведь она и призналась в этом.
– Но зачем? Что он на самом деле знал, о чем мог догадаться, что сделало его таким опасным? И до того, как она напала на Шарон, грозила ли ей какая-то опасность? Если бы ее стали обвинять в убийстве Грэдвин и Бойтона, любой адвокат мог бы убедить присяжных, что есть веские причины подвергнуть это сомнению. Только нападение на Шарон могло доказать ее вину. Так почему же она это сделала? Она говорит, потому, что Шарон видела, как она выходила из Манора после убийства в ту пятничную ночь. Так почему просто не солгать об этом? Кто поверил бы рассказу Шарон, если бы Кэндаси его опровергла? И само нападение на Шарон. Как она могла надеяться, что это сойдет ей с рук?
– Мне кажется, – сказал Джордж, – что Кэндаси просто больше не могла. Она хотела покончить.
– Покончить с чем? С бесконечными подозрениями и неопределенностью, с возможностью, что кто-то решит, что виноват ее брат? Хотела очистить от подозрений всех нас? Вряд ли.
– Покончить с собой. Я думаю, она сочла, что тот мир, в котором она существует, недостоин того, чтобы в нем жить.
– Все мы порой чувствуем то же самое, – заметила Хелина.
– Но это проходит, это не настоящее. И мы понимаем, что это не настоящее. Для того чтобы так чувствовать, мне надо было бы постоянно испытывать невыносимую боль, понимать, что мой ум слабеет, что я утратил свою независимость, потерял работу, лишился этого дома…
– Я думаю, что ее ум и правда слабел. Думаю, она понимала, что сходит с ума. Давайте все-таки пойдем к Камням. Она умерла, и теперь я испытываю к ней жалость.
Голос Джорджа вдруг стал сердитым:
– Жалость? Я вовсе не испытываю к ней жалости. Она убила мою пациентку. А я сделал такую удачную операцию!
Хелина взглянула на него и отвернулась, но он успел заметить в ее беглом взгляде что-то огорчительно близкое удивлению, не лишенному насмешливого понимания. Она сказала:
– Вашу последнюю частную пациентку здесь, в Маноре. Она была поистине частной – частным лицом, закрытым для всех, как бывает закрыто частное владение. Что каждый из нас знал о ней по-настоящему? Что знали вы?
– Только то, что она хотела избавиться от шрама, потому что у нее больше не было в нем нужды, – тихо ответил он.
Они медленно пошли по липовой аллее. Почки уже раскрылись, и деревья стояли в нежной, прозрачной и преходящей зелени весны. Чандлер-Пауэлл сказал:
– Эти планы насчет ресторана… конечно, все зависит от того, захотите ли вы здесь остаться.
– Вам понадобится кто-то, кто мог бы взять дело в свои руки: администратор, генеральный организатор, эконом, секретарь. Конечно, я могла бы остаться, пока вы не найдете себе подходящего человека.
Дальше они шли молча. Потом, не останавливаясь, он сказал: