Останкинские истории (сборник) Орлов Владимир
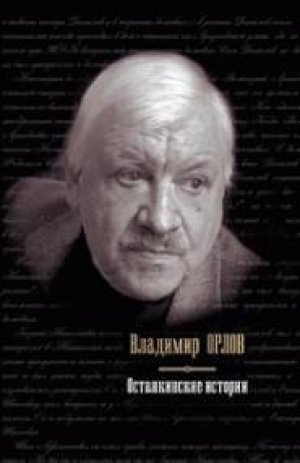
«Ну, их дело», — посчитал Шеврикука.
Однако пришло к нему и чувство досады. Совсем, что ли, не заинтересованы в нем Дуняша и в особенности Гликерия? А хотя бы и совсем не заинтересованы! Что ему? Стало быть, пребывают в благополучии и нечего о них беспокоиться. Не следовало ему стараться и отправлять в розыскную экспедицию на Покровку Пэрста-Капсулу.
Так досадовал Шеврикука на Дуняшу и Гликерию, а сам понимал, что готовит себя к завтрашнему походу под маньчжурский орех.
Вечером в томлении, душевном и плотском, а потому и в рассеянности, Шеврикука бродил асфальтовыми тропами неподалеку от Землескреба и чуть было не столкнулся с правильным гражданином Радлугиным. Радлугин несся возбужденный, возможно, искал Шеврикуку с неизбывным желанием собеседования. Остановились. Поздоровались. И тут Радлугин смутился, будто забыл, о чем был намерен говорить. И все же начал:
— А не кажется ли вам, уважаемый Игорь Константинович, что наш… этот… Пузырь — попечительский?
«Не кажется ли» было произнесено явно из деликатности, конечно, по понятиям Радлугина, уважаемый Игорь Константинович все до решающих тонкостей знал о Пузыре, и теперь Радлугин полагал, что и ему (и по заслугам) могли быть открыты хоть крохи большого знания. Пусть и намеками.
— Да… Попечительский… — повторил Радлугин.
— То есть? — Брови Шеврикуки строго и начальственно опустились.
— Попечительский… Прислан и опущен с целью опекать Останкино. Кормить, снабжать, успокаивать умы, содержать в чистоте. А его хотят разделить. Или вовсе забрать от нас. Мы создали кружок… или сообщество… с самостоятельной программой… Мы уже послали манифесты и петиции в разные места… И в Страсбург, в Европарламент… О соблюдении прав потребителя и человека… Хотя бы на этот раз… И мы желали бы чуть-чуть, сколько дозволено, знать о Пузыре, чтобы выстроить план соучастия…
— По-моему, вы еще не до конца разобрались с затмениями, — укоризненно произнес Шеврикука.
— Да, да, но мы разбираемся и разберемся! Это тем более важно теперь, чтобы было учтено, если вдруг пойдет дележ Пузыря, кто и как вел себя во время затмения, а потому и доля каждому была бы определена по справедливости и гражданской ценности…
— Давайте сегодня более не будем говорить о Пузыре, — указал Шеврикука.
— Ах… что? — растерялся Радлугин. — Все. Я понял… Но еще об одном… Если у вас есть минута времени… Вы и вправду не в раздражении от того, что я и супруга решили перейти из государственной службы в коммерческую? Я в муках. Не противоречит этот переход чему-либо?
— Не противоречит, — мрачно сказал Шеврикука.
«Катился бы ты отсюда в сей же момент на коммерческую службу!» — пожелал Шеврикука. Собеседник ему надоел. Но Радлугин и не собирался катиться куда-либо в сей же момент. Он стал уверять Шеврикуку, что переходит в коммерческую службу из высоких соображений, а не корысти ради, не из эгоистических или животных желаний разбогатеть. Хотя что плохого в богатых? Если каждый из нас разбогатеет, то и Отечество станет богатым. Нет, ничего такого он не имел в виду, Отечество у нас и теперь, конечно, богатое… Да, можно бы жить сытно и плотнее прильнуть к культуре, с воодушевлением рассуждал Радлугин. А какое удовольствие богатому человеку стать покровителем шикарной женщины…
— Что-что? — спросил Шеврикука.
— Ну… — смутился Радлугин. — Это я к слову и теоретически… Уж конечно, не про себя… Я лишь предположил… Богатый человек может позволить себе покровительствовать шикарной женщине… Как произведению искусства. Или природы… И морально… И советами… И вообще…
«Как же! Не про себя!» — подумал Шеврикука. Сказал:
— И где же они обнаружатся, шикарные-то женщины? Что-то их не видно вокруг. И у нас в Землескребе их нет.
— В Землескребе есть, — убежденно сказал Радлугин.
— Это кто же?
— Неважно… — Радлугин, возможно, хотел укрыть от Шеврикуки имя прельстившей его женщины, но не выдержал, видимо, произнести ее имя было ему приятно: — Ну вот хотя бы Легостаева Нина Денисовна…
— Кто-кто? — Брови Шеврикуки теперь взлетели вверх.
— Нина Денисовна Легостаева…
— Это которая по общественным наукам? И в очках?
— Иногда она снимает очки…
— Вот как? Но она же, как помнится из ваших сообщений, понесла от Зевса?
— Она так уверяет. Но это не имеет никакого значения.
— Действительно, это не имеет никакого значения, — согласился Шеврикука. — Что же, желаю вам разбогатеть. А за Пузырем наблюдайте.
«Жаль, что в Землескребе не проживает Совокупеева Александра Ильинична, Александрин, — подумал Шеврикука в квартире пенсионеров Уткиных. — Она уж точно бы приглянулась будущему покровителю шикарных женщин. Эко его изнудила супруга-то!» Вспоминать все подробности Совокупеевой было Шеврикуке сладко. Но он сразу же понял, что, вспоминая Совокупееву, старается отвести от себя мысли об Увеке Увечной. Хорошим зельем угостила его в профилактории Малохола улыбчивая Стиша. Томление плоти испытывал теперь Шеврикука. В этом не было ничего приятного или благообещающего. Конечно, Шеврикука мог напомнить себе известное: вся наша жизнь на Земле является томлением души, плоти и разума. Но стало ли ему от этого легче? Совсем недавно он высокомерно-прохладно отнесся к вздохам подселенца Пэрста-Капсулы о томлении всей его сути. Пэрст же, наверное, тогда страдал. Сейчас маялся он, Шеврикука.
«А не подняться ли мне к Денизе? — пришло в голову Шеврикуке. — К Нине Денисовне Легостаевой, столь любезной Радлугину? Оказывается, она и очки стала снимать». Пожалуй, давно Шеврикука, невидимым, но осязаемым и ощутимым, не появлялся в квартире Легостаевой. Да и от Денизы чувственные вызовы к нему не поступали. Шеврикука набрал известный номер, трубку подняли, Шеврикука подышал тяжело и взволнованно, ожидал услышать привычное: «Это ты, милый?.. Приходи… Умоляю… Приходи…» Однако трубку, не слишком, правда, решительно, положили на место. Минут через пять Шеврикука звонок повторил, опять трубку подняли, но теперь Шеврикука понял: сделала это мужская рука. «Чего вы там дышите? У вас астма, что ли? — услышал он невежливое. — Вам кого?» «Сторожа консерватории!» — грубо сказал Шеврикука. «Здесь квартира». — «Не валяйте дурака, здесь всегда была консерватория!» На этом общение с квартирой Легостаевой прекратилось.
Шеврикука был чуток к звукам. Но сейчас он так взволновался, что не мог сказать определенно, радлугинский голос он слышал или нет. Шеврикука колебался. Конечно, если Денизу посещал приятный ей кавалер, соваться теперь в ее квартиру было делом неприличным. Но вдруг там пребывал гость незваный, может, даже насильственно вломившийся? Или, скажем, врач, приглашенный внезапно захворавшей Денизой? Тогда он, Шеврикука, был обязан по службе хоть на мгновение заглянуть в квартиру Легостаевой.
И заглянул.
Радлугин украшал собой жилище Нины Денисовны, Радлугин! Легостаева, и впрямь позволившая себе снять окуляры-директивы, сидела в кресле, а Радлугин на коленях стоял у ее ног. Весь он был — упоение и страсть. Виделся он Шеврикуке оголодавшим самцом, освободившимся от оков общественно-государственных добродетелей и благоприличий. Расслышал Шеврикука заверения Радлугина отвезти прекрасную Нину Денисовну через год, нет, через полгода на пляжи Балеарских островов. Легостаева смотрела на него удивленно-обеспокоенная, но с глаз долой не гнала. «Да способен ли такой Радлугин, — думал Шеврикука, — на гражданские подвиги? Вряд ли уже способен. Этакий натворит дел. Или что-нибудь разворует! Надо будет со строгостью через Пэрста-Капсулу напомнить ему об общественном долге!»
И Шеврикука удалился из квартиры Легостаевой.
Подругой своей Легостаеву Шеврикука никак не мог считать. Хотя и относился к ней с приязнью. И уж тем более не мог считать ее своей собственностью. Стало быть, ему следовало пожелать Денизе и Радлугину взаимных удовольствий, если их интересы и тела сблизятся. И пусть младенец, воображенный Денизой (и Радлугина Нина Денисовна попросит называть ее Денизой?), пусть младенец этот случится не от Зевса. Совет им да любовь. И пляжи Балеарских островов. Однако Шеврикука был раздосадован и раздражен. Будто ему изменили. Или будто его обокрали. Или просто оставили в дураках. И все же Шеврикука уговорил себя не быть мелочным и никаких препятствий сближению Радлугина и Легостаевой не устраивать. Тем более что у Радлугина, может, ничего и не возгорится. Может быть, Дениза с презрением относится к пляжам Балеарских островов и по-прежнему питает слабость к казематам Петропавловской крепости.
Одно было замечательно. Раздражение Шеврикуки и его досады отменили томление его плоти. Значит, на зелья Стиши имелись и противоядия.
Впрочем, под маньчжурский орех Шеврикука намерен был отправиться.
И в среду он совершил поход в Ботанический сад.
Увека ждала его.
— Здравствуйте, — сказал Шеврикука. — Это вы в двух записках просили меня о встрече? Подпись стояла «В. В.».
— Здравствуйте. Очень признательна. Да, это я. Векка Вечная. Конечно, в этом имени есть претензия. Но так теперь меня называют.
— Чем могу быть полезен вам? Чем вообще вызван ваш интерес ко мне?
— Я давно наслышана о вас. Я знаю вас. Пусть и издалека. Я, может быть, влюблена в вас…
— Оставим разговор об этом, — нахмурился Шеврикука.
— Хорошо… Оставим… — Барышня растерялась. Замолчала. Губы ее дрожали.
Увека, или Векка, похоже, не знала, как вести разговор с Шеврикукой. Шеврикуке же нечего было сказать ей. Так они и стояли. Теперь Шеврикука мог разглядеть просительницу внимательнее, нежели бабочкой с ветки липы. Со слов Гликерии и в особенности Дуняши и по иным сведениям, Шеврикуке было известно, что Увека Увечная, пробившаяся в мещанские привидения тридцать шестой сотни из кикимор, а по весне объявившая себя Веккой Вечной, слыла бойкой, неугомонной, развязной, лезла во все дыры и во всякие приключения. Никакие благопристойности для нее не существовали. Она, будто и не обращая внимания на свое малое значение в сословии, беспутно искала богатств и фавора. Пробивалась в путаны, в фотомодели, в мисс и в миссис, имела удачи. Попыталась даже перебраться в места со сладкой жизнью, для начала хотя бы в Лихтенштейн, но была задержана и отправлена в холодную. Однако и из холодной, стало быть, сумела вырваться, раз по средам могла позволить себе прогулки в Ботаническом саду.
Выходило, что свидание Шеврикуке назначила несомненная княжна Тараканова, распутная и злокозненная. Но стояла перед Шеврикукой вовсе не княжна Тараканова, а хрупкая, худенькая старшеклассница, возможно, и ни разу не целовавшаяся с парнями. Лицо у нее было почти детское, светлое, а серые глаза — лучисто-искренние. Как и в прошлую среду, оделась Увека скромно, недорого — темная юбка до колен, бледно-голубая вязаная кофта. Такую барышню следовало опекать, жалеть и лелеять. Руки Шеврикуки подались вперед, будто он вознамерился поднять барышню и носить ее, легкую, нежную, под редкими иноземными деревьями. А то, может, и воспарить с ней…
«Э нет! — охладил себя Шеврикука. — Этак я растаю и рассироплюсь. Для меня сейчас в этом нет никакой нужды!» И он снова подавил в себе действие Стишиного зелья. Но, может, Стиша и не угощала зельем, а были в ее чашах именно благородно-бодрящие напитки?
— Вот что, — сказал Шеврикука. — У меня мало времени и хватает дел. Для лирических прогулок и бесед у нас нет простора. О какой помощи вы хотели бы просить меня? Какое у вас ко мне дело? Я многого не могу обещать вам. То есть я вообще ничего не могу вам обещать. Я вас плохо знаю.
— Вы можете узнать меня лучше, — подняла глаза Увека-Векка, они по-прежнему были влажными.
— Пока не вижу в этом необходимости.
— Я хотела бы стать сподвижницей Шеврикуки в его делах. Исполнять все, что укажет или прикажет.
— Вот тебе раз! — удивился Шеврикука. — И какие же такие нынче дела у Шеврикуки, сделайте одолжение, проясните.
— Вы знаете сами какие. А мне известно кое-что. Мне известно направление ваших дел.
— Вы ошибаетесь.
— Я не ошибаюсь, — убежденно сказала Увека-Векка. — Я хочу служить вам.
— Спасибо за предложение услуг. И давайте закончим на этом разговор.
— Вы одиноки… — с печалью и будто сострадая Шеврикуке, произнесла Увека-Векка. — А теперь, когда вы и Отродья Башни…
— У вас есть интерес к Отродьям Башни? — быстро спросил Шеврикука.
— Да! Есть! Интерес! — в волнении выдохнула Увека-Векка. И в глазах ее безусловно проявился интерес к Отродьям.
— Знаете что… — задумался Шеврикука. — А не хотели бы вы, чтобы я познакомил вас с кем-либо из Отродий?
— Хотела бы! — выпалила Увека.
— Ладно. Через неделю, но не в три, а в два часа они оты щут вас здесь. Если у вас, конечно, случится время для прогулки.
— Случится!
— И отлично. А там посмотрим.
«Вот пусть Бордюр и выходит на Векку-Увеку, — подумал Шеврикука. — И пусть налаживает с ней отношения. Коли им нужны привидения и призраки». Был повод потереть руки.
— Теперь я, пожалуй, пойду, — сказал Шеврикука. — Ваши слова я принял к сведению. Но ждут служебные хлопоты. До свидания.
Уходил он неторопливо, даже непривычно для себя степенно. Но в мыслях он от маньчжурского ореха бежал. Побыстрее отсюда и подальше! «И надо же было произнести дурацкое „до свидания“! — бранил себя Шеврикука. — Какие еще могут быть у нас с ней свидания! И все-таки она меня зацепила… Или сумела зацепиться за меня…»
А навстречу ему несся Сергей Андреевич Подмолотов, Крейсер Грозный с букетом гвоздик в руке. Пролететь мимо Шеврикуки он не мог, остановился и принялся будто бы оправдываться:
— Игорь Константинович, вы извините, что в прошлый раз не заметил вас здесь… Спешил… И сейчас спешу… В Оранжерею… К змею моему… Анаконде… Любит, стервец, гвоздики… На десерт…
— Ну и бегите, — поощрил его Шеврикука. — А то ведь бедняга расстроится.
Шеврикука прошагал метров десять. Не выдержал. Обернулся. Теперь тело Векки-Увеки не показалось ему хрупким. Напротив, эта барышня вполне могла бы вызвать у любителей горячие чувства.
Крейсер Грозный подскочил к ней, поклонился, преподнес гвоздики. Увека приняла их.
Змей Анаконда опять остался без десерта.
43
Через три дня в Останкине, да и во всей первопрестольной, стало доподлинно известно, что Пузырь будут раздавать. Принято постановление. Конечно, последуют еще дебаты и голосования, не исключено, что и с мордобоями. Но Пузырь будут непременно раздавать. И всем должно достаться. Неизвестно, правда, по скольку. Просочились сведения о том, что Пузырь соизволил впустить в себя представителей, уполномоченную комиссию и специалистов разных свойств. И будто бы оказалось: все эти супы-концентраты, упаковки с макаронами и с аспиринами были лишь мелким преподношением Пузыря. Или мелким его баловством. Чего только не обнаружилось в открытых, пусть пока и избранным, недрах Пузыря! Будто там и автомобили крутились, сверкая боками, на подвижных стендах, и плавали яхты, какие люди с капиталами из Воронежа или Куртамыша Курганской губернии могли держать на своих причалах в гаванях анатолийского побережья Турции. Конечно, не исключено, что сведения расползались ложно обнадеживающие или из голов возбужденных фантазеров, но им хотелось верить. В недрах Пузыря будто бы никакие неземные голоса не звучали, а если Пузырь на что-то указывал или к чему-то призывал, то эти указания и призывы мгновенно воспринимались мозгами, а то и чувствами ответственных и догадливых гостей. К тому же в сусеках Пузыря (если были в нем сусеки или отсеки) имелись инструкции на русском языке — и без всяких опечаток или грамматических вывихов — с разъяснениями, что делать, что и откуда брать и к чему стремиться. И якобы в инструкциях содержалось требование: все явленное раздать гражданам, имеющим постоянную прописку, иначе добро Пузыря отправится восвояси.
Что-что, а всегда у нас на Руси доставляли удовольствия населению чаяния Белых Вод.
Понятно, что Останкино было теперь особенно возбуждено. И не только Останкино. Не охлаждало пыл энтузиастов и мнение угрюмых о том, что никакие лимузины и яхты отпускать не будут, а выдадут по спискам талоны, ими потом и дыру на обоях не заклеить. Но у всех были свои грезы и интересы. Известный критик и литературовед Вадим Евгеньевич Ковский уверял меня в коридоре Литинститута, что одаривать станут одними носовыми платками. Преимущественно темно-синими — чтобы реже можно было стирать. А не менее известный литературовед и критик Владимир Павлович Смирнов, тверской по происхождению, мечтательно говорил, что выдавать будут исключительно просмоленную дратву для подшития калязинских валенок, а в приклад к ней деревянные гвозди — эти для крепления на уже подшитых валенках кожаных пяток. А помолчав, он с приязнью стал вспоминать о Лейпцигском университете и мягких тамошних складных диванах. Похоже, что и лейпцигские университетские диваны оказались бы теперь нелишними.
В пору всеобщего в Останкине возбуждения и томления душ подала наконец Шеврикуке сигнал вызова на свидание Дуняша-Невзора. Там, где они встречались в прошлый раз, лежал Пузырь, и Дуняша пригласила Шеврикуку к табачному киоску на улице Королева. Пребывала она нынче не в печали и не в тревоге, а в деловом оживлении. Мантилью оставила в шкафу, нарядилась в джинсовый костюм.
— Принес? — спросила Дуняша.
— Примите, пожалуйста, — Шеврикука протянул Дуняше бинокль.
— Вот и спасибо, — сказала Дуняша. И будто бы была намерена сейчас же куда-то бежать.
— Что-то вы не торопились забрать бинокль?
— Много хлопот и деловых устройств.
— А второй предмет?
— Пока он нам не надобен.
— Ну, смотрите.
И опять, неожиданно для Шеврикуки, движениями своими и взглядами Дуняша-Невзора давала понять, что беседовать ей с Шеврикукой не о чем, добыл он им бинокль, и ладно.
— Ты о чем-то хочешь меня спросить? — поинтересовалась все же она.
— О Совокупеевой, Александре Ильиничне, — пришло на ум Шеврикуке. — Ты сражалась с ней в нижних палатах Тутомлиных. А тебе по ночам приходится являться и в ее квартире на Знаменке. Не деретесь более-то?
— Мы с ней почти сдружились! Она со мной и Гликерией Андреевной вошла в одно дело.
— Это какое же?
— Устраивают Мастерскую… или Ателье… Или Агентство… Колдунов, ведьм и привидений. Может быть, именно на Покровке. И мы — там…
— Что за услуги вы будете оказывать населению?
— Самые разнообразные! — с воодушевлением заявила Дуняша. — Снимать порчи, сглазы, наговоры, а коли нужно — отменять проклятия. Вызывать духов. Проверять подлинность деловых документов, определять надежность партнеров в бизнесе, давать финансовые прогнозы. Гадать на кочерыжке. Много всяких услуг.
— Как я понимаю, вам теперь не нужен проводник?
— Проводник нужен. Но обойдемся без тебя.
— А отчего же вы… Ваше Агентство… при таких талантах и возможностях не освободите Гликерию Андреевну от ее… от тяготящих ее обязательств?
— Не твое дело! — резко сказала Дуняша.
— Не мое, — согласился Шеврикука.
— Не ехидничай, Шеврикука! Сам ты не перестаешь думать о Гликерии. А она в тебе не нуждается. У нас все хорошо!
— С чем я вас и поздравляю.
— А ты пожалеешь, что связался с Увекой Увечной! Конечно, она теперь малышка и милашка. Но смотри…
— Хватит об этом! — оборвал Дуняшино предупреждение Шеврикука. — Дел у тебя ко мне более нет. А потому я отправляюсь в свои квартиры.
«Странно, что Дуняша, служанка предприимчивой и рискованной госпожи, не выказала никакого интереса к Пузырю и к тому, что его будут раздавать, — подумал Шеврикука. — Наверняка и они подбираются к Пузырю, но неизвестным мне манером…»
А интерес к Пузырю и грядущей его раздаче, естественно, проявляли не одни лишь люди. Воробьи и те озабоченно переговаривались вблизи боков Пузыря в надежде урвать крошки. Несомненно, в напряжении находились Отродья Башни. И домовые не желали чего-либо проморгать или упустить. Шеврикуку эстафетой оповестили, как непременного и действительного члена, что он обязан посетить ближайшие деловые посиделки в Большой Утробе. Можно было предположить, о чем пойдет речь на посиделках. Конечно же о том, чтобы никто из квартиросъемщиков, ответственных и рядовых, не оказался в убытке или потерпевшим. А коли добро, хоть какое, пусть и неестественного происхождения, прибудет в поднадзорные жилища, стало быть, возникнет повод для удовлетворений и домовым. А потому надо приглядывать за бумагами и списками в коммунальных конторах, дабы ни один из имеющих право не выпал и не убыл из ценных списков, а обладающие льготами не были забыты. Ясно, что все держали бы в голове мысль о том, что и им, домовым, из Пузыря хоть по малостям, но что-нибудь да и отсыплется. Такой наглец, как Продольный, ни при каких обстоятельствах не упустил бы своего. И чужого.
Радлугин все еще считал Пузырь попечительским. Но он, похоже, смирился с тем, что попечительский Пузырь будут раздавать. И не одним лишь останкинцам. Он, возможно забыв на время о шикарной женщине и Балеарских островах, со своим сообществом и в соответствии с их самостоятельной программой яро хлопотал о присуждении льгот и призов всем, кто благонамеренно проявил себя во время Солнечного Затмения. Но прокатились слухи о том, что льготы будут предоставлены прежде всего Фондам. В этом же уверил Шеврикуку прикативший к Землескребу в синем «форде» отечественный предприниматель Дударев (если помните, неделями назад он ездил в серой «тойоте», а весной — всего лишь на велосипеде). Оказывается, Дударев улетел загорать на Аляску, но, узнав о раздаче Пузыря, вынужден был прервать отпуск. Вчера — все бумаги подписаны и упечатаны — был создан Фонд защиты и поощрения Привидений. Служебными ручьями поплыли и другие бумаги. Как только они доплывут, куда надо, возникнет концерн «Анаконда» с участием (на первых порах) японского капитала. О названии и эмблеме концерна спорили. Иные (Свержов и Бордюков в их числе) предлагали дать ему имя «Шмель» — в память о незабвенном, но отмененном историей Департаменте Шмелей. Они же с укором напоминали о существовавшем когда-то в Америке злодейском концерне-монополисте «Анаконда», бессовестно грабившем простых, но честных тружеников. И все же победили анакондисты. Тем более что имелся живой символ концерна — амазонский змей, дрыхнувший пока в Оранжерее. Но змею уже определена зарплата, а во дворе (или на усадьбе) Тутомлиных вскорости и безвозмездно ему построят крытый бассейн с илистым дном и порхающими тропическими мухоловками. Погонщиком и научным смотрителем змея утвержден (по совместительству) Сергей Андреевич Подмолотов, Крейсер Грозный.
«Ага, — подумал Шеврикука. — Он его откормит гвоздиками».
— А размещаться мозговой центр концерна и Фонд Привидений, — сказал Дударев, — будут, скорее всего, в доме Тутомлиных на Покровке. Сдавать в аренду мы его не станем. Так что готовьтесь, Игорь Константинович. Скоро там начнутся паркетные работы. Мы вам и ставку повысили.
— А сколько же я раньше получал? — поинтересовался Шеврикука.
— Ну-ну, не дуйтесь! — Дударев по-дружески похлопал Шеврикуку по плечу. — Важно, что теперь вы будете получать в месяц тысячу швейцарских франков.
— Франками?
— Нет. В эквиваленте.
— В каком эквиваленте?
— В рублевом, в рублевом! — обрадовал Шеврикуку Дударев. — А вы небось испугались, что в долларовом? Шутник вы, Игорь Константинович!
Однажды вблизи Пузыря в толпе любопытствующих Шеврикука углядел сановного домового Концебалова. Концебалов-Брожило, в грядущем — Блистоний, совсем не походил сегодня на римлянина. Не было на нем сандалий и тоги, а были кроссовки и оранжевая роба ремонтника дорожных покрытий. Из-за какого резона Концебалов пожелал выглядеть ремонтником, Шеврикука узнавать не стал.
— Да… Махина… — произнес Концебалов. Потом резко повернулся к Шеврикуке. — А ведь, пожалуй, скоро сюда нагрянут Лихорадки… Не все, конечно…
— И Блуждающий Нерв?
— И Блуждающий Нерв…
Шеврикука ожидал продолжения разговора, затеянного Концебаловым в коридоре Китайгородского Обиталища Чинов. Но Концебалов долго молчал. Взирал на Пузырь. Молча достал из кармана робы фотографию. На ней был засвидетельствован незнакомый Шеврикуке предмет, похожий то ли на ромовую бабу, то ли на большой наперсток.
— Вот ведь что я хочу добыть у одной из Лихорадок, — сказал Концебалов. — Точнее будет сказать — вернуть… Уступил как-то в ходе одной истории… Были там и другие вещи… Но этот для меня сейчас важен…
— Что это? — спросил Шеврикука.
— Омфал, — сказал Концебалов. — Вещь, правда, не римская, а греческая… Но все равно… Копия того, что стоял в Дельфах… Уменьшенная, естественно… Но хорошая копия, старая…
Фотографию Концебалов убрал в карман и более не произнес ни слова. И позже разговор с Шеврикукой у них не возобновился. Но очевидно было, что Концебалов прибыл в Останкино не в последний раз.
Пришлось Шеврикуке снова листать «Словарь античности». Вот что он прочел. «ОМФАЛ (греч. пуп) др. культовый объект в Дельфах, считавшийся центром („пупом“) Земли (представляли, что существует и „пуп моря“). Этот посвящ. Аполлону камень хранился в его храме, имел вид монолитной глыбы и находился в целле».
Шеврикука вернул словарь на место. Долго стоял у окна в квартире Садовниковых. Вот тебе и Концебалов! Пуп Земли! Но понял: и Концебалов сумел зацепить его. Слабая он, Шеврикука, натура…
Вскоре Шеврикука почувствовал, что с ним желает говорить ПэрстКапсула.
Шеврикука поднялся в получердачье. Эксперт по катавасиям молча, но торжественно протянул Шеврикуке деревянную палку с набалдашником, инкрустированным янтарем.
Шеврикука чуть было не принялся откручивать набалдашник. Но не сделал этого.
— Попытался, — сказал Пэрст-Капсула. — И нашел. На Кондратюка. В доме вашего знакомца… Петра Арсеньевича… Обнаружились прежде не замеченные мной полости в плитах перекрытия…
Но Петра ли Арсеньевича была эта палка? Трость… Посох…
— Спасибо, — сказал Шеврикука. — Укрой ее где-нибудь… На время…
44
Прошла неделя, и в субботу в полдень Пузырь впустил в себя четыре грузовика-рефрижератора. С прицепами. Дебаты и голосования вышли благопристойными и скорыми. Видно, и голосовавших подгоняло нетерпение. К тому же, как известно, им полагалось разойтись на каникулы. Плетеные корзинки с клубникой, напоминавшей о том, что не за горами яблочный Спас (а прежде Илья Пророк примется прохлаждать воду в прудах, морях и океанах) и надо будет готовить сани, стояли теперь у многих законосозидателей как раз рядом с клавишами для волеизъявлений. И клавиши сработали. Но наверняка иные избранники и на каникулах желали быть в пределах досягаемости Пузыря. Хотя бы из чувства ответственности перед народами своих земель. Или из любопытства.
Но и их это было дело…
Пронеслось мнение, высказанное и с трибуны, что — при бдениях уполномоченных наблюдателей и недреманного ока — грезы каждого Пузырем будут осуществлены. Но мнение это тотчас было признано популистским и рассчитанным на немедленные суетные прибыли. Однако выразители мнения, обещавшие к тому же всяческую поддержку Пузырю, несомненно, многим запомнились.
«Осуществятся грезы… — размышлял Шеврикука. — Ну-ну… Концебалов-Брожило откроет глаза, протянет руки к Пузырю, и на ладонях у него восстанет Омфал, родственник дельфийского Пупа Земли… А может быть, греза у Брожилы такая страстная, что незамедлительно состоится возведение Концебалова, минуя достоинства всадника и оптимата, прямо в Пупы Земли…»
Сразу же Шеврикука вспомнил, что домовых ни в какие списки не внесут, а грезу Концебалова, пусть и самую страстную, принимать во внимание никто не станет.
Но вскоре разговором с домовыми Ягупкиным и Колюней-Убогим размышлениям Шеврикуки был дан совершенно иной ход. Повстречались они вблизи музыкальной школы. Там, как слышал Шеврикука, проводили теперь ремонт. С ленцой и с денежными страданиями. Шеврикука намеревался кивнуть Колюне с Ягупкиным, но в беседу не вступать. Безумные нынче глаза свои Колюня-Убогий таращил в небеса, из приоткрытого рта его вот-вот, похоже, могла потечь слюна. Ягупкин шагал без костылей, двумя ногами, харя неопрятного бездельника была по-прежнему заросшая рыжим волосом и опухшая. Шеврикука понял, что дерзить ему Ягупкин не будет и бузотерить не будет, его, как, видимо, и Колюню-Убогого, словно бы ошарашили некой новостью, и привыкнуть к ней он был не в силах.
— Слушай, Шеврикука, — остановился Ягупкин. — Это как же такое? Это что же с Продольным-то?
— А что с Продольным? — встал и Шеврикука.
— Паспорт выправил! — с ужасом выговорил Ягупкин. — И будто прописан в Землескребе. В отделении милиции поставили печати! Что же это?
— Слухи? — спросил Шеврикука. — Болтовня? Или ты видел паспорт Продольного?
— Я не видел, — покачал головой Ягупкин. — Другие видели. Он хвастался. Показывал. Там его фотография. И печати. Велизарий Аркадьевич видел. Иван Борисович. И вот Колюня видел.
Продолжая таращить безумные глаза в небеса, Колюня-Убогий закивал меленько и быстро, прохрипел нечто, выражающее смятение чувств его натуры.
— Наглость ведь какая! — не мог успокоиться Ягупкин. — Устроить себе людской паспорт!.. Это… Это… Этого не должно быть… Тут покушение на основы… И все для того, чтобы пробиться к Пузырю! Как быть-то нам?
Похоже, немытый бездельник и бузотер Ягупкин, даже он, усмотрел в нынешней наглости Продольного чрезвычайное безобразие с покушением на основы и был возмущен и растерян. А Колюня-Убогий, не исключено, мог и разрыдаться теперь от нечаянной печали.
— Ничего не могу вам сказать, — помолчав, произнес Шеврикука. — Спешу. От вас впервые услышал. Надо выяснить с подробностями, а потом уж и выстраивать соображения.
Но в квартире Уткиных Шеврикука постановил, что и выяснять ничего не надо.
На всяческие основы, предания и приличия наглецу Продольному, пробившемуся в Москву из погоревших и помятых мест хлебать кисели, было всемилостиво наплевать с больших высот. А вблизи Пузыря и не имея возможности попасть в полноправные списки, Продольный страдал, истекал желудочным соком и, естественно, должен был броситься добывать, выторговывать, выцарапывать, устраивать себе людской паспорт, натуральный, может быть, лишь по наружности. (А командир Продольного уполномоченный Любохват — тот небось уже держал в карманах и зарубежную ксиву со штемпелями ОВИРа? Да пусть!)
Но отчего же он, Шеврикука, должен был оказаться в проигрыше Продольному? Ни в коем случае!
Выправить паспорт Шеврикука решил поручить Пэрсту-Капсуле. Конечно, существо, сотворенное или недосотворенное при изучении Проблем энергетического развития судеб (транспортно-биологических), много чего умеющее, могло испечь любые удостоверения личности. Да и сам Шеврикука в нетерпении был способен выгрести бумаги с гербами из воздуха. Но он пожелал иметь документ подлинный. Подлинный. Равноценный и равносильный тем, что при надобностях предъявляли супруги Уткины или Радлугины, поплававший бы по всем канцелярским протокам из клея и чернил, прежде чем на него была бы опущена последняя надлежащая печать. Такая посетила Шеврикуку блажь.
«Можно, — кивнул Пэрст-Капсула. — Можно и подлинный. Но ваши фотографии… Бумаги, справки, какие надо, я достану. А с фотографиями выйдут затруднения…» Шеврикука сходил в дом № 19 по 3й Ново-Останкинской, там в очереди к мастеру срочных портретов стояли четверо. Через день Шеврикука фотографии получил. А еще через день Игорь Константинович Шеврикука был любезно приглашен в паспортный стол, где он и вывел в обязательных местах личную подпись.
Теперь он был не только домовой Шеврикука, но и гражданин Игорь Константинович Шеврикука.
Накануне Шеврикука пребывал в сомнениях. А не украсить ли документ какой-либо курчаво-благородной фамилией? Или, напротив, не укрыться ли ему за тихим, неспособным раздражать чувствительных псевдонимом? Но упрямство, как известно, свойственно Шеврикуке, да и к вызовам судьбе он склонен. Он был теперь Шеврикука, Шеврикукой пока и останется! Пусть кому-то его фамилия и покажется смешной и странной. Впрочем, почему она должна показаться смешной и странной? Полтора века назад в Капельском переулке проживал землемер Николай Андреевич Шеврикука, о нем без иронии недавно вспоминал Увещеватель. Да и в прошлом над землемером никто не похихикивал. В тридцатые годы наш Шеврикука, по долгу службы домовым, знавал почтенную преподавательницу французского языка Ирину Сергеевну Шеврикуку, отменно варившую джемы из белой сливы; ее и ее джемы уважали. А лет десять назад в отчетах «Советского спорта» упоминался полузащитник Альберт Шеврикука из мамадышского «Продуктмаша», забивший четыре гола в игре с мантуровской «Лесосекой». Таким Шеврикукой следовало гордиться!
Не сразу определил Шеврикука квартиру, какая могла оказаться пристойным и малобеспокойным местом его прописки. Не размещать же себя в чертогах Радлугиных, лишний жилец сейчас бы и обнаружился, пусть и в бумагах, и разгорелись бы скандалы и баталии. И никому Шеврикука не желал создавать поводы для тревог и недоумений. Разумнее было бы подселиться к рассеянным. Рассеянных проживало в подъездах Шеврикуки двое. Гений и колдун Митенька Мельников и предполагавшая родить от Зевса Нина Денисовна Легостаева. За квартирой Митеньки Мельникова наблюдали. Телескопами из трех обсерваторий. По меньшей мере — из трех. В конце концов Шеврикука приглядел квартиру Легостаевой. И теперь он был в ней прописан. Разыскивать Игоря Константиновича Шеврикуку здесь стали бы лишь в двух случаях: при переписи населения и в избирательную кампанию. Перепись населения пока не производилась, считать пришлось бы убывших. Люди же из избирательных комиссий по квартирам не ходили, никому не докучали, не то что шалевшие от подстегиваний государственными кнутами агитаторы прежних лет. Станут, правда, бросать в почтовый ящик Денизы открытки на имя И. К. Шеврикуки с приглашениями изъявить волю. Но мало ли в Москве путаников, да и завлекающие открытки всегда можно будет перехватить.
«Это что же, я теперь — избиратель? — пришло при этом в голову Шеврикуке. — На кой ляд мне все это надо?» Да, узнав о пронырстве наглеца Продольного, он разволновался. Но теперь, когда он листал документ гражданина Игоря Константиновича Шеврикуки, прописанного в Землескребе, с фотографией и печатями, его чуть ли не затошнило с досады на самого себя. Экое мальчишество! Да разве мальчишество? Дурь и безмерная дерзость! И прав был Ягупкин, пусть бездельник и бузотер, называя пронырство Продольного безобразием и покушением на основы. И главное, ему, Шеврикуке, совершенно не нужен был выправленный документ. «Исключительно для того, чтобы суметь отстаивать интересы квартиросъемщиков при раздаче Пузыря. Переусердствовал, но не корысти ради…» — придется объяснять Шеврикуке — и, может быть, в скором времени — тому же Китайгородскому Увещевателю. И выйдет вранье. Шеврикука вздохнул.
— Что-нибудь не так? — услышал Шеврикука голос Пэрста-Капсулы.
Пэрст-Капсула, чьими усердиями был добыт паспорт, стоял рядом, а Шеврикука о нем будто забыл.
— Что? — спохватился Шеврикука. — Нет, все в порядке. Благодарю за услугу. Удивляюсь быстроте, с какой она оказана.
— Самому интересно было пройти лабиринт быстро, — сказал Пэрст-Капсула. — Есть способы ускорения канцелярской поспешности. Один из них я опробовал. Получил удовольствие.
Шеврикука знал единственный способ ускорения канцелярской поспешности. Но вряд ли Пэрст-Капсула ублажал лиц при конторских книгах и сейфах пачками денег или хотя бы коньяками и шоколадами.
— Да, — сказал Пэрст-Капсула. — Способы есть чисто технологические, в них нет нарушения этики, а есть замена керосина лазерным лучом.
— Я рад, что ты получил удовольствие, — пробормотал Шеврикука.
Опять он почувствовал, что выглядит барином, высокомерно-снисходительно-пустыми словами одобряющим проворного слугу. Ощущение это было ему неприятно. Пустые слова произнес он, пустой случилась его затея.
— Я не знаю… Надо ли об этом ставить вас в известность, — неуверенно начал Пэрст-Капсула. — Но я все же об этом скажу… Среди прочих готовых к выдаче документов я видел паспорт на имя Гликерии Андреевны Тутомлиной…
— Вот как? — удивился Шеврикука. И тут же сообразил: а что удивляться-то? Впрочем, одна странность была: отчего паспорт Гликерии Андреевны Тутомлиной (что ж, Гликерия имела право назвать себя и Тутомлиной) был намечен (видимо — ею) к осуществлению именно в Останкине? Не логичнее было бы Гликерии получить прописку в иной префектуре, на Покровке, в доме Тутомлиных? Или останкинская прописка давала ей больше выгод и выходов к Пузырю? В этом следовало разобраться…
— А… — начал было Шеврикука.
— Нет, — сказал Пэрст-Капсула. — На всякий случай я заглядывал в бумаги. В Останкине ни одна из интересующих вас особ документ не заказала… Ни дама, приходившая к вам в мантилье, ни просительница, объявлявшаяся под маньчжурским орехом… Может быть, они пожелали в других местах… Или у них нет возможности…
— Может быть… — рассеянно сказал Шеврикука. — Может быть…
— Есть мне еще какие-либо поручения? — спросил Пэрст-Капсула.
— Нет. Никаких более поручений нет. Еще раз спасибо, — сказал Шеврикука. — Да… Вот что… Я был бы очень удивлен, если бы Гликерию Андреевну Тутомлину прописали в Землескребе…
— Нет, — сказал Пэрст-Капсула. — Ее прописали в строении, расположенном от Землескреба в семистах двадцати метрах…
— И то ладно… — пробормотал Шеврикука, отпуская взглядом покидавшего его Пэрста-Капсулу.
Известие о паспорте и останкинской прописке Гликерии успокоило Шеврикуку. Отчасти даже развеселило его. Более он себя не бранил, не обзывал безрассудным прохвостом. Паспорт в любой миг можно было разорвать в клочья, а упоминание Игоря Константиновича Шеврикуки в казенных бумагах истребить. Но пока этого не стоило делать.
«А сам-то Пэрст, — задумался Шеврикука, — не соизволил и себе завести паспорт? А хоть бы и соизволил…»
45
Оживление страждущих вблизи Пузыря (нельзя сомневаться, что и в местах от Останкина отдаленных) нарастало. Конечно, у каждого, повторюсь, были свои, может, не объявленные даже самим себе из суеверия или боязни, что уворуют идею или мечту, интересы и упования. Но иных уже высказанные интересы и упования стягивали веревками взаимных расположений в новые Сообщества, Комитеты и Союзы. Очень шумно и целенапряженно заявила о себе Лига Облапошенных. Охотников присоединиться к Лиге Облапошенных поначалу сыскалось мало. С неудачниками и раззявами викторий не добудешь. Ни под Нарвой, ни под Полтавой шведа не одолеешь. Но вскоре явились поводы для удивлений. Учредители Лиги полагали себя облапошенными при разделе Пузыря. Позвольте, говорили им, раздача Пузыря еще и не начиналась. На днях начнется, произносилось в ответ, и тогда нас непременно одурачат, облапошат, а мы потребуем компенсаций за морально-эстетические поражения и вещественные убытки. То есть глупое, на взгляд простодушных, дело оказывалось вовсе не глупым, а напротив — чрезвычайно грядуще-выгодным. Все сразу же вспомнили, что и они не менее других облапошенные, обманутые и одураченные. И не раз. При этом — обманутые и одураченные не уголовно наказуемыми мошенниками, каких можно изловить и вздернуть, а историческими стихиями — прогибами эпохи, государственными затеями, переустройствами общих судеб и прочим. Мало кто признавал и себя виноватым в том, что поддался одури, смалодушничал или струсил, — это все были простофили или тонкоустроенные натуры. Большинство же и не сомневалось в том, что ими крутила лихая и неодолимая сила. Да и приятно, умилительно даже было опять ощутить себя жертвой стихий и обстоятельств, слезу пустить вниз по щеке, помня досады прежних лет, а в грядущее направить бранные слова, в порывах же отваги — и обещания навести в грядущем порядок. Что и говорить, уместным показалось теперь многим появление Лиги Облапошенных.
Посыпались туда заявления, но принимали в Лигу далеко не всех. Признавали достойными лишь крепко одураченных или одураченных в особо впечатляющих размерах. Шеврикука ощутил, что добродетельно усердствующий Радлугин, верный идеалам собственного Сообщества выхода на Пузырь и никак не желающий быть в чем-либо обделенным, тем не менее чуть ли не с завистью поглядывает в сторону облапошенных (среди тех уже ораторствовал бывший чиновник и соцсоревнователь бывшего Департамента Шмелей Свержов, не вписавшийся, если помните, в исторический поворот). «Вот и хорошо, — подумал Шеврикука. — Вот пусть он за Лигой и присмотрит…» И при встрече таинственно-диктующим шепотом Шеврикука намекнул Радлугину о том, что его не прочь были бы видеть они в рядах Лиги, надеемся, что и у Радлугина имеется достаточная степень одураченности и он сможет пройти конкурсный прием в Лигу… Радлугин так обрадовался поручению, что в приступе пылкости готов был обнять уважаемого Игоря Константиновича. Но местоположение их в структурах ни на шаг не позволило Радлугину приблизиться к Игорю Константиновичу. «Сведения передавайте прежним способом. В „дупло“», — заключил беседу Шеврикука.
Отечественного предпринимателя Дударева Шеврикука увидел выходящим теперь уже из темно-серого «мерседеса».
— Игорь Константинович! — обрадовался Шеврикуке Дударев. — Вы, конечно, наблюдаете за Пузырем?
— Держу его в поле зрения, — сказал Шеврикука. — Хотя для меня он и не столь важен.
— Вот и держите! Держите! — поощрил Дударев Шеврикуку к неусыпным бдениям. — А то мы все в бегах, в разъездах, в телефаксах и в сотовой сети! Сами понимаете. И концерн наш «Анаконда»! И Фонд защиты и поощрения Привидений! И прочее! И прочее! А вы все время вблизи Пузыря. Конечно, и у нас есть свои связи и каналы. И поверху. И в глубинах. Но вдруг что-нибудь пропустим впопыхах. А вы — рядом. Если выйдет какая непредвиденность, вы нам сразу о ней…
— Будем рады стараться! — Шеврикука выразил готовность встать перед предприятиями Дударева во фрунт.
— Да нет, я вас вовсе не неволю… — Дударев, похоже, смутился. — Но ведь вы наш? Наш!.. Мы вам очередную индексацию зарплаты произвели… Скоро станут завозить и паркеты…
— А сколько же мне теперь приходится?
— Не суть важно. Много! — быстро сказал Дударев. — Скоро ощутите. Поверьте мне. Я давно уже ощущаю!
— Я вам верю, — Шеврикука скосил глаза на темно-серый «мерседес».
— Вам, как лицу заинтересованному, я отважусь показать кое-какие картинки, таинственные пока, из нашего… с вами… будущего… — И Дударев, открыв «дипломат», извлек из него картонки, украшенные акварельными рисунками.
Рисунков было три, и на всех в главные персонажи был возведен останкинский змей Анаконда.
— Это эскизы эмблемы, — пояснил Дударев. — Это первичные и легкие наброски… Надо думать и думать! И вы, Игорь Константинович, может, что и надумаете. Вы не специалист в геральдике?
— Нет, — сказал Шеврикука. — Не специалист.
— Нет? Жаль! Жаль! — Дударев словно бы расстроился искренне. — А на вид вы вполне специалист. Мы бы вам и к ставке добавили…
Дударев сразу же и замолчал.
Смысл изобретаемых эмблем остался Шеврикуке недоступным. То есть смысл, такой ли, эдакий ли, из рисунков (искусных, замечу, художника приглашали дорогого) вывести можно было. Но что эмблемы сообщали о концерне, чем обязаны были возбудить обожателей концерна, этого Шеврикука как раз и не уразумел. Один из рисунков имел библейское основание. Змей Анаконда в саду наслаждений кольцами обтекал фруктовое дерево с фиолетовыми плодами, похожими на большие капли. Искушал ли он мужчину и даму, стоявших под деревом, или, напротив, хотел уберечь их от бед, или же был намерен предложить увлекшейся паре нечто спасительное и целесообразное взамен неразумного отравления грехом, Шеврикука разъяснить бы не взялся. На секунду Шеврикуке показалось, что мужчину художник писал с него, а даму — с Совокупеевой, Александрин, но не было среди знакомых Шеврикуки ни одного искусного акварелиста, а пустые мысли Шеврикуки могли быть вызваны эгоцентрическим произволом его натуры. На втором рисунке поза змея и среда его обитания были позаимствованы из медицинских легенд и установлений. Змей Анаконда находился здесь при чаше. Но в самой чаше отчего-то восседал рыже-черный петушок, в удивлении склонивший голову набок. На третьем рисунке змей Анаконда имел перепончатые лапы и крылья и, по всей вероятности, находился в полете, над ним парили два ярко-цветных, пятнистых бумажных змея, соединенных с туловом Анаконды то ли узкими стропами, то ли шелковыми лентами. Либо Анаконда волок в воздухе за собой японских бумажных партнеров, либо те сами были восспособствующими ему силами.
— Ну как? — спросил Дударев.
— Интересно… — деликатно протянул Шеврикука. — А вот у нас в городе… на гербе… рыцарь протыкает змея копьем… Или в северной столице… Там конь царственного всадника тяжелым копытом придавил опять же змея… Те сюжеты ваш эмблематист и знаток геральдики не принимал во внимание?
На минуту Дударев озаботился, стоял, будто что-то прошептывая в уме, компьютер неслышно попискивал в нем.
— Нет, — сказал Дударев. — Наш змей из других рук. К злодействам он не расположен. И не даст поводов протыкать себя копьем. Даже рыцарям и от Юрия Долгорукого.






