Останкинские истории (сборник) Орлов Владимир
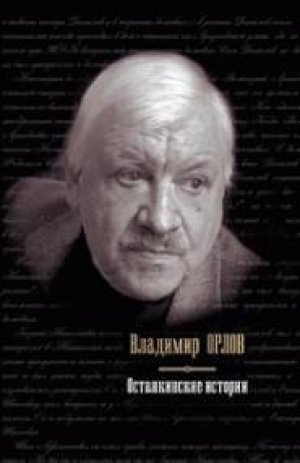
— А отчего, — поинтересовался Шеврикука, — ни на одном из рисунков нет пусть даже и малюсенькой, пусть даже и в уголке, фигурки столь ответственного лица, каким является научный смотритель и погонщик змея Анаконды Сергей Андреевич Подмолотов, Крейсер Грозный? Он ведь тоже может вызвать сюжет и какой…
— Ах, Игорь Константинович, — сокрушенно и укоряюще воскликнул Дударев. — Не хотите вы серьезно отнестись к делу. Или у вас сегодня игривое настроение. Давайте сюда рисунки. Конечно, это пробные варианты, ведь возможны самые разные ответвления деятельности концерна со своими моторами и неводами. И вам бы с вашим пытливым умом что-нибудь изобрести, а вы посмеиваетесь…
— Я не посмеиваюсь, — нахмурился Шеврикука. — И не знаю я, что такое пытливый ум.
— Будут, будут у нас самые разные ответвления! — не обратив внимания на слова Шеврикуки, с воодушевлением продолжил Дударев. — И акции! Акции! Акции! И вы, Игорь Константинович, сможете приобрести акции со змеем Анакондой. Или с привидениями. И вы станете рантье!
— Я? Рантье? — с трудом выговорил Шеврикука.
— Ну а что же? Проще простого.
Будучи заинтересованным в деле и в скором времени рантье, Шеврикука не мог не сообщить собеседнику о звонкошумящей поблизости от Пузыря Лиге Облапошенных и о том, что один из заправил облапошенных — известный Дудареву соцсоревнователь Свержов.
— Облапошенные? Свержов? — Новость явно удивила Дударева и вызвала в нем прилив соображений. — Свержов и у нас околачивается. И у нас колобродит. Этого Свержова хоть наголо обрей, а он все равно будет лохмат и взъерошен! Нет, надо брать этих облапошенных в оборот!..
В какой оборот Дударев пожелал взять облапошенных и Свержова, Шеврикука не узнал, потому как пришла пора Дудареву снова садиться в «мерседес» и мчаться по делам.
В семь вечера в Большой Утробе началось толковище деловых посиделок. Впервые после конфуза в музыкальной школе Шеврикука действительным членом опустился под непременные лучины на лавку в конференц-отсеке посиделок. Вместо пропавшего или сгибшего Тродескантова распорядителем нынче был назначен известный в Останкине домовой Артем Лукич, последние два года живший удивительно тихо. Помимо прочего Артем Лукич славился тем, что на плече его был наколот портрет пастуха-воспитателя народов с трубкой во рту, а под той трубкой синели слова: «Рабочее жилтоварищество — наша крепость». Шеврикука видел эти произведения искусства, не раз парился с Артемом Лукичом в Зубаревских и Марьинских банях. Против Артема Лукича Шеврикука ничего не имел. Домовой он был относительно справедливый. Правда, слишком горластый. Да и поучительными, первоисточниковыми цитатами ему следовало докучать слушателям реже. Теперь в них и вовсе отпала нужда. За столом распорядителя рядом с Артемом Лукичом на табурете восседал напоминанием о том, что воинственные козни Отродий Башни лишь притихли, один из квартальных верховодов, домовой четвертой статьи Поликратов. Как и в прежние дни, на плечи его был наброшен желтовато-зеленый бушлат, и опять изможденный бдениями верховод выглядел полевым командиром, готовым сейчас же повести за собой воинов в окопы. Поликратов пил резкими глотками чай из мятой жестяной кружки, а в случаях опустошения посуды Колюня-Убогий согнутым китайским служкой подносил верховоду чайник.
Речи Артема Лукича и пересуды коллег из Землескреба и соседних зданий Шеврикука слушал в четверть уха. Слова их, назначенные в высказывания, были ему известны заранее. Да, Пузырь. Да, интересы жильцов. Да, постарайтесь. Все для человека. Да, постараемся. Да, все для него. Об Отродьях и их намерениях забывать никак нельзя. Они прикинулись уставшими и больными, а сами пекут план за планом, одного «Барбароссу» за другим. А потому каждый обязан держать кочергу в боевой саже. Ну и прочее. И прочее. Догадывался Шеврикука и о том, кто о чем помалкивает и что у кого упрятано в мыслях. Сам Шеврикука в ораторы сегодня не записывался. Он появился вновь действительным членом, ощутил, кто как к нему отнесся. И достаточно. Интересовало его лишь вот что: сидят ли на толковище (оно вовсе не получалось нынче деловым) другие, кроме него, умельцы, постаравшиеся выправить себе паспорта. А может, все взяли и выправили? Даже слюнявый Колюня-Убогий. А потому никто и не требует разобраться с дерзкими безобразниками, осквернителями преданий, вроде Продольного, и призвать их к ответу. В начале посиделок, в особенности когда распорядителем Шеврикука увидел сурового Артема Лукича, он даже взволновался: а не знают ли о его проделке и усердиях Пэрста-Капсулы ускорить поспешность делопрохождений? (Увещеватель-то и в своем Китай-городе непременно должен был обо всем узнать.) Так вот, не раскричатся ли на посиделках, не назначат ли наряд с полномочиями удостовериться и взыскать? Нет, ни о каких людских документах речь не завели. Но уверенность в том, что не один он нынче при удостоверении личности, Шеврикуку не покинула. Наверняка на толковище в Большой Утробе восседали теперь списочные граждане, возможные избиратели и рантье. А если постарались отважные и расторопные из привидений, то вряд ли от них и домовых пожелали бы отстать высоко ценившие себя Отродья Башни. Хотя именно оттого, что они ставили себя выше людей, им могла показаться унизительной мысль об использовании коммунальных документов. Но кто знает? Со временем прояснится… А вот Велизарий Аркадьевич, подумал Шеврикука, в обморок бы обрушился, если бы ему стали предлагать паспорт с милицейскими печатями…
Велизарий Аркадьевич сидел справа от Шеврикуки, через две лавки, рядом со стариком Иваном Борисовичем. При последнем их разговоре Велизарий Аркадьевич одобрял клубный пиджак Шеврикуки, себя же корил за то, что поддался всеобщему в Останкине в пору Отродьевых угроз отступлению от высокой духовности. Тогда — и это в клубе-то! — Иван Борисович был в ватнике, будто отъезжал на лесоповал, а Велизарий Аркадьевич — в костюме из светло-зеленой мешковины и походных бутсах британского завоевателя. Корил-то корил себя Велизарий Аркадьевич, но и на посиделках он присутствовал в мешковине и бутсах. А Иван Борисович прибыл в Утробу в ватнике, по плечам и рукавам обсыпанном опилками. Предъявлялось кому следует: оба они — нравопослушные, установлениям верны, о каверзах Отродий помнят и поддерживают в себе оборонное состояние духа. Какие уж тут могли быть фотографии и паспортные столы! И наряды не одних лишь Ивана Борисовича с Велизарием Аркадьевичем наверняка благоуспокоили полевого командира Поликратова. Оборонный дух, пусть и при обледеневшей линии огня, в домовых не иссяк. Но Шеврикука понимал, и другие понимали, что волнует домовых нынче Пузырь, а не Отродья Башни. И если волнуют и Отродья, то именно в связи с Пузырем. Не выкинут ли чего? Не примутся ли разбойничать? Не установят ли с Пузырем двухсторонние и доверительные отношения?
«Перейдем к разделу „разное“», — пробасил Артем Лукич.
Шеврикука не возражал бы против оглашения бумаги из Обиталища Чинов. Однако сообщили о всякой чепухе, вроде пропажи в хозяйстве домового Гранд-Сараева рассекателя горячих и холодных струй, а о его, Шеврикуки, походе к Увещевателю даже и не намекнули. Шеврикука вдруг опечалился и обиделся на Артема Лукича.
«Выходит, я ерундовее рассекателя!» — досадовал Шеврикука.
Расходились вялые, говорили, направляясь к дверям, тихо, даже перешептывались, явно в напряжении и тревоге, будто не радости и попечения Пузыря ждали их впереди, а несуразности поколебленных устройств. Но, может, причиной тому были бетоны бомбоубежища, в недрах их не год и не два копились страхи и черные ожидания, они сползали теперь со сводов и обтекали забредшие в Утробу натуры.
«Шеврикука…» — послышалось сзади. Шеврикука обернулся. Нет, его не окликали. О нем говорили. Бритоголовый боевик, уполномоченный Любохват, на толковище не сидевший, что-то быстро и зло высказывал Артему Лукичу. «Нет, нет, — отвечал Артем Лукич. — У Шеврикуки своя голова на плечах…»
Вслушиваться в слова собеседников Шеврикука не стал, продолжил движение к выходу.
— Голова! Голова! — догнал Шеврикуку верткий нынче КолюняУбогий и принялся приплясывать в шаге от него справа. — Голова! Голова! Никакой головы на плечах! На плечах! Набалдашник! Один набалдашник! Шеврикуки один на плечах!
— Утихни! — цыкнул на Колюню Шеврикука.
— Набалдашник! Один набалдашник! — рассмеялся Колюня-Убогий, пустился вприсядку, а потом понесся к дверям.
46
В Землескребе мрачный Шеврикука вызвал Пэрста-Капсулу и указал ему принести палку Петра Арсеньевича.
Пэрст-Капсула молча кивнул, а вручив через полчаса Шеврикуке палку, в мгновение из квартиры Уткиных исчез.
Шеврикука, не думая о том, наблюдают ли сейчас за ним или нет, и если наблюдают, то кто и каким манером, и какие при этом корчат рожи, принялся откручивать набалдашник. Руки у Шеврикуки были сильные, но ни малейших движений набалдашника вызвать они не смогли. Шеврикука брал на кухне тряпки в надежде, что они помогут его пальцам в житейском усердии, но и тряпки удачам Шеврикуки не способствовали. Да и с чего он, Шеврикука, взял, что набалдашник обязан отделиться от палки, трости, посоха Петра Арсеньевича? Выкрики Колюни-Убогого взвинтили Шеврикуку, злые взгляды уполномоченного Любохвата возбудили в нем нетерпение. Но мало ли какой бред мог прийти в голову Колюни Дурнева, Колюни-Убогого, и все ли смысловые совпадения должны были нарушать душевное равновесие Шеврикуки? И уж тем более не имел он права волнением отвечать на взгляды и слова Любохвата, наверняка и произнесенные для того, чтобы Шеврикуку взбудоражить и взъерошить.
Но и при этих охлаждающих рассуждениях Шеврикука не выпускал палку Петра Арсеньевича из рук.
«А не наложил ли Петр Арсеньевич чары на свой тайник? — подумал Шеврикука. — Если он, конечно, что-то укрывал в палке. Если это не одно лишь мое горячечное предположение…»
Сам же он понимал, что здесь — не предположение. Здесь — предчувствие. Или даже — ощущение отосланного ему кем-то предуведомления.
Но как снять чары Петра Арсеньевича, если тот и вправду обвил палку оберегами и воздушными замками? Может быть, Шеврикука и сумел бы снять чары, но на его усилия, исследования и отмену чар ушло бы время. Возможно, и месяцы. А Шеврикука желал вызнать секреты палки сегодня же.
Опять вспомнился небритый мужик, бормотавший с экрана телевизора: «От синего поворота третья клеть… четвертый бирюзовый камень на рукояти чаши…» А в углубления набалдашника палки Петра Арсеньевича были втиснуты капли янтаря.
Шеврикука, призвав себя к спокойствию, решил попробовать открыть тайник янтарными вкраплениями. А вдруг? Скорее всего, янтарины были именно украшениями, и более ничем, но вдруг?.. Он полагал, что уже опомнился, вышел из возбуждения, вызванного криками-приплясами Колюни-Убогого и взглядами Любохвата. Палку можно было бы вернуть в укрытие Пэрста-Капсулы. А уж коли приспичило откручивать набалдашник, то делать это следовало не спеша. Как бы между прочим. Истребив в себе нетерпение. И Шеврикука листал книги, включал телевизор, но нет-нет, а подходил к палке, ощупывал набалдашник, янтарины чуть ли не ласкал пальцами. А иногда нажимал на них. На одну. На другую. На две, на три, на четыре сразу. Советы, инструменты и пальцы взломщика сейфов Шеврикуке вряд ли помогли бы. Коли имелось здесь секретное устройство, оно было особенное и наверняка не поддалось бы руке посторонней или корыстной. Оставалось уповать на случай. На то, что пальцы Шеврикуки нечаянно охватят чудесное сочетание желтых вкраплений, без зла и нежно нажмут на янтарины, и тайник откроется. Всего янтарин было пятнадцать.
Часа полтора Шеврикука обхаживал палку Петра Арсеньевича. Однажды чуть было не сорвался. Пожелал ножницами или мелкой отверткой сейчас же выковырнуть капельки янтаря, вдруг за ними в углублениях искомое и обнаружится. Но опомнился. Тут случай и был подарен ему. Лишь три пальца Шеврикуки ощутили и запомнили, каких янтарин они коснулись в этот раз. Набалдашник, словно ожившие пружины вытолкнули его, подскочил и упал на пол. И был звук, будто лопнула хлопушка. И пошел дым. Но никакие видимые пружины, никакие пиротехнические устройства не открылись. Из узкого углубления в палке торчала маленькая бумажка, свернутая в трубочку. По виду она напоминала послания с приглашением явиться под маньчжурский орех.
Трепета Шеврикуки бумажка не вызвала. Возможно, это была фабричная инструкция с указаниями, что палке при ходьбе противопоказано, а что нет. Но когда Шеврикука раскатал трубочку, первое, что он углядел, было торжественно выведенное слово «Возложение». Под «Возложением» следовали другие, указующие слова: «Грамота Безусловная с единственным направлением и исходом».
Теперь в руках Шеврикуки был лист плотной бумаги с цветными украшениями в углах. Подобные бумаги годы назад выдавали в случаях поощрения. Но на листе, явившемся из палки Петра Арсеньевича, ни о каких доблестных поступках и наградах речь не шла. На Шеврикуку — что вытекало из текста «Грамоты Безусловной» — возлагалось. Титулы — «Возложение», «Грамота» — были подсвечены орнаментом с переплетением листьев, лепестков, стеблей; орнаментом — растительным. Слова же самой грамоты вывели фиолетовыми чернилами, почерку писца порадовались бы учителя правописания. Если бы не вымерли.
«Пользуясь отведенным мне значением, передаю двухстолбовому домовому, прозываемому теперь Шеврикукой, на случай моего безвозвратного исчезновения или воздушного убытия из Останкина, свои привилегии и обязанности. Возложенные некогда на меня, они плавно и скользя перейдут к упомянутому Шеврикуке, и более ни к кому, с предоставлением последнему прав всенепременно пользоваться ими при сословных или исторических необходимостях. Указания о приемах, средствах и линиях возможных действий любезно дадены в тайнопредохранительных приложениях, кои предстоит рассмотреть в п.п. хлюст — 247Ш, 4918УГ, ч. с. 7718Кр…»
И далее следовали буквы, цифры, латинские и арабские, а потом, похоже, иероглифы, но не с тихоокеанских побережий, а, скорее всего, изобретенные в Москве или где-нибудь поблизости в российских недрах, и крючки, напоминающие о знаках рунических писем. Кончалось «Возложение» подписью Петра Арсеньевича и свидетельством несомненно существенно значимого лица: «Доподлинно верно. Сим подтверждаю руку и правомочную волю дом. Петра Арсеньевича (ул. Кондратюка, 2)». И еще виднелась чья-то подпись. Силу «Возложения» укрепляли желтые оттиски литографского камня. Русская печь и ухват должны были убедить Шеврикуку в том, что документ им добыт из набалдашника решительный и серьезный.
«Э нет! — пытался было протестовать Шеврикука. — Мне это ни к чему!»
Однако не кого-нибудь, а его потянуло откручивать набалдашник.
«Вынудили, возбудили, опять возожгли во мне нетерпение!»
Но сам понимал, что лукавит.
Пока он читал «Возложение» Петра Арсеньевича, тяжесть налегала на него, потихоньку, потихоньку, от строки к строке, до самых крайних циферок, иероглифов и крюков, налегала, придавливала его к креслу, к полу, к московским суглинкам. Будто прежде он пребывал в невесомости, парил, а теперь его возвращали к природным земным обстоятельствам с их условными физическими законами. А ноша при этом отпускалась ему, Шеврикуке, беспредельная.
Шеврикука попытался подняться, думал, что не сможет и встать, однако встал, принялся двигать плечами, спиной с намерением сбросить тяжести. Не сбросил.
47
— Спасибо этому мухомору Петру Арсеньевичу за возложение! — пробормотал Шеврикука.
На вид и на ощупь бумага казалась ему вечно нерушимой, ни смять, ни порвать ее наверняка не имелось возможности. Но когда Шеврикука все же рискнул согнуть бумагу и дернуть ее пальцами, она поддалась и позволила отодрать от себя клочок. Сейчас же в Шеврикуке взъярилось остервенение, он стал чуть ли не с рычанием рвать приобретение, кромсать, уродовать, крошить его. Выскочил в коридор, сдунул в мусоропровод обреченное крошево.
«Так-то! — победителем повторял про себя Шеврикука. — Вот так-то! Именно так!»
«Решать буду не по закону, а по усмотрению!» — вспомнились Шеврикуке слова, произносимые — по легенде — Иваном Васильевичем Грозным.
Да! Именно не по закону, а по собственному усмотрению!
Набалдашник был водружен на место, пальцы, запомнившие тайноподобающее расположение избранных янтарин, нажали на них, набалдашник слился с тростью.
Но беспокойство и возбуждение дали Шеврикуке отпуск лишь на полчаса. А через полчаса Шеврикука, желая подавить мерзкий нервический зуд и даже унизить его, чуть ли не со злорадством разрешил себе отнять от палки набалдашник, дабы убедиться: укрытие по-прежнему пустое.
Ан нет! Бумагу опять словно бы выстрелили невидимой пружиной. И это было все то же «Возложение» Петра Арсеньевича, целехонькое, без единой вмятины и прочих пороков, как неразменный рубль.
Значит, бумагу надо было не рвать, а жечь! Жечь, палить, дымом отправить в небо!
Несмотря на установления и походы судебных исполнителей, в презираемых углах останкинских дворов и проездов все еще стояли гаражи, как будто бы давно разобранные. В один из таких гаражей Шеврикука и отправился. Хозяйство было ему знакомое. В железную бочку он плеснул бензин из канистры — на два пальца, спичкой поджег бумагу Петра Арсеньевича, швырнул в бочку. Полыхнуло. Столб огня вырвался из бочки, ударил в потолок гаража. Лишь доможильские инстинкты и неподвластные сиюминутному безрассудству Шеврикуки его же охранительские старания не дали погибнуть трофейному «опель-капитану», усердному — вот уже полсотни лет! — катальщику по Москве. Помешали сожжению гаража, а может быть, и всеобщему останкинскому пожару. Пламень был сбит, дым унесся в продувные щели, от зловредной бумаги не осталось ни золы, ни пепла. Днище бочки было сухим и пустынным.
«Чур меня! Все! — сказал себе Шеврикука. — Более набалдашник от палки отымать не буду!»
Однако не прошло и пятнадцати минут, как набалдашник был отделен от палки, и «Возложение» Петра Арсеньевича снова обнаружилось под ним.
Опять Шеврикуке явились мысли о чарах, заговорах, заклинаниях. Заклинания у домовых в употреблении случались, но к ним издревле относились с осторожностью, а то и с опаской. Да и требовали они от исполнителей тончайших умений и разумно охоронных сил. Он, Шеврикука, заклинаний по возможности избегал. Неужели Петр Арсеньевич все же заклинаниями обволок, обвел пеленой неразрушимости свое «Возложение»? Но ведь на это были нужны энергии основательные, мягко сказать. Откуда им взяться у домового, лишь однажды из вечных сидельцев-резервистов в прихожей облагодетельствованного приглашением в зал посиделок?.. Но мог обратиться к чарам и заговорам Петр Арсеньевич, мохом обросший, из-за своей привязанности к обычаям старины, мог. Вспомнились Шеврикуке листочки с выписками из портфеля Петра Арсеньевича. Там были советы по поводу кости-невидимки, какую следовало добыть, отваривая черную кошку, без единого другого волоса, и выбирая перед зеркалом ее кости. Там были чары на лягушку. Заговор на посажение пчел в улей. Заговор от ужаления козюлькой. Соображения о непоколебимости цветущего кочедыжника перед дурной силой. И прочее. И прочее. И прочее. Несерьезное и отнесенное ходом времени к простодушию незрелых умов. Но, может быть, Петр Арсеньевич полагал, что никакого хода времени не происходит, да и никакого времени вообще нет, а цветущий кочедыжник, если его заговорить, обязательно непоколебим?
Так было или не так, но теперь Шеврикуке предстояло отменить, порушить, развеять оборонительные чары или заговоры Петра Арсеньевича. Попробовать отменить. Но какие чары и какие заговоры? Откуда было знать Шеврикуке. Опять же, как и в поисках благоприятных сочетаний янтарин, оставалось уповать на случай. Авось и произойдет чудесное для Шеврикуки совпадение.
И маялся Шеврикука. И будто находился в сражении неизвестно с чем. Клочья древних простодуший возбуждались его памятью, но не сцеплялись друг с другом, не становились способными услужить ему, Шеврикуке. Как много он забыл! Как много оставлял невостребованным из-за лени и высокомерия благодушных заблуждений! А Петр Арсеньевич наверняка помнил все и позволил себе взять мелкую мелкость, пустяковину, вроде того же цветущего кочедыжника, укрытую от воздействий и опасностей из-за забывчивости тысяч Шеврикук, взять ее и возвести в крепость, какую ни сокрушить, ни обойти. Шеврикука попытался на всякий случай поколебать именно цветущий кочедыжник, но бумага не вздрогнула, кочедыжник был ни при чем. Вновь отчаялся Шеврикука. По всей вероятности, надо было охватывать или накрывать усилиями некое объемно-наполненное явление, в уголке которого могли поместиться мелкости Петра Арсеньевича. Но тут же ему пришло в голову: «А не одолеть ли неразменный рубль?» Шеврикука совсем недавно вспоминал о неразменном рубле. Он был уверен, что Петр Арсеньевич при своих заговорах, если они и вправду были, не имел в виду неразменный рубль. К желаемому результату он, Шеврикука, мог прийти лишь в случае действия или, скажем, противодействия чарам Петра Арсеньевича, — по подобию. Наугад, но — по подобию. И сейчас же предчувствие подсказало ему: к сокрушению неразменного рубля — именно для искомого благоприятного сочетания — надо добавить как раз пустяковины, скажем, заговор на иссушение августовской малины и заговор на таяние ноздреватого льда. Лишь только Шеврикука стал сосредоточиваться, связывать три луча, один в палец толщиной и два — нитяные, его тряхнуло, и кресло с ним отволокло назад, на метр от стола с бумагой Петра Арсеньевича. «Попал! Угадал!» — обрадовался Шеврикука. Но радость его искоркой мелькнула внутри сосредоточений и погасла. Теперь дело пошло всерьез, его могло испепелить, но он не желал отступать и прекращать действия. Все, что он был способен сейчас собрать в себе, в своих силовых полях и линиях, все, что имел право по уложениям и в пределах создавшегося случая привлечь из тайнообтекаемых сфер во вспоможение, он должен был пустить в ход. Ярость, страстно-неразумное возбуждение снова гнали его к сокрушению бумаги из посоха Петра Арсеньевича. Его опять трясло, кресло дергалось под ним, стонало, вот-вот готово было рассыпаться или провалиться вместе с Шеврикукой в подвалы подсобок. За окнами, казалось Шеврикуке, стало черно, ветры гнули верхушки тополей и сгоняли с них галдящих в страхе ворон, молнии вызревали где-то, назначенные поразить ошалевшего наследника. Но выдержал Шеврикука, одолел встречные силовые потоки, разорвал обережную пелену. Бумага Петра Арсеньевича стала корчиться, съежилась, иссушилась до спичечной головки, подскочила и растаяла в воздухе.
Шеврикука взмок, но не мог остановиться, продолжал бормотать лишние теперь и уносящиеся опять в погреба памяти обрывки заклинаний, обессиленный, закрыл глаза, тяжело задремал.
Ночной испуг заставил его выскочить из кресла. «Что? Зачем? Где?» Но вспомнил. Включил свет. На столе бумага Петра Арсеньевича не лежала. Не было ее и в палке Петра Арсеньевича. Нигде ее не было.
«И нигде ее нет. И нигде не будет!» — уверил себя Шеврикука.
Волоча ноги, он прибрел к креслу. Не имел сил успокоиться в малахитовой вазе. В кресле без снов проспал до утра. А утром на столе Уткиных увидел «Возложение» останкинского мухомора.
Одолеть неразменный рубль было можно, а бумагу Петра Арсеньевича нельзя.
«Неизбежность! — прозвучало в Шеврикуке. — Неизбежность!»
Но и теперь Шеврикука не желал смириться с неизбежностью.
Готов был ринуться в квартиру умельца Кашеварова на третьем этаже. Тот в одной из комнат учредил столярную и слесарную мастерские. Палку Петра Арсеньевича с набалдашником и упокоенной под ним бумагой можно было — из вредности и чтобы выказать беспредельное нерасположение к насильственно навязываемому предмету — раскурочить ножами и зубьями самым паскудным и обидным образом.
Но она возобновится, уныло подумал Шеврикука, она еще более обидно и паскудно возобновится.
И истекли из него сейчас всякие силы.
В кресле Уткиных опять забытье пришло к Шеврикуке. Но теперь оно не было провальным. Порой в нем возникали цветовые пятна, поначалу — бледные или тускло-безразличные. Раздавались и звуки, то шуршание, то скрежет. И охватило Шеврикуку томление, схожее с тем, что он испытал в Обиталище Чинов в кабинете Увещевателя. В том томлении была радость и тревога, над печью вблизи Увещевателя высветилось нечто, о назначении чего он догадывался, чрезвычайно важное и для него, и для всех, но оно утекло куда-то, не открыв Шеврикуке своей сути и доступной взгляду наружности. Тогда он ощутил возможность коренной догадки, но глаза и уста ее были сомкнуты. И Шеврикуку оставили в унынии бессилья, немощи и незнания. Сейчас уныние, казалось, отпускало Шеврикуку. Предчувствие видения обнадеживало его. Но видение не вышло достоверно-ясным. Из ползучих туманов, или из паров горячих вод в скалах, или из неспокойных облаков, подталкиваемых сиверкой, проступала чаша, то ли каменная, то ли кованная из неведомых металлов с острова Алатыря… а может, и не чаша… очертания ее все время менялись, то она расширялась и становилась будто ладья, готовая плыть в небесах или в волнах, то бока ее сужались, вздымались ввысь, и их накрывал шлем богатыря… Но и ладья уплывала, и шлем пропадал, а исходил из чаши огонь, и не буйный, грозящий сжечь и испалить, а ровный, несуетный, какому положено греть, светить и оберегать жизнь… Радость и тревога Шеврикуки тоже стали ровными, но утихомиренность эту нарушило новое видение: крошечная женская фигурка в белом, с золотой диадемой, все же различимой, металась под чашей, будто призывая кого-то помочь ей или спасти ее…
Пробуждение Шеврикуки вышло тяжким, словно похмельным.
Он вызвал Пэрста-Капсулу. Сказал мрачно, протягивая ему палку Петра Арсеньевича:
— Где она у тебя лежала, пусть и лежит.
48
Нечто неотгаданно-постороннее бродило в стенах и помещениях доверенных Шеврикуке подъездов.
«А-а-а! Пусть бродит! — решил Шеврикука. — Коли у него есть причина, само объяснится…»
Но несомненно что-то нервически-колющее содержалось в этом бродящем в пределах Шеврикуки посетителе Землескреба.
«Ну что, успокоился наконец, бестолочь останкинская! Ишь, как вчера взъярился!» — отчитывал себя Шеврикука. Вспоминать об усердиях с попытками истребить бумагу и палку Петра Арсеньевича было ему противно.
«Не по закону, а по усмотрению…» Даже если и вышло не по закону, то уж, во всяком случае, и не по его, Шеврикуки, усмотрению…
Ладно. Так было вчера. А там ведь можно будет при благоприятных обстоятельствах и обтекать чужое усмотрение. Ему не привыкать. И впредь он не откажет себе в подобных удовольствиях. Его пастухам об этом ведомо, и они, естественно, за ним присмотрят и на выпасах позволят ему пощипать травку, какая и им принесет пользу. Возможно, вчерашние его взбрыкивания были им приятны и вполне отвечали их установлениям. А взъярился он сам. Если его и подтолкнули к безрассудству, то легонько, локотком, да еще и деликатно укутанным ватным рукавом. Он долго сжимал в себе нетерпение проведать о так называемой генеральной доверенности Петра Арсеньевича, был властен над нетерпением, но все же оно набухло и прорвалось. И он проведал. И убедился. И пастухи его, друг с другом несхожие, проведали, надо полагать, и убедились. Генеральная доверенность есть. То есть не доверенность, а «Возложение». Возложение забот. Ноша свалена на плечи домового-двухстолбового из Землескреба, однако упрямец этот ношу волочить не желает. Не согласен с ней. Даже если она и объявлена неизбежностью, проявлять прыть он не намерен. Но вроде бы и нет пока никакой необходимости проявлять прыть. Нет необходимости забирать из квартиры Радлугина известный портфель, разгадывать смыслы циферок, крюков, рунических клиньев, чтобы ознакомиться с «любезно даденными» указаниями о приемах, способах и направлениях возможных действий. Пусть портфель полеживает за томами Мопассана, а палка Петра Арсеньевича сохраняется в укрытии полуфабриката Пэрста-Капсулы…
Нечто неотгаданно-постороннее бродило в подъездах Шеврикуки странным образом. Будто бы путешествия его были бесцельными. Или оно не имело разума. Однако ни в какие иные подъезды, Шеврикуке неподведомственные, посетитель не перетекал.
Колотье вдруг возбудилось в Шеврикуке.
Зачем возникало в нем видение чаши и страдающей в ее подножиях женщины в белом?
Возникало? Или видение это в нем вызывали?
Нечто прохлаждающееся в его подъездах, определил Шеврикука, не было ни от своих, ни от Отродий, ни от инспекторских сил.
Оно — из Дома Призраков и Привидений, почудилось Шеврикуке.
Но кто и с какой стати или с какой целью мог с лыжной базы таинственно, не объявляя себя, проникнуть в Землескреб?
Шеврикука посчитал должным отправиться на поиски посетителя. Или устроить тому засаду. Он учуял чужака между пятым и шестым этажом. Заблудшее нечто было сине-серым пятном, почти плоским, высотой с газовую плиту. В надвершье пятна иногда случалось свечение. «Прихлопнуть, что ли, его? Или оприходовать в простыню?» — задумался Шеврикука. Но вдруг гулявший был все же от Отродий или из лаборатории Мити Мельникова, и не привели бы насилия над ним к нежелательностям и ущербам в подъездах?
— Ну и в чем дело? — грозно поинтересовался Шеврикука. — Тайное поручение?
— Регистратор, — ответило пятно, и будто задвигались валики механического пианино. — Необходимо зарегистрировать привидение.
— Какой еще регистратор? — возмутился Шеврикука. — Какое еще привидение?
— Проживающее в вашем подъезде.
— В наших подъездах привидения не проживают.
— Неправда! — Свечение пятна усилилось. — В ваших подъездах бродит тень чиновника Фруктова. И она должна быть зарегистрирована.
Дерзость визитера рассердила Шеврикуку.
— Я тебя сейчас так зарегистрирую! — вскричал он.
— Напрасно вы горячитесь, — заявило пятно. — И напрасно вы мне угрожаете. Следует соблюдать правила проживания и учета привидений.
Служебное состояние Шеврикуки вполне позволяло ему выдворить визитера из Землескреба. Что он и намеревался произвести с грохотом и скандально. Но была в заблудшем визитере загадка, волновавшая Шеврикуку, была!
— Вы, стало быть, регистратор? — спросил Шеврикука, утихомиривая себя. — И мандаты есть?
— Будут предъявлены по мере надобности. Но возможно, что и не вам.
— А предъявить тень чиновника Фруктова вы мне сумеете? — спросил Шеврикука.
— Вы ее могли упрятать.
— Обшарьте все мои сусеки, все мои углы и закоулки и сыщите ее.
— Вы ее могли упрятать в себе.
— Все же я вас попрошу из Землескреба, — угрюмо сказал Шеврикука. — Кем бы вы ни были и кого бы ни представляли.
Вежливости или сдержанности своей Шеврикука удивился. Гнать ведь действительно следовало визитера. Но не желал уже Шеврикука гнать. Повод направить в Землескреб регистратора, если разобраться, был. Правда, и сплыл. На время. Тень Фруктова понадобилась Шеврикуке как вспоможение в мелких делах. О дальних последствиях затеи Шеврикука не думал. Теперь подумал. Какие выгоды и какие невыгоды могла приносить тень чиновника Фруктова в предприятиях серьезных, если ее возобновить? Или возобновлять? Нужна ли вообще она Шеврикуке при наличии вблизи него — опять же до поры до времени — расторопного полуфаба (полуфабриката ли?) Пэрста-Капсулы?
— Привидение должно быть зарегистрировано, — опять же механически-шарнирным голосом повторило пятно.
— Не нудите, — поморщился Шеврикука. — Я не лгу. Привидения и вправду нет в Землескребе.
— Но существует возможность его возобновления.
— А что, вы регистрируете и возможности появления привидений? — спросил Шеврикука.
— Это наше дело.
— Ну уж конечно! Ваше! — возмутился Шеврикука. — Как же! А если это фантом Отродий Башни? Или создание секретной лаборатории?
— Здесь иной случай…
— Ну-ну! Попробуйте зарегистрировать Отродий! — не мог удержаться Шеврикука. — Всех до одного! Объявите их привидениями и введите над ними управление! Валяйте!
— При чем тут Отродья? Тень Фруктова заводили вы.
— Ладно. Пойдем на маловероятное допущение, — сказал Шеврикука. — Этого не может быть, но вдруг я и впрямь завел бы какуюлибо тень. Но вы-то при чем? Это было бы мое имущество. Или мой инструмент. Захотел бы, я ее-его зарегистрировал бы. При себе. Не захотел бы — опять же мое дело. Вы-то здесь с какого бока? Кстати, вы лишь учетчик и регистратор или у вас есть и иное назначение в природе?
— Вас это не касается.
— В здешних подъездах меня все касается. И давайте разойдемся, — предложил Шеврикука. — Я вас не трону.
Пятно чуть было не запламенело. Но сразу же и угасло. Возможно, возмутилось. Или рассмеялось. А потом опечалилось.
— Я не могу не выполнить должностную обязанность.
— До чего же вы надоедливое, — проворчал Шеврикука. — Я и так неизвестно почему терплю разговор с вами.
Но сам-то понимал почему. Чувствовал, что перед ним не пятно и не регистратор, и по любознательности своей желал вызнать ответы на загадки. К тому же стоило выяснить, не грозит ли явление визитера какой-либо опасностью ему, Шеврикуке, и жильцам его подъездов. Хотя нынешний собеседник произносил слова голосом подземного объявителя остановок, нечто знакомое Шеврикука ощущал в иных оборотах речи, и в этом смутно знакомом, но не угаданном звучало (или жило) беспокойство. Либо даже тревога и боль. И сам визитер, похоже, мог привнести в Землескреб тревогу и боль.
— Примите вид, более способный выразить вашу сущность, — предложил Шеврикука. — Если желаете, чтобы разговор был продолжен и из него вышел толк.
— Вид у меня надлежащий распоряжениям, — вымолвило пятно.
— Зря упрямитесь, — сказал Шеврикука. — Зря валяете дурака… Или дуру…
Он тотчас и замолчал. Некая догадка проталкивалась к нему. «А почему бы и нет?» — подумал Шеврикука. Он часто имел дело с бабами настырными, упрямыми и авантюрными. Но вроде бы никому из них он не пробалтывался о тени Фруктова и тем более не хвастался своими умениями. Но вдруг тень Фруктова в минуты его, Шеврикуки, легкомыслий и невниманий все же выбиралась из Землескреба и путешествовала на лыжную базу?
— А может, вы сами чья-то тень? — поинтересовался Шеврикука. — А что, если вас потрясти? Вдруг из вас что-нибудь высыплется… Или прольется.
И Шеврикука шагнул к пятну.
Пятно стало нервно подскакивать, свечение, то резкое, то мгновенно стихавшее, будто при переменах напряжения в сети, выражало, видимо, возмущения и испуги визитера.
— Не подходите! — выкрикивало пятно. — Не протягивайте ко мне руки! Если вы дотронетесь до меня, я вас…
Прорвалось! Вопль предупредительный был несомненно женский.
— Я полагаю, вы меня непременно исцарапаете или укусите! — рассмеялся Шеврикука.
Но кто (или чья тень? или чье опережающе приложенное осуществление?) была перед ним? Гликерия? Дуняша-Невзора? Увека Увечная, она же Векка Вечная? Или пышнокосая Стиша из окружения Малохола?
Схваченное руками Шеврикуки, пятно не растаяло, не уплыло туманом, не умялось, а было будто плотью, билось, дергалось, норовя высвободить себя. Вскрикнуло снова, и теперь рассекретила себя Гликерия.
Шеврикука опустил руки.
— Гордыня помешала явиться вам просто так? — спросил он. — Или вы готовитесь к зимнему маскараду в Оранжерее?
Ни звука в ответ.
— А может, вы посчитали выгодным напасть на меня, чтобы к чему-либо вынудить?
Опять тишина.
— Гликерия Андреевна, — сказал Шеврикука, — будьте добры, воплотитесь в саму себя. Позвольте поглядеть, какие на вас теперь наряды.
Наряды оказались вполне подходящими для нынешних деловых передвижений по московским улицам, офисам и магазинам. Узкие, в обтяжку, брюки, фиалковая блузка и бордовый пиджак. С плеча на ремне спускалась кожаная сумка, возможно, с деньгами, косметикой, сигаретами и существенными бумагами. Русые сегодня волосы Гликерии, ничем не украшенные, густо и ровно лились на бордовые плечи. А на среднем пальце ее левой руки имелся перстень с золотой монетой, или оболом, из приобретений Пэрста-Капсулы. Надо полагать, что и вторую вещицу Пэрста-Капсулы — фибулу, или пряжку с лошадиной мордой, Гликерия Андреевна не утратила. И не перстень ли, между прочим, вызывал свечение пятна-регистратора?
— Шутки с тенью Фруктова, — спросил Шеврикука, — повод для вашего появления в Землескребе?
— Отчасти да, — согласилась Гликерия. — Но и зарегистрировать тень мне сегодня нужно.
— Чтобы оправдаться перед кем-то, — предположил Шеврикука. — Или, может быть, необходимо алиби?
— Хотя бы и так, — кивнула Гликерия.
— Но от тени остались лишь обывательские домыслы и ложные видения.
— Важно, чтоб был подписан протокол об отсутствии или присутствии привидения, — сказала Гликерия. — У меня есть бланк, а печать вы поставите, приложив к нему большой палец.
— Послюнявив его? — поинтересовался Шеврикука. — Или окунув в крем для бритья? Или в подсолнечное масло?
— Можете и в касторовое.
— Тогда опущу в гуталин, — решил Шеврикука. — Подавайте бланк.
Гликерия сняла с плеча сумку, произвела замками удивительно музыкальные звуки, протянула Шеврикуке бумагу, расчерченную канцеляристами вдоль и поперек. Пунктами опросного интереса были — «Год явления», «Место явления», «Плотность формы, степени с 3-й по 8-ю», «Размытость формы, степени с 9-й по 17-ю», «Способность к саморазвитию», «Благородность, срединность, низость происхождения (имеющееся подчеркнуть)», «Степень вредности (по шкале Блестючего)», «Особенности вида», «Способность к выделениям» и прочая ерунда. «У нас Радлугин, — подумал Шеврикука, — попытал бы вопросами куда увлекательнее и бдительнее». Но один пункт опросного учета его все же насторожил: «Носит ли очки?»
— Этак неделю просидишь с вашими занудствами, — поморщился Шеврикука.
— Стало быть, есть привидение-то! — стремительно заявила Гликерия и словно обрадовалась горестям Шеврикуки.
— Ну уж нет! — сказал Шеврикука. — Я лишь прочерки поставлю. За неимением объекта.
Прилетевшей ручкой Шеврикука в пустотах бланка учета с удовольствием провел черточки, расписался, не забыв укрепить имя должностью, и, не пожелав отправиться за гуталином или касторовым маслом, послюнявил рекомендованный палец и поставил печать.
— Время укажите, — хмуро сказала Гликерия. — Век, год, месяц, час, минута. И ниже опять печать.
— Пожалуйста! — обрадовался Шеврикука. — Значит, есть нужда и в алиби!
— Это дело второстепенное, — не глядя на Шеврикуку, произнесла Гликерия.
— Я так и понял, — кивнул Шеврикука. — Иное привело вас в Землескреб. Но зачем были нужны эти долговременные подходы и маскарады? Отчего нельзя было выложить свои побуждения сразу? При ваших-то способностях брать быка за рога?
Огонь был в глазах Гликерии, пламя могло опалить Шеврикуку.
— Конечно, вы вольны допускать сейчас насмешки и издевки, — сказала она. — Вы сейчас при силе.
— При какой силе? — удивился Шеврикука.
— При доверенности.
— При какой доверенности?
— При генеральной.
— Вот тебе раз… — пробормотал Шеврикука. И слова более произнести не смог. — Надо же… — сказал он наконец. — Неужели вы укротили гордыню и явились сюда из-за нелепых слухов? Неужели так? Вы меня огорчили, Гликерия Андреевна…
Гликерия промолчала.
— От кого и что вы узнали про доверенность? — спросил Шеврикука. — И что это за сила, которую она якобы дает?
— О доверенности известно многим, — выговорила Гликерия, опять же не глядя в глаза Шеврикуке. И сразу же уточнила: — Уже многим…
— Это как раз объяснимо, — сказал Шеврикука. — Слухами выстрелить нетрудно, и даже можно предположить — с какими целями. Но вот что за силы-то? Что вы о них слышали?
— Шеврикука, это лишнее…
— Я не фальшивлю, поверьте мне. Какие такие силы могли быть у мухомора Петра Арсеньевича и отчего они не спасли его? Именно не спасли… Да и не доверенность это вовсе, а…
— А… — Гликерия напряглась, будто бы прыгнуть желала к Шеврикуке с намерением вытрясти из него секреты. — А что?!
— Не имеет значения, — сухо сказал Шеврикука. — Но не доверенность. Был бы очень признателен, если бы вы посвятили меня в суть того, что известно многим.
— Слышала, — Гликерия говорила уже холодно и высокомерно, — что вы получили особенное наследство. Более ничего не ведаю. Как не ведаете, если верить вам, и вы…
— Я вас не обманываю, — подтвердил Шеврикука. — Но я из-за дурноты своей натуры, заранее прошу извинений, могу подумать, что именно слухи подтолкнули вас к походу в Землескреб, либо — на разведку, а либо и с надеждами, что некие силы, якобы доставшиеся мне, окажутся нелишними в ваших предприятиях.
— Вы искажаете мои слова, — гордо заявила Гликерия. — И опять позволяете себе насмешки и издевки. Никакого интереса к вашим силам у меня нет.
— В это, раз вы здесь, — сказал Шеврикука, — я не могу поверить.
— Хорошо, — не без колебаний согласилась Гликерия. — Интересы есть. Думайте обо мне что хотите.
— Вы говорите так, будто сейчас происходит наше с вами знакомство, — заметил Шеврикука. — Или передо мной сегодня совершенно новая Гликерия Андреевна?
— Я всегда прежняя и всегда новая. Но что вы знаете и обо мне прежней-то?
— Ваши слова резонны. Но откройте мне ваши интересы. А я смогу предположить, на какие силы вы желаете опереться и, стало быть, в чем суть, пусть и частичная суть, бумаг Петра Арсеньевича.
— Мы с вами сейчас не на равных, — опечаленно произнесла Гликерия. — И вы снова насмешничаете. Жаль. Это досадно.
— Гликерия Андреевна, но ведь я могу ощущать нынче и раздражения. Или скажем мягче — недоумения. Вы получили бинокль?
— Получила, — сказала Гликерия.
— Значит, Дуняшины свидания со мной не секрет. И Дуняша, надо полагать, выволочек от вас не претерпела. Неделями назад мысль об обращении ко мне с просьбой о чем-либо была для вас отвратительна. И я могу вас понять. И Дуняша действовала как бы против вашей воли, хотя и служила вашим необходимостям. И это я тоже могу понять. Но сегодняшний ваш визит, да еще с переодеваниями, да еще и сразу же после того, как я нечто открыл, а вы будто за углом стояли, и вызвал мои… недоумения. Я нервен сейчас, и мои слова вам придется вытерпеть.
— Что-то я вытерплю, — сказала Гликерия. — Но не все. А за углом я не стояла.
— И на том спасибо. Но кто-то, выходит, стоял. И этот кто-то мог бы вас известить, что как только я нечто открыл или отрыл, так тотчас же и зарыл. И при мне ничего нет.
— Я ли вас не знаю, — грустно улыбнулась Гликерия. — Вчера вы зарыли, а завтра отроете.
— Вы меня желаете раззадорить. Или даже разъярить… — тихо произнес Шеврикука. — Я нервен сейчас, но благоразумен.
— Я вовсе не хочу разъярять вас. Какая мне от этого выгода? — Гликерия снова улыбнулась, но теперь в ее улыбке было лукавство, а пожалуй, и кураж. — Я хочу разбудить в вас игрока, каким вы были в удачливые дни.
— Ага. Игрока. Понятно. Но игра-то идет или будет идти ваша. А ято в ней при чем? Или при ком?
— У вас пойдет своя игра! — Гликерия будто рассердилась.
— Ваш интерес не с Пузырем связан? — спросил Шеврикука.
— Не с Пузырем! — отрезала Гликерия.
— Но паспорт-то вы наверняка выправили в связи с Пузырем, — предположил Шеврикука.
— Паспорт? — смутилась Гликерия. — Что за паспорт?..
— Обыкновенный. Правда, старого образца. Без двуглавого. Еще предстоит менять. Опять будут затруднения…
— Паспорт вас пускай не заботит… Это так, забава…
— Он меня и не заботит, — согласился Шеврикука. — Меня занимает одно. Отчего местом прописки вы назначили себе Останкино, а не Покровку, как того требовали бы обстоятельства вашей жизни? Впрочем, это домашнее и мелочное любопытство. И ответ ваш не нужен. Я просто, опять же по дурноте и мелочности натуры, подумал: а как же Пузырь, списки и прочее и прочее? На Покровке нет Пузыря…
— Шеврикука, — Гликерия выглядела расстроенной, — вы вольны сегодня прикидываться дурным и мелочным. Да, отчасти добытый паспорт связан с Пузырем. Но отчасти. Да, вышла для меня и забава. Вы ведь небось и сами выправили себе паспорт?






