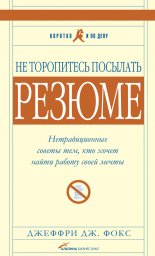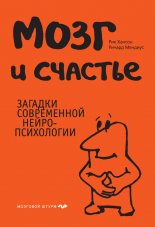История ислама: Исламская цивилизация от рождения до наших дней Ходжсон Маршалл
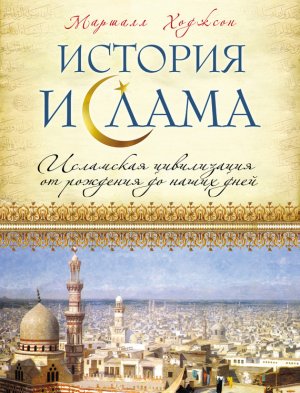
Саманиды на востоке, сменившие Тахиридов, упрочили автономию задолго до падения Халифата. Они сохраняли в Бухаре на всем протяжении X в. эффективную бюрократическую систему правления бассейном Амударьи и Хорасаном. Саманиды были верны халифам, пока эта преданность имела хоть какой-то смысл, и крах независимой власти в Багдаде почти никак не повлиял на их положение и деятельность.
Тем не менее после смерти Насра II (913–942 гг.) влияние Саманидов ослабело. Им пришлось уступить западноиранские земли Буидам. Более того, они не могли найти прочную опору для центральной бюрократии внутри государства. Саманиды столкнулись с теми же проблемами, которые стояли перед Сасанидами и Аббасидами, но в меньших масштабах и не имея в своем распоряжении Савада (как в Ираке), несмотря на высокоразвитые ирригационные системы, существовавшие в некоторых областях. В попытке сохранить независимость центральной власти Саманиды, как в свое время Аббасиды, обратились к отрядам тюрков-рабов. Но те сами враждовали с дехканами и сумели разрушить принцип, на который опиралось государство и который подразумевал знак равенства между защитой государства и защитой иранского влияния (которое представляли дехканы), ислама и исламских городов.
Часть тюркских солдат Саманидов предпочли новую династию исламизированных тюрков, которая пришла к власти на востоке. В X в. в горах, в верховьях Амударьи и Сырдарьи, на окраине бывшего Халифата, в племени карлуков возникла новая династия, которая контролировала города в этой местности и в итоге приняла ислам, но использовала племенную структуру власти, имевшую мало общего с халифатской администрацией. Династия опиралась непосредственно на военную мощь кочевников и даже не пыталась централизовать общество; разные члены правящей семьи, Караханиды (или Илекханы), пользовались на своих участках относительной автономией от главного правителя. В более поздний период Саманидов их собственные тюркские наместники в приграничных районах вынуждены были все чаще наведываться в столицу, чтобы помочь Саманидам в их распрях со знатью. В конце X в. тюрки-карлуки, объединившись с тюрками Саманидов, были готовы взять приступом владения своих хозяев при многочисленной поддержке сочувствующего населения. В 999 г. они заняли большую часть территории Саманидов в бассейне Амударьи и Сырдарьи (кроме Хорезма), после чего самый влиятельный наместник Саманидов, почти независимо правивший в Газни, захватил Хорасан. Карлуки никогда не имели роскошного двора, при котором жили бы исламские литераторы, но они почти 200 лет самостоятельно управляли областью между двумя реками с разными городами-центрами, пока Сельджуки на какое-то время не подмяли некоторых из них под себя.
Между тем конкуренты Саманидов на западе Ирана, Буиды (Бувейхиды), с их наемниками-дай-ламитами не столь последовательно стремились к сохранению административной модели Халифата, поскольку были гораздо более зависимы от военных ресурсов. К 945 г. трое братьев-Буидов с их дворами в Ширазе, Исфахане и Багдаде разделили между собой самые важные территории, остававшиеся до последнего под властью халифов. Они оставили халифа в Багдаде в качестве марионетки, не имевшей власти за пределами собственного дворца; модель управления при помощи визирей осталась почти неизменной, но теперь они подчинялись Буидам как военачальникам и действовали в своих провинциях самостоятельно. Братья эффективно сотрудничали на протяжении всей жизни — с 932 г., когда захватили власть, по 977 г., когда умер последний из них. Затем Адуд-ад-Дав-ля, сильнейший правитель следующего поколения, хранил порядок в семье вплоть до 983 г. Буиды некоторое время контролировали побережье Омана, откуда могли угрожать торговле в Персидском заливе, и даже расширили границы исламского мира на юго-востоке Ирана. В этот период после разрухи последних лет Халифата были восстановлены оросительные системы, и страна процветала.
Буиды и их визири переняли у халифов и миссию покровителей культуры, хотя теперь эту роль делили между собой не только три столицы Буидов, но и другие крупные центры исламского мира. Буиды, будучи шиитами, поощряли публичные празднества и покровительствовали шиитским теологам. Именно при них шииты-двунадесятники сформировали свой твердый интеллектуальный фундамент; они открыли специальную шиитскую школу — по-видимому, первую независимую мусульманскую школу в Багдаде. Их позиция особенно благоприятствовала двунадесятникам, но они поощряли развитие любых направлений шиизма. Буиды отделили организацию Талибидов (включая Алидов) от Аббасидов с целью уладить споры по поводу собственности и генеалогии и впервые официально признали их особый статус. Их политика поощряла шиитское учение и позволяла халифам, которым выделялось внушительное содержание, стимулировать суннитское течение (что двор халифов и стал делать в догматически узком ключе). Но наряду с шиизмом Буиды покровительствовали развитию мысли в целом: калама в мутазилитской форме и фальсафы; однако они не жаловали хадиситов — гонителей шиизма.
Ворота аль-Фотух в фатимидской городской стене Каира, Египет. Гравюра XIX в.
Тем не менее Буиды не придерживались бюрократической традиции в полной мере, даже в ее децентрализованной форме. Еще первые халифы в минуты легкомысленного настроения иногда дарили государственные земли частным лицам, а в минуты острой нехватки денежных средств более поздние халифы дарили военным наделы вместо жалованья. Земельные наделы известны как икта. Буиды разработали довольно свободную схему: подобно Хамданидам, их современникам из северных районов Плодородного полумесяца, они раздавали целые районы, не обязывая их обладателей платить даже «мусульманскую» десятую часть караджа, обязательную во времена Аббасидов. Для казны эти земли были безвозвратно утеряны. (Разумеется, выделенные территории не были феодальными поместьями; они считались способом выплаты жалованья, и если район оказывался недостаточно прибыльным, его меняли на другой. В принципе, проживавшее там население находилось исключительно в финансовой зависимости от нового господина.) Такая практика наносила огромный урон финансовой бюрократической системе и самим пожалованным землям, из которых хозяева выжимали последние соки, прежде чем их обменять. Однако рядовые солдаты по-прежнему получали жалованье из государственной казны, где на это еще оставались средства.
Одновременно с этой пагубной экономической политикой в конце X в. многие торговцы, курсировавшие между Индийским океаном и Средиземным морем, изменили маршрут — вместо Персидского залива и Плодородного полумесяца стали ездить через Красное море и Египет. Причиной тому были длительная политическая и военная смута в странах Плодородного полумесяца, особенно в Джазире при Хамданидах и затем при еще менее значимых династиях, и целенаправленная политика Фатимидов в Египте. После 983 г. территории Буидов были разделены между четырьмя или пятью государствами, часто воевавшими друг с другом. В то же время в Дайламских и Курдских горах и в Джазире появилось несколько мелких династий из племен горцев или бедуинов, и некоторые из них обрели на тот момент довольно большое влияние. Между тем сами Буиды подобно Саманидам все сильнее зависели от тюрков-наемников. Буидское государство пережило саманидское на полвека; но оба они положили начало тюркскому военному господству в центральных областях исламского мира. Их контроль над иракскими аджамитами ограничивала крепнущая власть бывших саманидских правителей Газни, усилившихся после захвата Хорасана. К 1055 г. остатки династии Буидов были уничтожены сельджуками.
Век шиизма
Эпоху господства Фатимидов и Буидов в центральных областях исламского мира называют «шиитским веком», поскольку она характеризовалась расцветом этого направления ислама, выдающиеся представители которого проявили себя в разных сферах деятельности. Однако это не было временем доминирования шиизма в политике, общественной или интеллектуальной жизни. И все же это название указывает на яркий феномен — особенно поразительный из-за контраста с пришедшей ему на смену эпохой, когда о шиитах почти забыли.
В истории шиизма это было время создания богатой религиозной литературы, легшей в основу всей последующей традиции. В период Малой гайбы (873–940 гг., когда Сокрытого имама все еще представляли вакили в его общине) отчетливую форму секты приняло не только учение двунадесятников, но и исмаилитское ответвление шиитов-джафаритов (в то время как зейдиты усовершенствовали свою сектантскую модель, основав удельные государства). Между концом Малой гайоы и оккупацией сельджуками Багдада (940–1055 гг.) появляются великие имена, как среди двунадесятников, так и исмаилитов. Из четырех канонических книг хадисов двунадесятников, к примеру, принадлежащая перу аль-Кулини (ум. в 941 г.), относится к периоду Малой гайбы, а остальные три, написанные авторами Бабавайх ша-Шайх ас-Садук аль-Кумми (ум. 991 г.) и Шайх ат-Тайфах аль-Туси (ум. 1067 г.), относятся к «шиитскому веку». Тогда же творил и поэт аш-Шариф ар-Ради (ум. 1016 г.), который собрал и переработал стихи и проповеди, приписываемые Али, в проникнутом любовью к богу сборнике «Нахдж аль-Балага». Его современник, Хамид-ад-дин аль-Кирмани, верховный дай при аль-Хакиме, был величайшим из исмаилитских философов.
Этот период имеет смысл выделить в общей истории ислама как эпоху популярности шиитов.
Подавляющее большинство ученых и литераторов даже в сферах, не имевших явно религиозной направленности, были шиитами. Но это не было связано с политикой. Из лояльных к шиизму династий, правивших тогда, только Фатимиды и Зейдиты были шиитскими. И хотя исмаилитская мысль действительно обязана своим расцветом покровительству Фатимидов, патронаж Буидов или Хамданидов играл второстепенную роль в стимулировании мыслительной деятельности шиитов-двунадесятников. Выдающаяся интеллектуальная деятельность шиитов того времени, возможно, объясняется достижениями в предыдущий период. Ирак все еще пользовался влиянием первое время после развала Халифата, и многие иракские семьи унаследовали шиизм Куфы. Вероятно, это относится прежде всего к знати, унаследовавшей симпатии неарабских мавали Куфы, которые были шиитами, тогда как люди, принявшие ислам позднее, придерживались доминирующей линии суннизма. Как мы уже отмечали, квартал Карх в Багдаде некогда был центром торговли и шиизма. В момент, когда вся культура региона, не имея других направлений развития, существовала в рамках исламского контекста, но еще до того как исламская культура стала распространяться по многочисленным центрам, ее носителем было старое торговое сословие Ирака. А если учесть, что они были шиитами, то неудивительно, что именно шииты выделялись в культурном ландшафте, даже не пользуясь политическим режимом благоприятствования.
Но поскольку высоты популярности, которых достигли шииты и которые позволяют нам говорить о «шиитском веке», были обусловлены совершенно различными причинами, не стоит удивляться, что эта известность довольно быстро сошла на нет. Дело не только в том, что природа политических и интеллектуальных успехов была абсолютно разной. Сам факт того, что в руки шиитов попали бразды правления государством, был во многом случаен. Хамданиды пришли к власти, когда арабы в Сирийской пустыне приняли шиизм: хариджизм утратил для бедуинов привлекательность, потому что они ощущали потребность стать в оппозицию к правящей оседлой партии. Косвенно исмаилитское движение при Фатимидах имело ту же природу, но к власти их привели не карматы из Сирийской пустыни, а берберы Магриба. Если отследить происхождение шиизма Буидов, мы вернемся к тому времени, когда шииты обратили в свою веру пограничные прикаспийские территории. Если и есть между этими случаями что-то общее, это тенденция предшествующего столетия, по которой те, кто не попадал в основные властные структуры, становились шиитами, а не хариджитами. Теперь же, с крахом центральной власти, именно эти аутсайдеры воспользовались моментом. Но с переходом власти к шиитам оппозиционерам уже не было резона придерживаться этого направления ислама. Новые аутсайдеры выбирали другие секты. Как интеллектуальные, так и политические успехи шиитов почти не опирались на народ, и, поскольку им не удалось обратить массы в свою веру даже на пике расцвета, их господство оказалось кратковременным.
Тем не менее связь многих научных изысканий и литературы с шиизмом помогла шиитскому движению, или (в более широком смысле) алидам, обеспечить то огромное влияние, которое они получили в последующие века в суннитских кругах. Химия или алхимия ислама базировалась на собрании сочинений Джабира, основная часть которого приписывается этому периоду и пропитана исмаилизмом. Действительно, мусульманская интерпретация общей истории науки отражает представление о том, что древние пророки передавали тайные знания, которые по духу особенно подходили шиитам. Но даже при всей набожности автора шиитское влияние просматривается не только в общем превознесении Али, но и в повсеместном цитировании составленного аш-Шарифом ар-Ради сборника «Нахдж аль-Балага», почти второго по важности труда после Корана и хадисов даже в глазах многих суннитов. Когда век шиитской славы закончился, их труды стали частью бессмертного наследия.
На данном этапе можно задать себе вопрос, почему шииты в отличие от других движений того времени — к примеру, ханбалитов или каррамитов — не смогли полностью влиться в суннитский ислам. Ведь преданность Али как главный источник религиозных чувств помогла бы им ассимилироваться. Надо признать, что в отличие от других течений (например мутазилитов, всегда остававшихся преимущественно школой калама, приверженцы которой могли занимать различные позиции в отношении фикха и т. п.), ханбалиты и каррамиты подобно зейдитам и двунадесятникам сформировали многосторонние религиозные движения, потенциально самодостаточные: они практиковали собственные формы поклонения, свой фикх и свою точку зрения на диспуты калама. И все-таки они в итоге не отделились от сообщества в целом, как бы активно ни соперничали друг с другом за место в сердцах верующих. Как минимум одного пункта уже достаточно, чтобы компромисс казался невозможным. Те шииты, которые настаивали на преданности конкретному имаму, а не сообществу в целом, создавали независимые секты, даже на уровне народных масс. Полностью сохраняя религиозные позиции секты, они ревностно отгораживали себя от других, даже когда те, по сути, ничем от них не отличались. (Так, в этот период двунадесятники приняли мутазилитскую теологическую доктрину, но отказывались признавать какую бы то ни было связь с мутазилитскими теологами.) Только хариджитов (ибадитов) и шиитов-сектантов (зейдитов, исмаилитов, двунадесятников) необходимо отделять от суннизма в том смысле, что, если попробовать полностью соблюдать каноны и тех и других, получится конфликт веры.
Гробница Зейнаб в мавзолее в Каире. Современное фото
Таким образом, разница во взглядах мусульман достигла уровня непримиримости не на уровне метафизической доктрины или даже юридических норм, а в плане историческом и политическом. Данный факт соответствует содержащемуся в Коране постулату об исторической ответственности сообщества. Считается, что уже во времена Буидов предпринимались попытки признать двунадесятников в Багдаде как джафаритов — школу фикха, развивающуюся параллельно с другими признанными школами. Но такие попытки были обречены: значительные различия между шиитами и суннитами заключались не в фикхе. Скорее, шиизм, какое бы влияние ни оказывали отдельные шиитские мыслители или доктрины на ислам в целом, оставался последовательным блюстителем латентной революционной задачи ислама. Оппозиционный подтекст шиизма, особенно в руках богатого купеческого сословия, вылился в субъективную установку или надежду на чудесное светлое будущее (точно так же как оппозиционный подтекст суннизма сильно сузился в руках правящего класса). По всем этим причинам шиизм оставался вечным источником хилиастических надежд, роковым образом проявившихся в более поздние периоды.
Газневиды: государство тюркской династии
Еще более удачную политическую структуру, чем у Саманидов, удалось создать в Афганских горах на дальней восточной окраине иранского нагорья. Горы эти исламизировались постепенно и стали границей влияния Саманидов в Хорасане. Гарнизон тюркских наемников, правивший в Газни в конце X в. при Себуктегине (976–997 гг.), с ослаблением династии Саманидов получил независимость. Себуктегин контролировал Хорасан на западе как номинальный правитель, также он завоевал и удерживал под своим контролем земли на пути в Индию на востоке. Его сын Махмуд (998–1030 гг.) после свержения Саманидов (999 г.) разделил их территории с тюрками-карлуками и расширил свою империю, включив в нее Западный Иран после изгнания Буидов из Рея и преследования тамошних шиитов. Он, как мог, старался ограничить экспансию карлуков в долине
Амударьи и разместил войска в Хорезме, к северо-западу от них. Махмуд разбогател после нескольких крупных завоевательных походов, во время которых уничтожал произведения искусства (как предметы идолопоклонничества) и разорил подчистую всю Северо-Западную Индию. Как правило, его походы носили транзитный характер, однако в Пенджабе он установил постоянный контроль.
Таким образом, Махмуд выстроил империю хоть и обширную, но шаткую. Его силы в основном уходили на то, чтобы компенсировать эту шаткость повышением собственной популярности. И хотя богатство и славу он снискал во время индийских походов, превративших его в легендарного гази, воюющего с неверными, именно господство в Иране обеспечило ему наивысший авторитет: ожиданиям международного мусульманского сообщества можно было соответствовать, лишь обладая властью на земле «старого ислама» и особенно покровительствуя ученым и поэтам, посвящавшим свои творения правителю. Махмуд осознавал, что является выскочкой (и сыном раба), и очень хотел получить почетный титул от халифа (в обход своих врагов Буидов), которого надеялся подкупить награбленным в Индии добром. Именно благодаря его успеху государство Газневидов, средоточие власти и роскоши, стало и культурным центром; в частности, Газни стал при Махмуде (отчасти путем принудительного переезда писателей) центром возрождения иранских традиций и чествования славных Сасанидов. Ко двору Махмуда Фирдоуси принес свою «Шахнамэ» — сказание о древних царях Ирана. Несмотря на возражения ученых, предпочитавших писать на арабском (таких, как аль-Би-руни), основным языком стал персидский (при этом сами правители пользовались тюркским). Именно вследствие традиции Газневидов позже персидский почти затмил арабский в Индии, кроме сферы религиозных исследований.
Здание империи, возведенное Махмудом, было во многом результатом случайной комбинации его личного военного таланта и нестабильной политической ситуации в Иране. Очевидно, что он стремился установить свою власть везде, где только мог. Его методы управления зачастую были жесткими, налоги — разорительными, хотя он в целом продолжал, как умел, традиции Саманидов. Возможно, он считал организацию общества на основе религиозных общин более важным принципом, чем справедливую администрацию: Махмуд сурово карал тех, кого окружавшие его и помешанные на хадисах сунниты считали еретиками, особенно шиитов и каррамитов, пользовавшихся расположением его отца Себуктегина. (С другой стороны, он не отличался разборчивостью в отношении религии: в Индии он прибег к помощи войска необращенных индусов и даже военачальника-индуса в борьбе против мусульман, которые не желали ему подчиниться.)
Уже во время правления Махмуда стало трудно контролировать кочующих тюрков-сельджуков в Хорасане. Сын Махмуда Масуд (1030–1041 гг.) окончательно потерял эту область. Знать в городах Хорасана, и без того недовольная непомерными налогами, не могла спокойно наблюдать за грабителями-кочевниками, наносившими урон их пахотным землям. Она перестала подчиняться Газни и договорилась с предводителями сельджуков. После долгой кровопролитной битвы при Данданкане (1040 г.) Масуд покинул Хорасан и скрылся в Индии, по сути, признав крах империи Махмуда.
Его преемники отказались от всех провинций к западу от Афганских гор; но при Ибрагиме (1059–1099 гг.) положение дел несколько улучшилось, и даже была найдена жизнеспособная политическая идея, призванная скрепить воедино то, что осталось от Газни. После потери Хорасана государство Газневидов опиралось на поддержку горцев-мусуль-ман в качестве военной силы и жителей индийского Пенджаба как богатых налогоплательщиков. К середине XII века власть Газневидов на нагорье была низвергнута тюрками-гуззами и иранскими суридами из Гура, отдаленного горного района. Столицу пришлось перенести в Аахор, центр сбора налогов в Пенджабе, где большинство населения составляли индусы. Но гуриды в 1173 г. взяли Газни, а в 1187 г. — Аахор, повторив, таким образом, путь Газневидов.
Движущей силой государства позднего периода Газневидов и их наследников гуридов была, конечно же, идея о том, что постоянные завоевательные походы в Индию и даже власть над индийскими провинциями — это и есть джихад, священная война с неверными-индусами; а мусульманские воины — это гази, борцы за веру. Это помогало по мере надобности набирать добровольцев с отдаленных мусульманских территорий. В то время как Фатимиды построили новое государство, пытаясь восстановить прежнее единство исламского мира, Газневиды стремились расширить его границы. После того, как большая часть Индии попала под власть мусульман, повторить такое было уже невозможно[187].
Сельджуки: тюркская империя и мусульманское единство
Довольно успешную попытку восстановить единство мусульман предприняли султаны Сельджукиды: идеал единого исламского государства все еще влиял на умы жителей земель вокруг Багдада, где пришли к власти сельджуки. Однако главным результатом их трудов стало возникновение основных черт общественного строя мусульман независимо от их национальности, пришедшего на смену мусульманскому единству.
Махмуд Газневи принимает дары. Средневековая персидская миниатюра
После свержения власти Саманидов в Хорасане (999 г.) Газневиды с их тюркскими солдатами-раба-ми оказались не в состоянии полностью восстановить их империю даже с помощью награбленных в Индии богатств. Тюрки, с которыми они схлестнулись, принадлежали к непокорной группе кочующих племен под общим названием огузы, одно время применявшимся в отношении тюркского населения к северу от Аральского моря, а затем (когда некоторые кланы из этой области стали контролировать более южные районы) — тюрков-скотоводов в бассейне Амударьи и Сырдарьи. Группировку, которая пересекла южный берег Амударьи, можно назвать общим термином «сельджуки», по имени их предприимчивых вождей. Они желали воспользоваться в своих интересах землями, расположенными по соседству с территорией своих кочевий, и лишь временно мирились с подчиненным положением. С 1037 г. Сельджуки, особенно Тогрул-бек и его брат Чагри-бек, завладели главными городами Хорасана, объявив себя правителями и, следовательно, законными получателями налогов. Одержав победу над Масудом Газневи (1040 г.), они были приняты в Хорасане как законные правители. Им оставалось лишь постараться править лучше, чем их предшественники.
Сельджуки совсем незадолго до этих событий пришли в Хорасан из сухих северных степей, где огромные территории не обрабатывались, а города нуждались в продуктах земледелия, где кочевникам не так досаждали ограничения, налагаемые оседлой аграрной цивилизацией. Но многие из сельджукских банд уже служили тюркским правителям за берегами Амударьи, в частности, карлукским эмирам Караханидам, и в отличие от некоторых тюркских племен, не подчинявшихся напрямую мусульманским государствам, сельджуки приняли ислам. Они пришли к власти как сунниты и выказывали почтение всем суфийским пирам (наставникам. — Прим. перев.) везде, куда приходили. Предводители сельджуков сочетали в себе независимый дух и умение договариваться с городским населением. В течение нескольких лет, создав из кочевников регулярную армию, они расширили границы своего влияния за счет многих провинций Ирана; наместниками в этих провинциях стали члены семьи Сельджуков.
Тогрул-бек, признанный верховным сельджукским правителем, занял основную территорию Западного Ирана и пришел к соглашению с халифом аль-Каимом (1031–1075 гг.), при помощи которого он как суннит сместил Буидов в Багдаде (1055 г.). Почти сразу же к нему перешла остальная часть владений Буидов. Визирем он назначил образованного суннита аль-Кундури, в прошлом слугу халифа. Главарям сельджукских банд была оказана беспрецедентная честь: их назначили наместниками халифа во всех регионах исламского мира. Так халифат утвердился как источник высочайшей власти, а военная мощь была признана сразу же и, смеем надеяться, была втиснута в рамки, которые должны были сдерживать ее необузданный нрав. Действительно, сельджуки чтили свои особые отношения с халифом и суннитский истэблишмент. Вскоре у аль-Каима появился повод усомниться в том, велика ли его выгода от смены хозяев, поскольку аль-Кундури лично следил за повиновением халифа новым военачальникам. Но договоренность уже задала политический тон во всей новой империи. В принципе, новое государство олицетворяло собой стремление мусульман к политическому единству в центральных областях исламского мира, и теперь задача становилась выполнимой благодаря военной мощи кочевников.
Как и в случае с карлуками в бассейне Амударьи, преимущество сельджуков перед государствами, изначально опиравшимися на отряды наемников, состояло в том, что их тюркская армия жила своей обычной жизнью, и в ней формировалась особая сплоченность кочевников, живущих за счет разведения овец. Таких солдат не надо было призывать в армию и муштровать с нуля. Но был у них и недостаток: своенравие. Когда глава скотоводческой общины стал верховным правителем и получателем налогов с аграрных земель, кочевники начали гонять свои стада повсюду, где было, на их взгляд, больше корма для скота. Их предводители и не думали их останавливать, хотя могли бы по меньшей мере указать им направление.
Крупные группы скотоводов передвигались на запад и на северо-запад из Хорасана (и долины Амударьи). Они предпочитали относительно хорошо орошаемые горные районы к югу от Кавказа и занимали любые «плохо лежавшие» местности; иногда они даже выселяли земледельцев, если те пытались препятствовать. Особенно часто выселяли тех, кто возделывал земли на окраинах. Тогрул-бек был вынужден следить за ними, коль скоро хотел сохранить лояльность жителей тех регионов. Он попытался предотвратить дальнейшее разрушение аграрной экономики (от которой получал налоги) и убедить скотоводов (хотя вряд ли сами тюрки были поголовно мусульманами), что следует нападать на немусульманские народы Кавказского региона вместо мусульманских, которые с готовностью подчинились новой власти сразу после краха предыдущей. На Армянском нагорье они начали просачиваться сквозь слабо охраняемую границу Византии в сторону Анатолии. После военного столкновения, подтвердившего неспособность византийского правительства справляться с новой волной набегов, движение только усилилось. Когда сельджуки (при Альп-Арслане, преемнике Тогрул-бека) решили оккупировать Сирию, они обнаружили, что с правого фланга им угрожает Византия, и решили испытать ее мощь. В 1071 г. в Малазгирте, к северу от озера Ван, византийская армия потерпела поражение, и граница была широко открыта. Основная часть сельджуков проследовала дальше, чтобы занять мусульманскую Сирию, свергнув Фатимидов и собирая подати вместо них; между тем тюркские банды с удовольствием расположились в беззащитной Анатолии, выискивая лучшие пастбища и подавляя враждебность населения с помощью оружия. В нескольких областях сельскому хозяйству нанесен был серьезный ущерб; крестьяне стали уходить в города, обрабатывая только поля вокруг городских стен или пытаясь приобщиться к скудеющим доходам горожан. Сельджукский главнокомандующий назначил своего двоюродного брата представлять формальную мусульманскую власть, но больше ничего сделать не мог; усвоенные им исламские административные модели не работали на чуждой территории.
Преемником аль-Кундури на посту визиря сельджуков и правителем их империи при наследниках Тогрул-бека Альп-Арслане (1063–1072 гг.) и Мелик-шахе (1072–1092 гг.) был великий Низам-аль-Мульк. Он был персом и ревностным суннитом, получившим опыт и знания при Газневидах в администрации Хорасана, где бюрократическое наследие Халифата, Сасанидов и Саманидов сохранилось лучше, чем на территориях к западу от него. Он привнес в свою администрацию дух, которым его тюркские хозяева могли только восхищаться, но не способны были полностью понять: желание восстановить по всей империи древние иранские политические институты так, как он их себе представлял, с их стабильностью и законами аграрного общества, посредством мощи этих дремучих, но всегда находящихся под рукой кочевников. Поскольку на роль администраторов в силу образованности годились только персы, разделявшие в той или иной степени его идеалы, а конкурентов среди тюрков не наблюдалось, последним пришлось дать Низам-аль-Мульку некоторую свободу, понимали они это или нет. Он предпринял несколько попыток социально-политической реорганизации, одни из них окончились провалом, другие же привели к совершенно неожиданным результатам.
Альп-Арслан попирает плененного византийского императора Романа IV Диогена. Средневековая западноевропейская миниатюра
Главной целью Низам-аль-Мулька было перестроить всю бюрократическую структуру периода Сасанидов и высокого халифата в той ее форме, которая досталась Газневидам. Это помогло бы сосредоточить власть в центральной администрации в ущерб местной знати. Тут он потерпел поражение. Можно поспорить, что это было неизбежно, так как восстановить сельское хозяйство Савада не представлялось возможным. Мы уже убедились, что плодородие Савада было уничтожено отчасти геологическими, отчасти экологическими катаклизмами. Но даже если бы их не было, сама природа аграрно-городской жизни мешала восстановить такую хрупкую структуру, каковой являлась экономика Савада на пике расцвета: как только организация агрикультуры попадала в полную зависимость от городского уклада, нарушение этого уклада могло снизить эффективность сельского хозяйства до уровня ниже первоначального. Следовательно, исчезал даже фундамент, на который опирались инвестиции в дальнейшее процветание империи. Тогда чрезмерное налогообложение экономики кочевников-скотоводов только усложняло задачу по замене Савада как источника доходов. Но сама попытка восстановления централизованной власти имела любопытные последствия.
Одним из результатов отсутствия центрального финансового ресурса стала потеря бюрократического контроля над армией. Низам-аль-Мульк предпринял важный проект — восстановить барид, центральную информационную службу, которая помогала власти следить за происходящим во всех концах империи в обход наместников и, таким образом, ежедневно держать руку на пульсе событий. Барид был учрежден, но исключительно военный характер нового тюркского режима полностью нарушил этот план. Информация должным образом не поступала. Сельджукские султаны полагались на свое могущество и мобильность при необходимости подавить вероятный мятеж, оставляя центральному двору лишь минимум влияния. Похоже, необходимость подчиниться гражданскому надзору (который и представляла собой информационная служба) оказалась невыносимым оскорблением для сельджукских предводителей, и султаны не посчитали возможным на этом настаивать. Да и не было у тюркских военных достаточно мощной политической идеи, чтобы пересилить присущий им гонор — чувство, лежавшее в основе власти сельджуков.
Несмотря на подобные сложности, под руководством Низам-аль-Мулька империя продолжила расширяться и все больше походила на экспансивную абсолютную монархию, о которой он мечтал, по территориальному размаху и даже по способности подавлять восстания и военные конфликты. Альп-Арслан и Низам-аль-Мульк, вероятно, разделяли взгляды на эту политическую инициативу, но умом юного сына Альп-Арслана, Меликшаха (1072–1092 гг.), Низам-аль-Мульку удалось завладеть с самого начала, и визирь обеспечил правление Меликшаха славой и известной стабильностью. В этот период, хотя Фатимиды еще продолжали властвовать в Египте, сельджуки отобрали у них контроль над святыми городами в Хиджазе и даже расширили свои границы на юг до Йемена. В другом направлении они установили свою власть над карлукскими правителями Караханидами в бассейне Сырдарьи и Амударьи, и Меликшах навязал свои порядки на территории до самого Кашгара — за горами на западной окраине бассейна реки Тарим.
Но чем шире разрасталась империя, тем меньше она могла рассчитывать на войска кочевников. Сельджуки с самого начала использовали тюркских солдат-рабов подобно их предшественникам. К моменту восшествия на престол Меликшаха, несмотря на опасения Низам-аль-Мулька, предупреждавшего его о том, как важно сохранить преданность кочевников, основной опорой империи были подразделения иного происхождения. В силу самой природы монархии старые связи с кочевыми племенами ослабли. Низам-аль-Мульк сам был олицетворением данной тенденции. В отличие от кочевников, не принадлежавших к династии, визирь мог расставлять на ответственные посты в бюрократической системе по всей империи своих многочисленных сыновей и внуков, так что его семья своими личными связями дополняла военный союз семьи Сельджуков. Низам-аль-Мулька и его семью окружала зависть и тюрков, и персов, а молодой монарх все чаще проявлял своенравие, но визирь не выпускал бразды правления до самой смерти (в почтенном возрасте), когда пал от рук убийцы. Инициативу убийства приписывали кому-то из его врагов при дворе, но ответственность взяли на себя исмаилитские повстанцы, протестующие против империи Сельджуков как таковой. Смерть Меликшаха последовала через считанные недели, и империя начала разваливаться.
Улемы и эмиры в интернациональном политическом порядке
Несмотря на то что попытка Низам-аль-Мулька укрепить власть сельджуков старой иранской политической идеей о вселенской абсолютной монархии провалилась, его политика способствовала эволюции двух ключевых социальных классов до той точки, когда они сыграли свою роль в формировании международного порядка Средневековья. Этими классами были знатоки ислама, улемы и военные, особенно полководцы — эмиры; улемы и эмиры вместе образовывали ядро власти в новом обществе с его минимальной зависимостью от формальных политических структур[188].
Вторая цель Низам-аль-Мулька, сопровождавшая его главную задачу по восстановлению абсолютной централизованной монархии, заключалась в создании корпуса преданных администраторов из числа суннитов для его вожделенной централизованной бюрократии. При высоком Халифате чиновники, как и адибы, выражали взгляды двора, что фундаментально отличалось от мировоззрения улемов, даже если адиб был предан суннитам. Довольно часто он был шиитом — открыто отрицал установленные порядки. Взгляды приверженцев сунны и шариата вселяли энтузиазм в жителей некоторых городов и внушали уважение правящим кругам.
Махмуд Газневи принимает просительницу. Средневековая персидская миниатюра
Но среди интеллектуалов эти взгляды не считались обязательными. Улемы получали одну основную специальность помимо прочих: их ученики становились кади, в то время как врачами становились ученики файлясуфов, а администраторами — те, кто умел элегантно формулировать тексты государственных документов. Именем ислама улемы претендовали на первостепенную интеллектуальную значимость, что представлялось трудноосуществимым. Но теперь возник новый инструмент привлечения учеников и подержания дисциплины, который помог им закрепить этот приоритет и заставить власти поддержать их точку зрения.
Сельджукские мазволеи в Харракане близ Казвина, Иран. Современное фото
Уже в X в. в Хорасане улемам-каррамитам с их всеобъемлющей религиозной системой и пропагандистским рвением, а затем и шафиитам надоело проводить занятия в мечетях, и они построили специальные учреждения для особо почитаемых ученых. Это были медресе — школы, — и хотя они (как религиозные учреждения) имели молитвенный зал в центре и таким образом являлись разновидностью мечети, в них предусматривалось место для учителей, учеников и их книг. Часто к ним примыкали кельи для проживания учеников и апартаменты для учителей. В таких медресе можно было преподавать целый ряд наук, в центре которых находилось (но не обязательно ограничивало их) суннитское правовое учение. Медресе, вероятно, сначала строились как способ распространения доктрины определенной группировки или секты — например, шафииты хотели так наладить обучение, чтобы их школа поглотила каррамитов, ханафитов и, возможно, даже исмаилитов (у которых была собственная эффективная система преподавания эзотерической дава). Но благодаря этим школам более высокий статус приобретали все шариатские улемы.
Визирь Низам аль-Мульк (шафиит, сам обучавшийся шариатским дисциплинам, прежде чем пойти на службу) сумел помочь в распространении идеи медресе по всей сельджукской империи; самая важная медресе, основанная им лично (1067 г.), — Низамийя в Багдаде, где преподавали ведущие ученые нового поколения. Школы получали солидные дотации и могли обеспечить важное преимущество своим преподавателям и студентам; Низам-аль-Мульк выплачивал жалованье первым и стипендии вторым. С поддержкой государства выпускники медресе могли быть относительно спокойны: им были обеспечены должности, по крайней мере, в области применения шариата — к примеру, кадиев. Каждая медресе была подогнана под определенный мазхаб (в итоге возникла традиция обучать всем признанным мазхабам суннизма в обычной медресе); но постепенно в более крупных школах стало возможно ввести все виды обучения, которые помогали улемам, обучаемым там, стать хорошими служащими-суннитами для правительственных органов. Большинство служащих в большинстве регионов, по-видимому, обучались прямо на рабочем месте, а выпускники медресе пользовались достаточным уважением, чтобы задавать интеллектуальный тон далеко за рамками подробностей фикха.
Как выяснилось, медресе не воспитывали лидеров великой централизованной бюрократии, но послужили делу мусульманского единства иным образом. По мере распространения медресе по всему исламскому миру их относительно стандартизированная модель обучения позволила воспитывать в суннитских улемах командный дух независимо от текущей политической обстановки. Так медресе стали важным средством укрепления той однородности мусульманского сообщества, которая уходит корнями к древней общине Медины. Во времена Марванидов она поддерживалась как дух солидарности среди малочисленного правящего класса, а в классические времена Аббасидов ее проповедовали улемы в мечетях с их цепочками хадисов, передаваемых от учителя к ученику, из поколения в поколение. Теперь, с потерей политической структуры халифата и центральной роли Багдада, требовалось что-то еще, чтобы противостоять угрозе дезинтеграции. Относительно формальная модель медресе имела целью сохранить единство трактовки наследия Мухаммада и непосредственных соприкосновений с Богом во всех аспектах жизни, где он проявляется.
Новые материально обеспеченные учреждения были сильно заинтересованы в существовавшем общественном порядке, и оппозиционный политический настрой улемов стал сходить на нет. В то же время автономия улемов и всей системы шариата от военачальников — эмиров — получила определенную форму. Роль протестующих против несправедливого правителя обычно играли хадиситы, и остальные сунниты не принимали в этом выраженного участия. Было принято, что кади назначал эмир, если таковой существовал. Но кади должен быть выпускником медресе, признанным улемами; и общее представление об остаточных социальных обязанностях всех мусульман (должным образом сформулированных в фард кифайа) проявлялось в молчаливом неповиновении эмирам. Как бы активно улемы ни сотрудничали с эмирами, очевидно, что разница между мусульманским идеализмом и мусульманской политической ответственностью, предсказанная еще во времена Пророка, сформулированная при Марванидах и подтвержденная при Аббасидах, теперь принималась как данность и проявилась в разделении мусульманских институтов на институты шариата и эмира.
С медресе и их относительно широкой ориентацией наступила окончательная победа школы тех улемов, кто желал выйти за рамки простой передачи хадисов и законов фикха и обсуждать более широкий круг интеллектуальных проблем. Диспуты о каламе, особенно в его ашаритской и матуридитской формах (которые ассоциируются с шафиизмом и ханафизмом соответственно), в итоге стали обычной частью образовательного процесса вопреки возражениям ханбалитов. Суннитский калам постепенно развился в крупный сегмент интеллектуальной жизни в целом, когда в одной книге и у одного автора можно было найти элементы фальсафы и суфизма, а также разнообразные исторические и литературные традиции адаба. Низам-аль-Мульк предвидел или даже предвкушал самое начало этой тенденции. На ее укрепление в некоторых регионах ушло двести лет. Но благодаря ему обучение наукам было систематизировано.
Наконец, третье направление политики великого визиря помогло ввести механизм правления военных эмиров, командующих районами, которые, в конце концов, узурпировали его центральную администрацию и стали покровителями улемов в медресе. Он добился этого, сделав их менее зависимыми от гражданской администрации, хотя в душе желал обратного.
Важной особенностью нового военного правления стала передача доходов от определенных земель напрямую конкретным военным офицерам без вмешательства гражданской администрации. Со снижением платежеспособности казны эта практика широко распространилась на территориях Буидов и в Плодородном полумесяце. (Отчасти процесс представлял собой порочный круг, когда выход из чрезвычайной ситуации путем платежа землей вел к образованию другой, более тяжелой чрезвычайной ситуации.) Передача земель военным — икта — при Низам-аль-Мульке была упорядочена.
Слово икта (означающее выделение земли или, иногда, других источников дохода) и ряд других слов, обозначающих различные виды икта, часто переводят как «феодальное поместье», и всю систему икта называют феодализмом. Бывали отдельные случаи, особенно в периоды относительной автономии в отдаленных горных районах вроде Айвана, к примеру, когда превалировали отношения военных феодалов, сравнимые с отношениями некоторых феодалов Запада; к ним правомерно применять термин «феодализм», если соблюдать определенную осторожность. В некоторых случаях терминология икта использовалась мусульманами с целью придать аномальным случаям хотя бы внешнее соответствие исламским нормам приличия. Но применять термин «икта» к таким полуфеодальным ситуациям означало бы злоупотреблять им. Система икта ни в одной из своих обычных форм не подразумевала систему взаимных обязательств хозяина и вассала, у каждого из которых были свои незыблемые права, предоставляемые как землей, так и военной службой (что обычно и подразумевается под феодализмом). Скорее, она выросла из бюрократического подхода, ориентированного на города и уходящего корнями в концепцию монархического абсолютизма, откуда родом все права получателя икта, и она никогда не порывала своих связей с городами. Термины вроде «передачи доходов» или «земельного гранта» лучше передают смысл слова икта и помогают не забывать о должном функционировании данного института и последствиях его порочности[189].
Главным образом Низам-аль-Мульк желал удержать бюрократический контроль над выделением земель военным. Ему пришлось включить их в бюрократическую систему, с тем чтобы эта система не распалась, поддерживаемая лишь тем сокращающимся количеством земель, которые не подлежали раздаче, а вновь могла контролировать все доходы, пусть и на новой основе. Но результатом его усилий оказалось более активное использование икта почти повсеместно. Сильная бюрократия вполне могла контролировать систему; к примеру, в Хорасане во времена сельджуков бюрократия присматривала за икта довольно плотно: земли оценивались с точки зрения их доходности, которая должна была соответствовать размеру жалованья военного. Но эта идея не везде нашла должное воплощение даже при сельджуках. Механизм выдачи земли в зависимости от зарплаты служащего затруднял строительство сильной бюрократии. Он сосредотачивал всю местную власть в одних руках, поскольку человек, получавший доходы с земли, становился самой влиятельной фигурой на этой земле, способной руководить как простыми крестьянами, так и помещиками на подвластной ему территории.
Убийство Низам-аль-Мулька. Средневековая персидская миниатюра
Такое положение предположительно усугублялось одним из основных способов регулировки системы икта: взаимной ассимиляцией разных видов икта с тем, чтобы ими можно было управлять на сопоставимой бюрократической основе. В некоторых случаях земля, которую выделяло правительство, являлась действительно подарком, наследуемым (и подлежащим разделу при наследовании, согласно закону шариата) и ничем не отличавшимся от другого личного имущества владельца, хотя это дарение тоже называлось икта. Но основные виды икта, нас интересующие, не могли наследоваться. Первый можно назвать «выделением земель военным», когда доходы с конкретных земель получали конкретные офицеры (независимо от того, кто собирал подати — центральная служба или сам офицер и его подчиненные); а второй — «административным выделением земли», при котором район или целая провинция выделялась одному человеку — как правило, военному, который должен был руководить и контролировать, а также полностью возмещать свои траты за счет доходов с этой земли (независимо от того, должен ли он был содержать солдат только для локальных целей или кроме этого обеспечивать военную помощь правительству). Строго военное распределение не подразумевало никаких прав, кроме права получать доход; но тот, кто мог собирать налоги, легко мог злоупотребить ситуацией и перейти в другую юрисдикцию. Низам-аль-Мульк, видимо, использовал оба вида икта как варианты одной и той же категории, пытаясь заставить всех получателей отчитываться перед государственной финансовой службой, не оскорбляя их достоинства, которое так важно для тюрков. Для этого он главным образом настаивал на надзоре центра с целью предотвращения произвола, особенно вымогательства у крестьян, и часто менял хозяина каждого участка, чтобы минимизировать влияние, которое хозяин мог получить благодаря патронажу своих подопечных и в силу их привычки. Но такая политика если и усиливала контроль центральной власти над хозяевами земель, в целом узаконивала статус получателя икта, придавая ей характер систематичности; это давало адресатам «административного» земельного надела больше прав собственности, а получатели «военного» надела могли вмешиваться в дела местной администрации на их земле, несмотря на запрещающий закон.
В результате все земли, кроме сугубо частных, стали считаться икта и, следовательно, подлежащими перераспределению между частными лицами по воле монарха. Даже земельные доходы, предназначенные для содержания всей действующей армии, рассматривались как икта, как будто они выделялись военному руководству; и говорят, будто Низам-аль-Мульк требовал себе одну десятую часть чистого дохода от икта в качестве жалованья визиря, вместо того чтобы получать фиксированное жалованье из казны. Если терминология верна, напрашивается вывод, что время от времени частные земельные владения, обычно менее подверженные изменениям статуса, чем любые икта, становились жертвой монаршего каприза[190]. Положение старых помещичьих родов стало шатким, как никогда раньше.
Именно во времена сельджуков получил распространение обычай переводить земельное владение в форму вакфа, религиозного пожертвования, неотчуждаемого и не подлежащего правительственной экспроприации. Пожертвование земли в качестве вакуфа, особенно собственности, арендуемой городом, служило источником финансирования новых медресе, а также мечетей, больниц, караван-сараев и всех общественных учреждений. Оно также активно использовалось в строго семейных целях — путем пожертвования родственникам, которое поощрял Коран. (Вакф не мог наследоваться и, следовательно, делиться на части; но член семьи основателя, как правило, выступал в качестве администратора, подчиняющегося кади.) Как раз под видом вакфа частным владениям удавалось избежать системы икта. По мере увеличения зависимости улемов от вакфа они все меньше зависели от эмиров, а напротив, дополняли их в качестве главных альтернативных получателей земельного дохода, посему с готовностью одобряли всю систему.
Вероятно, стараниями Низам-аль-Мулька военные не имели возможности сколько угодно разорять земли, которые, по расчетам государства, при должном управлении (так, чтобы крестьяне оставались довольны и не уезжали) могли приносить ему постоянный доход. Но он не сформировал, как ему того хотелось, класс помещиков по модели Сасанидов — привязанный к земле и заинтересованный в ее процветании; и тем более не получилось у него феодальной системы западноевропейского образца, с феодами и субфеодами в рамках сложной и крепко спаянной системы наследственных прав и обязательств. Одержимость бюрократическим контролем не позволила ему наделить получателей икта статусом помещика. В любом случае, от Нила до Амударьи города были хорошо защищены как центры всей активной жизни, и офицеры зачастую предпочитали концентрироваться там. Они просто навещали свои угодья — тем более что срок их владения землей ограничивался несколькими годами — только для сбора дани: то есть всего, что могла дать деревня сверх необходимого для ее выживания. В противном случае солдаты-рабы были заинтересованы в этой земле не больше, чем кочевники-скотоводы, которых они собой сменили.
Конец власти сельджуков
Следствием политики Низам-аль-Мулька стала децентрализация, которая наступила после его смерти, когда империя Сельджуков с ее показным имиджем великой централизованной бюрократии распалась. Империю отчасти скрепляли ожидания образованного класса, подстегиваемые попытками укрепить мощь мусульманского социума со стороны Низам-аль-Мулька. Но в еще большей степени империя держалась за счет племенной солидарности сельджукских кланов. Если первые не могли смириться со слишком большим количеством разочарований, которые принесла реальная действительность, то вторые (сельджукские кланы) не сумели пережить более чем двухсотлетнего привилегированного положения, сопутствующей ему убежденности в преимуществе правящего класса и потери непосредственного контакта с кочевниками. В конце жизни Низам-аль-Мулька молодой Меликшах уже был окружен женщинами-интриганками и их фаворитами-военачальниками; он прислушивался к мудрому визирю лишь по долгу службы. Когда Низам-аль-Мульк был устранен, султан стал жертвой всевозможных просителей. С исчезновением сельджукской солидарности при дворе пропал и контроль за тем, чтобы эмиры действовали в интересах центра.
В конце XI в. — после смерти Меликшаха в 1092 г. — различные армии сельджуков во главе с их лидерами (как правило, потомками Сельджуков) начали воевать друг с другом за власть или хотя бы за более широкие сферы влияния в империи. На какое-то время тот или иной сельджукский князь добивался шаткого превосходства над остальными. В череде грязных интриг сыновей и родственников Меликшаха друг против друга ради власти в империи на некоторое время (1104–1118 гг.) возвысился его сын Мухаммад Тапар. Он не мог контролировать все территории сельджуков, но боролся с еретиками и покровительствовал ученым и поэтам. Вместе с братом Санджаром, правителем Хорасана, он восстановил некоторое подобие сельджукской империи. После его смерти брат принял трон верховного султана, но напрямую никогда и нигде, кроме Хорасана, не правил; и даже там он и его военачальники в итоге поссорились с племенами тюрков-огузов, которые были дотоле главным источником пополнения воинских рядов султана, и те разорили его города. К западу от Хорасана власть в различных провинциях и даже в отдельных городах захватили сельджуки (число которых постепенно снижалось) и сельджукские военачальники (число которых неизменно росло), беспрестанно воюющие друг с другом.
Так возникла ситуация, типичная для исламского мира на протяжении нескольких веков: череда то и дело меняющихся военных правительств, большая часть которых основывалась на личном авторитете эмира или его отца. Такие эмиры часто получали право на власть напрямую от халифа как гаранта местной власти во всем мусульманском мире, пока какой-нибудь сосед не оказывался сильнее и не отбирал у него это право. Подобные правительства не имели под собой никакой прочной политической идеи и не могли создавать интегрированные государства. Определенная политическая последовательность все же существовала: такие огромные провинции, как Фарс, управляемые из единого бюрократического центра, все-таки оставались неделимыми. Но мусульмане ощущали себя частью всего исламского мира, и власть эмиров, будь то в большой провинции или маленьком городе, была почти столь же преходящей, как и влияние известных в определенной местности улемов.
Мавзолей Тогрул-бека в Рее, Иран. Современное фото
В данных условиях самым важным в регуляризации раздачи земель было то, что военные стали менее зависимы от гражданских и шариатских администраторов. Таким образом, на большей части мусульманских территорий политический уклад был расколот пополам, по крайней мере, до XV в.: произошло разделение между властью эмиров — обладателей решающей политической силы — с одной стороны, и всех остальных гражданских институтов — экономических, правовых или религиозных — с другой. Такой раскол просматривался уже в существовавшем в классическом халифате Аббасидов разделении между улемами и придворными: их социальные уклады радикально различались, чего не могли не чувствовать обе стороны в повседневной жизни бок о бок. Придворные в то время обладали политической властью, которая соответствовала идеалам улемов разве что в натянутом по нескольким пунктам смысле. В некотором роде теперь с новой силой ощущалось такое же противоречие между идеалами ислама и политической действительностью. Но этот гражданско-военный раскол был для Средневековья явлением новым и имел свои особые характерные черты.
На многих территориях произошло разделение между определенной частью общества, имевшей политическую власть и ключевое влияние, и всеми остальными учреждениями цивилизованного социума. Сначала в сельджукской империи, а затем и во многих других произошел национальный и культурный раскол: военные правители были по большей части тюрками (или, к примеру, в соответствующей ситуации на западе Средиземноморья — берберами), а их подданные — арабами, персами, индийцами и т. д., использовавшими арабский и персидский в качестве языков культурного и официального общения. Следовательно, правители всегда стояли обособленно, как военные специалисты, презиравшие менее знатных новичков-выскочек. Но тем значительнее становилось отделение военной власти от гражданской ответственности. Военные с их привязанностями и постоянными войнами вряд ли могли выступать в роли арбитров при спорах политической власти. Однако власть вообще теряла свою актуальность. Еще при халифате представление о том, что правитель — это прежде всего главнокомандующий войсками, ограничивало сферу ответственности правительства до защиты от внешнего врага, обеспечения внутренней безопасности и отправления правосудия. Подобное ограничение роли правительства как такового последовало и сейчас, когда его легитимность в глазах шариата объяснялась лишь необходимостью в каком-либо правительстве; и (в отличие от придворного уклада в Багдаде периода халифата) у него не было другой гражданской традиции для оправдания своей легитимности. Будучи чужаками, любившими только воевать, тюрки не были заинтересованы в местных институтах и не понимали их. По сути, самой их четкой и востребованной ролью стал суд последней инстанции.
Образование устойчивых интегрированных государств требовало, таким образом, определенных принципов, которые противостояли бы тенденции к военной раздробленности и нестабильности. Недолговечное величие сельджукского режима было отчасти отголоском вымирающих идеалов халифата — единства всех мусульман и абсолютизма великого монарха. Но этот режим и все его последователи до XV в. включительно не могли создать крупное стабильное государство в центральных регионах исламского мира — на Плодородном полумесяце и Иранском нагорье. Только на периферии в силу особых обстоятельств возникли более или менее устойчивые политические образования. Египет образовал централизованное государство благодаря Нилу и его природе. Во всех остальных регионах в дело вмешались два особых фактора. С одной стороны, на новообращенных исламских территориях, где большую часть населения все еще составляли зимми, мусульмане посчитали необходимым сформировать сплоченный правительственный орган, состоявший не только из военных, но и из торговцев, ученых и помещиков. В Европе и Индии, как мы увидим далее, получилось создать относительно интегрированные государства при господстве тюрков: например, Османскую империю на Босфоре и царство Гуджарат. Но даже на относительно давно принявших ислам территориях развитию сильных, хоть и недолговечных, государств способствовал второй фактор: потребность в социальной реформе. Если ее сочетать с командным духом племени, реформа могла бы получить материальную поддержку в городах, которым обращение к религиозным чувствам нужно было для сохранения внутреннего баланса; поддержку достаточную, чтобы уменьшить пропасть между гражданским и военным населением и сделать более последовательными действия военного правительства[191].
Поздний халифат и легитимизация эмиров
Еще до усиления сельджуков халифы в Багдаде по мере ослабления Буидов обретали уверенность в своих силах. Зачастую они напрямую контактировали с суннитскими улемами и посредством последних — с правителями отдаленных провинций не как абсолютные монархи, а как защитники шариата. Появление сельджуков — суннитских конкурентов Буидов — с готовностью было воспринято халифом, которому не терпелось начать править по-новому. Как мы уже наблюдали, достигнутая в итоге договоренность определяла характер правления сельджуков. Когда сельджуки, в свою очередь, оказались хозяевами, далекими от идеала, халифы продолжили пользоваться возможностью напрямую общаться с исламским сообществом как его лидеры, а не как монархи.
Такая роль открывала новые перспективы халифата как шариатского института. С этого момента шариатские ученые из числа суннитов перестали довольствоваться ролью толкователей шариата и мириться с довольно широкими полномочиями халифа. В мире, где правили своевольные эмиры, будущее самого халифа как института было под вопросом, и в минуту кризиса он решил обратиться к принципам шариата. Следовательно, ученые начали развивать теорию сияса шарийя — шариатского политического порядка, — которая должна была стать поистине всеобъемлющей, включающей все аспекты политической организации.
Сцена охоты. Резьба по слоновой кости, Фатимидский Египет, XI в.
Первым сделал это (еще до нашествия сельджуков) шафиит аль-Маварди (ум. 1058 г.). Он переосмыслил механизмы функционирования халифата в свете опыта Аббасидов и попытался, насколько возможно, придерживаться выводов, сделанных предшествующими правоведами, которых, однако, часто цитировал лишь в общих словах, для придания весомости своим утверждениям. Он стремился сформулировать в терминах шариата условия, при которых власть халифа могла бы делегироваться его подчиненному лицу, и попытался упорядочить систему делегирования и подвести под нее юридическую основу — такая работа могла иметь постоянный спрос. За аль-Маварди последовали ученые других мазхабов (но не из числа шиитов, которые не имели возможности для подобных исследований). Подобные размышления положили начало попыткам сформулировать понятие халифа, сильно отличавшееся от представления о несущем личную ответственность лидере древней Медины, но явно происходившее от этого идеала.
Оптимистичная теория аль-Маварди не была осуществлена на практике, хотя идея о делегировании халифом полномочий использовалась, чтобы оправдать систему, которая имела место в действительности, а именно систему двойственности власти или ее разделения между халифом, с одной стороны, и султаном и эмирами — с другой. В два-три хода (как в шахматах) положение, которое халиф занимал по отношению к своим автономным наместникам, изменилось: он стал заниматься исключительно вопросами общемусульманской значимости.
Блюдо эпохи Буидов, Иран, XI в.
Кроме всего прочего, его считали хранителем высшей исламской законности, и все независимые локальные правители должны были иметь грамоту от него в доказательство легитимности своего пребывания на данной территории. Суннитские правители обычно чеканили имя халифа на своих монетах — символе суверенитета — и получали от халифа инвеституру. Сначала, разумеется, это касалось именно Сельджуков, однако впоследствии, с исчезновением их центральной власти, многочисленные кратковременные правители, почувствовав свою независимость от сильного сюзерена, тут же заручились свидетельством получения власти напрямую от халифа. По сути, халиф стал органом легитимизации, в чьи обязанности входило от имени всего мусульманского сообщества решить, кого из претендентов на власть в том или ином регионе следует признать законным правителем. Халиф редко использовал свое положение, чтобы вмешиваться в локальные распри; он просто легитимизировал их результаты.
Вдобавок многие мусульмане ожидали, что халиф уступит лидерство и в других аспектах, затрагивающих исламское сообщество в целом. Большинство мусульман видели его роль в олицетворении чаяний религиозного истэблишмента; кто-то же довольно широко определял круг его обязанностей. Он должен был поднимать улемов на борьбу с ересью, к примеру обеспечивать как минимум моральную поддержку всем, кто участвует в защите границ Дар-аль-ислама (но не границы владений какого-либо правителя, имевшие лишь локальное значение). Очень часто халифу не удавалось продемонстрировать подобное лидерство. Его фактически слабое положение мешало эффективно действовать. После того как государство Сельджуков потеряло свою мощь, халиф стал правителем локального государства в Ираке, и его интересы как таковые, возможно, тоже отвлекали его от применения тех широких полномочий, которыми он на деле обладал (так, халиф того времени, ан-Насир, мало чем помог Саладину в войне с крестоносцами). И все-таки присутствие халифа подразумевало единый общий стандарт, к которому могла обращаться мусульманская политическая совесть.
Практические бразды правления, в отличие от наивысшей юридической власти с точки зрения мусульманской общины, откровенно передавались эмиру или султану, который должен был в моральном отношении ссылаться на халифа как на верховного правителя, но в то же самое время должен был сам пользоваться достаточной преданностью войск, чтобы эффективно править на своей земле. В идеале султан тоже должен был воплощать идею о вселенском распространении ислама. Первые Сельджуки считали себя единственным полностью суннитским правительством, и термин султан при них стал обозначать нечто близкое к «власти над всеми мусульманами» (хотя их господство ограничивалось такими же суннитами Газневидами с востока и шиитами Фатимидами с запада). Следовательно, любой эмир с большими запросами или обширными владениями мог называть себя султаном.
Султанат в его самом широком смысле всегда был лишь личным и весьма кратковременным делом. Именно эмир имел устойчивое влияние в большинстве регионов. Уже при первых «великих Сельджуках» обычный военачальник, эмир, обладал определенной автономной значимостью. С закатом сельджукского единства после 1092 г. такие эмиры становились все более независимыми на тех территориях, в чьем главном городе был расположен его гарнизон; по сути, те, кто командовал собственным гарнизоном, могли не выказывать лояльности ни к одному правителю, за исключением халифа; разве что кроме тех случаев, когда кто-то из их же числа время от времени создавал империю, подчиняя себе остальных.
Власть эмира, даже когда она распространялась на крупную нацию, имела локальные масштабы с точки зрения исламского мира, и границы между владениями эмиров были вопросом локальной политики, а не основополагающих социальных различий. Существование единого общества с халифом во главе признавалось независимо от сиюминутных переделов территории эмирами. Разнообразные государственные формации, часто довольно устойчивые — например, империя Газневидов, — никогда не внушали людям такую преданность, которая поборола бы их веру в общеисламское единство. Мусульманин любой национальности мог занять свое место в Дар-аль-исламе, согласно своему положению по шариату — всегда самому важному закону, безотносительно местной политиковоенной власти, стиравшему изменчивые границы между государствами.
Этот политический порядок, возникший при сельджуках, в той или иной форме стал нормой почти повсюду в мусульманском сообществе Средневековья. Примерно к 1100 г. он наблюдался уже повсеместно. С этого момента политическое вмешательство играло относительно скромную роль в культурном развитии автономной жизни локальных центров, связанных воедино не столько эмирами, сколько улемами и суфийскими пирами. Этот тип культуры переживал свой расцвет. Данные политические формы представляли собой эффективный межнациональный порядок в обществе, стремительно приобретающем слишком большие размеры, чтобы его мог объединить какой-нибудь из типичных политических организмов. Тем не менее шаткое положение любого отдельно взятого правительства в плане политических идеалов, по-видимому, вылилось в отсутствие стабильных долговременных институтов в возникающих государственных формациях и привело к периодическим масштабным социальным разрушениям в ходе бесконтрольных войн.
Восстание исмаилитов
Не все были готовы признать тюркских эмиров как неизбежное зло во имя создания настоящего халифатского правительства. Различные группы шиитов и хариджитов имели свои альтернативы. Но одна попытка свергнуть власть сельджуков поразила систему в самое сердце. Это было восстание низаритского ответвления шиитов-исмаилитов, известных в истории крестовых походов как Орден ассасинов. Они попытались осуществить религиозную реформу, прямо противоположную модели суннитских эмиров и улемов. Наследие исмаилитской иерархической системы обеспечило их альтернативной политической идеей, которой не могли похвастаться сунниты со времен падения халифата.
Руины крепости Аламут, Иран. Современное фото
В последние годы правления Меликшаха, как раз перед началом развала сельджукской империи, исмаилиты начали предпринимать согласованные шаги по захвату власти в Иране. В 1090 г. они взяли крепость Аламут в Дайламских горах к северу от Казвина, позже ставшую их главным штабом, и несколько городов в Кухистане, горном районе к югу от Хорасана. После смерти Меликшаха они развернули повстанческое движение на всей территории Ирана и Ирака, а позже — и Сирии. Восстание происходило не силами основной армии, целью которой было свержение центрального правительства (как это было с Фатимидами или Абоасидами), а, в духе режима многих эмиров, путем постепенного захвата крепостей и индивидуального террора, направленного против эмиров (или политически активных улемов). Конспиративные ресурсы движения исмаилитов с их тайными ячейками помогали им использовать любую возможность для постройки укрепления. Постепенно эти действия должны были подготовить все сообщество к пришествию имама-фатимида (как махди), который принес бы в мир справедливость.
Сначала тюркское владычество вызывало серьезное недовольство. Исмаилиты находили сторонников, особенно среди шиитов, в некоторых сельских областях, во многих городах и даже в рядах низших чинов армии. Залогом их успеха был энтузиазм. Быстро подвернулся случай восстать против ужесточившегося контроля правительства Египта: сын и преемник визиря Фатимидов Бадр аль-Джамали занял трон халифа аль-Мустансира, обойдя законного наследника, Низара; исмаилиты с территории сельджуков настаивали на праве Низара стать имамом и затем (после его смерти) на праве кого-то — пока непонятно кого — из его потомков. Таким образом, они обрели независимость под именем низаритов. Но они уже были автономным движением с собственным руководством из числа дай Исфахана и со своей версией исмаилитской доктрины, подчеркивавшей (при помощи диалектики, которую в то время почти невозможно было опровергнуть) исключительный авторитет имама и его движения. (Ниже мы рассмотрим их доктрину в ходе обсуждения работ Газали.) Их формальная независимость питала революционный настрой[192].
При политической децентрализации того времени, когда бюрократия центра неотвратимо теряла контроль над выделением икта, исмаилиты часто получали временное преимущество, помогая одному эмиру в борьбе с другим, и дружески настроенный эмир не осознавал, что эта группа с ее особой религиозной позицией — не просто отряд местных ополченцев; многие вообще не отдавали себе отчета в том, что на карту поставлено сельджукское государство. Время от времени исмаилиты пытались удержать крепость, которую им удавалось захватить, как представители какого-нибудь сельджукского эмира, не порывая с ним сразу же — как будто бы они были такими же эмирами, как и все остальные.
Самая важная из таких крепостей располагалась прямо у Исфахана — это была главная столица сельджуков. Человек, захвативший ее, был дай, глава миссионеров Исфахана и, вероятно, предводитель всех мятежных дай. Он подчеркивал, что является мусульманином, что его исмаилиты следуют законам шариата, и пожелал, чтобы его признали настоящим сельджукским эмиром с соответствующей долей икта, при условии, что он будет платить дань султану из собираемых со своей земли налогов и посылать ему войско по первому требованию. Султаном был ярый суннит Мухаммад Тапар, и все же даже в его стане были те, кто поддерживал подобный договор. Но более непреклонные из числа суннитских улемов выступили против, объявив, что исмаилизм выходит за рамки ислама, поскольку придает слишком большое значение батину — сокрытому смыслу Корана, хадисов и самого шариата, — что лишало смысла или делало как минимум неоднозначным их собственное приятие внешнего закона (подобно тому, как заговорщицкая секретность исмаилитов придавала двусмысленность любым их заверениям в преданности султану). Следовательно, по их утверждению, исмаилитам нельзя давать икта, их надо карать как вероотступников. Эта позиция одержала верх. Исмаилитские воины дорого отдали свои жизни и стояли насмерть, но сельджуки были у себя дома и задавили их массой (1107 г.).
Улемы не только приняли политическое решение, но и овладели умами людей. Мало кто дорожил сельджукским государством, а вот мусульманское единство оказалось решающей политической ценностью. Пока мятеж разгорался, большая часть населения отвернулась от исмаилитов. При их подходе (когда захват городов происходил беспорядочно, по воле случая) любой город в любой момент мог выбрать ту или иную линию, не ожидая массовой победы и просто выражая преданность мечте об имаме. На этой основе исмаилиты часто требовали, чтобы каждый принимал решение либо за, либо против, что неотвратимо вело к расколу общины. Наличие тайных ячеек, члены которых никогда не сознавались в принадлежности к ним, и даже тактика исмаилитского предводителя, пытавшегося удержать крепость в качестве сельджукского эмира, только усугубляли психологическое напряжение: никто не мог понять, кто на чьей стороне, хотя осознать различие означало решить проблему.
Метод индивидуального террора, применяемый исмаилитами, возможно, имел свой смысл. В обществе, где все зависело от влиятельности отдельных лиц, а не от бюрократического кабинета, убийства уже стали привычным делом; но исмаилиты сделали их своей официальной политикой, они заранее навязывали своих людей в слуги потенциальной жертвы на случай, если та своими действиями начнет мешать им. Мишенью были отдельные видные фигуры, доставлявшие им особенные неприятности (или переметнувшиеся на сторону врага), и их легко было вычислить и убрать, не проливая крови простых людей, чьими защитниками исмаилиты себя считали. Убийства были публичными и обставлялись как можно драматичнее, чтобы служить предупреждением; молодые исмаилиты-фанатики с радостью жертвовали собой, убивая врага (разумеется, они не употребляли перед этим расслабляющий гашиш, вопреки современной легенде!). Но в обществе, где в поисках стабильности люди надеялись на те самые фигуры, убийства устрашали всех. Противники исмаилитов распространяли жуткие легенды, рассказывая о том, что на самом деле цель ассасинов — низвергнуть ислам и разрушить все мусульманское в отместку за захват мусульманами древнего Ирана. И им верили. Вскоре ответом на убийства стала поголовная резня всех, кто попадал под подозрение в принадлежности к исмаилитам. В Исфахане подозреваемых бросали живыми в костер на центральной площади. Резня, в свою очередь, спровоцировала убийства ее зачинщиков, что породило новую резню. В этом порочном круге исмаилиты растеряли столь необходимую им поддержку народа.
Мухаммад Тапар возглавил большой поход против исмаилитских крепостей и многие из них вернул во власть сельджуков. Некоторые устояли — в горах близ Эльбруса к югу от Каспийского моря, а также в Загросе. В двух провинциях — Дай-ламане и Кухистане — у исмаилитов получилось привязать их идею к идее независимости местного народа от внешних врагов. Крупные районы обеих провинций оставались под плотным контролем исмаилитов. В последующие годы исмаилиты Сирии, вначале желавшие утвердиться как группировка, имеющая влияние в городах, особенно в Алеппо, тоже захватили крепости в горах южнее Айвана. Эти разбросанные на большие расстояния друг от друга и вроде бы беззащитные маленькие районы, несмотря на постоянное военное давление со стороны агрессивных враждебных армий, не порвали с суннитским исламом. Напротив, они образовали единое государство, полтора столетия отличавшееся стабильностью и сплоченностью, а также независимым духом и преданностью дай Дайламана, обосновавшимся в Аламуте, вопреки всем невзгодам. В отличие от наемной армии Фатимидов в Египте, с которой начался упадок государства (и в отличие от тюркских эмиров), государство исмаилитов-низаритов защищали отряды народных ополченцев, при этом оно оставалось сильным до конца.
Пожалуй, главным политическим результатом восстания исмаилитов, кроме создания независимого государства (характер которого радикально отличался от большинства государств исламского мира), стали подрыв доверия к шиитской оппозиции в целом и повышение лояльности умеренно настроенных граждан к эмирам и к суннитскому обществу. Но этот мятеж оказал влияние и на интеллектуальную и творческую деятельность. Доктрина исмаилитов помогла сформировать интеллектуальный синтез великого суннита, Газали, который, в свою очередь, помог суннизму обрести себя в новой эпохе. Они стали героями многочисленных мифов с завораживающими образами увлеченных людей, лишенных условностей и ограничений общества и даже инстинкта самосохранения. Говорили, что сектанты собирались ночами для диких сексуальных оргий, а на следующий день бросались с высокой башни по одному только слову всезнающего и непостижимого владыки. Да и сами исмаилиты слагали о себе легенды, которые подхватывали даже сунниты, хотя, конечно, в них рассказывалось уже о безграничной щедрости, гордости и храбрости людей, обиженных миром и желавших оставаться свободными[193].
Глава II
Общественный строй: торговые интересы, военная власть, свобода
Время правления сельджуков пришлось на расцвет эпохи Средних веков; развитие системы икта и автономных эмиров с их гарнизонами в крупнейших городах центральной части исламского мта ознаменовало закат империи абсолютизма. Общество этого периода Средневековья, особенно в регионе между Нилом и Амударьей, стало тем, что обычно принято понимать под термином «мусульманское общество». Основная часть населения уже приняла ислам, но религиозные приоритеты еще только начинали определять общественный строй в целом. На данном этапе нам следует подробнее изучить основные характеристики этого строя и принципы его формирования в рамках ислама, черты, обусловившие стремительные перемены в высокой культуре.
Многие из этих характеристик общественной жизни были типичны не только для исламского мира. Повседневный уклад менее привилегированных классов — народная культура — варьировался в этом мире так же, как и во многих других аграрных сообществах. Если пристальнее вглядеться в культуру простых людей — способ приготовления пищи, строительство домов, пошив одежды, приемы земледелия, ремесла, средства передвижения, принципы воспитания детей или народные праздники, — мы обнаружим великое разнообразие (даже на территории между Нилом и Амударьей), не поддающееся обобщению, возможному разве что при ссылке на климатические условия или общий уровень бедности, который определяет степень предсказуемости на всей обсуждаемой территории. Если же, напротив, посмотреть на самые общие предпосылки жизни городов аграрного общества, мы увидим, что основные черты исламского мира прослеживаются во всех подобных социумах. Если бы мы рассматривали этот пласт культуры отдельно, тогда не имело бы смысла выделять исламскую цивилизацию из общей картины развивающихся механизмов аграрного общества Афро-Евразийской Ойкумены[194].
Тем не менее общие проблемы общества аграрного типа в исламском мире Средневековья обрели особую форму, что помогло сформировать исламскую цивилизацию как таковую. Высокая культура постоянно видоизменялась под влиянием элементов местной народной культуры, особенно в центральном регионе «старого ислама». В то же время на центральных землях и везде, где исповедовали ислам, высокая культура оказывала устойчивое влияние на формирование культуры народной. Предписания законов шариата, теологические доктрины и даже каноны поэзии и изобразительного искусства менялись как погода у моря, когда адаптировались слоями населения, менее обеспеченными, чем те, для которых они создавались. Иногда и в высокую культуру проникали новые формы. Таким образом, чтобы изучить цивилизацию полностью, включая ее зарождение и влияние на другие цивилизации, необходимо проанализировать несколько аспектов культуры быта, хотя (к сожалению) мы не можем рассмотреть их всесторонне. Мы вынуждены ограничиться особенностями, повлиявшими на формирование наиболее отчетливых явлений в исламском общественном строе Средних веков. Должен добавить, что на сегодняшний день существует очень мало исследований, посвященных вопросам, освещаемым в данной главе. Следовательно, почти все мои выводы весьма условны, а иногда и вовсе являются предположениями.
Свобода мусульман и открытая структура их общественного строя
По мере урбанизации и смешения национальностей в городах аграрного общества у людей постепенно исчезала уверенность, что в дальнейшем они смогут надеяться на наследуемый статус или власть. Возникает ощущение, что человек с его личными интересами оказался в обществе, где одинаково законными или незаконными могли считаться прямо противоположные вещи, и ему приходилось каждый раз находить выход из трудных ситуаций благодаря смекалке и другим ресурсам, зависевшим только от него самого. В аграрную эпоху таких социальных ограничений не возникло, отчасти потому, что местные обычаи сохранили силу, несмотря на смешение национальностей, а также из-за того, что общество каждого крупного региона создавало ряд компенсационных региональных институтов для соблюдения законных норм и, следовательно, для сохранения определенной предсказуемости в случае, если человек уезжал из дома. В Индии стержнем такой структуры были касты, и структура эта развивалась и оттачивалась, по мере того как росла роль индийского общества в торговых и культурных связях Старого Света. В Западной Европе то же можно сказать о феодальной классовой системе.
В аридной зоне, как мы увидим ниже, вероятность утраты местных норм законности вследствие полиэтнического состава населения была необычайно высока. Возможно, именно поэтому компенсационные институты в регионе имели наименее жесткую структуру. Для аграрного общества они были чрезвычайно гибкими. Но они в меньшей степени, чем в Индии или на Западе, помогали человеку обрести надежный статус и оставляли его один на один со всем обществом — так же, как его религия бросала его один на один с верховным Богом — при минимуме божественных посредников. Анонимность индивидуума не имела ничего общего с анонимностью, возникающей в современном обществе; она была велика только в сравнении с другими обществами аграрного уровня. Но существуют рекомендательные параметры для сравнения этих аспектов исламского общества до начала эпохи Новейшего времени и современного мирового сообщества. В любом случае, практически все, чем характерен исламский общественный строй, особенно в Средние века, но и до, и после них, можно трактовать с точки зрения относительной открытости общественного строя и непостоянства (ненадежности) положения в нем отдельного человека. Сама проблема поддержания социальной сложности выше минимального аграрного уровня, когда аграрная основа уже не расширялась (в первую очередь из-за проблемы засушливых земель), осложнялась открытостью структуры общественного строя.
Мы уделим особое внимание политическим аспектам проблемы, так как они играют решающую роль. В политической сфере свободная структура преимущественно означала слабую власть центра и, следовательно, угрозу специализированным институтам, которые обычно предполагают наличие сильной центральной власти. Именно при столкновении с проблемой легитимации сложной политической жизни ресурсы исламских институтов проявились наиболее полно.
Снижение влияния центра приняло форму, ставшую самой характерной чертой исламского Средневековья вообще, если сравнивать его с другими периодами и регионами аграрной эпохи: оно милитаризировалось. Это была милитаризация не всего общества в целом, но только верховной власти. Мы рискуем чрезмерно упростить описание того, как определенные аспекты многонациональное™ аридной зоны могли привести к более открытому структурированию социальных форм, выросших в милитаризацию. В то же время наше описание поможет выделить основную тему, проходящую красной нитью через всю главу. Ее можно сформулировать как возникновение и функционирование системы социальной власти айанов-эми-ров: власть, как правило, делили айаны («аристократы» разного рода в городах и деревнях) и эмиры (начальники местных гарнизонов, испытывавшие минимальное вмешательство со стороны крупных политических организаций).
Можно сопоставить суммарные определения системы айянов и эмиров у мусульман и соответствующие системы у китайцев, индусов и жителей Запада. Китайская система того времени состояла из: конфуцианского ритуального этикета (ли), гражданского помещика и подчиненных ему крестьян в основании пирамиды власти; влиятельной бюрократии; системы открытого конкурса при приеме на государственную службу; абсолютной монархии как центра власти. И все эти элементы были независимы. Индийская система функционировала посредством принципов дхармы, кастовых обязанностей в основании пирамиды власти, межкастовых обязательств джаджмани, панчаятов и наследственных раджей в центре. Западная система работала за счет: феодального, канонического и гражданского права; крепостных крестьян в поместьях; муниципалитетов и городских объединений; права первородства либо коллегиальных выборов на высокие посты; рыцарских владений; многоуровневой феодальной лестницы вассалитета. Соответственно система айанов-эмиров функционировала за счет: законов шариата; свободных крестьян при военных хозяевах икта; патронажа городской знати (айанов); замещения должностей в результате назначения или конкурса; использования рабов в домашнем хозяйстве; и дворов-гарнизонов эмиров на вершине пирамиды. И каждый из этих элементов обуславливал и поддерживал остальные. (В одной из последующих глав я проведу более детальное сравнение между исламским миром и Западом.)
Можно обобщенно сформулировать характер исторического развития следующим образом. (На протяжении всей оставшейся части главы я попробую продемонстрировать хотя бы правдоподобность данной зарисовки.) С принятием ислама в регионе между Нилом и Амударьей аграрная власть разрушилась. То есть разрушилось влияние аграрной аристократии, поскольку его воплощением была монархия Сасанидов (в том смысле, что монархия все еще представляла аграрные интересы в большей степени, чем любые другие). На некоторое время арабские торговые интересы стали преобладающими в новом халифатском государстве, но вскоре была восстановлена монархия, при которой ведущую роль играли аграрные интересы. Однако в этой воссозданной общественной структуре, когда представления о законности приобретали новые арабские и исламские формы, поощрялась определенная мобильность общества за счет более старых аристократических механизмов. Эгалитарные ожидания относительной мобильности были зафиксированы в исламском шариатском праве, сохранявшем свою автономию в любой аграрной империи. Империя так и не смогла достичь полного бюрократического контроля — к примеру, над торговцами и их объединениями. В результате к X в. доисламские культурные традиции почти исчезли, и была восстановлена не только империя, но все общество, только на более открыто структурированной, более эгалитарной и договорной основе и с обращением к исламу как к объяснению ее законности.
Такой результат стал возможен отчасти благодаря центральному местоположению мусульманских регионов в географической конфигурации растущей Афро-Евроазиатской Ойкумены и долгосрочным последствиям ее экспансии. Во многих регионах росла значимость международной торговли, которая стала играть определяющую роль в их судьбе. Но ее конкретные последствия зависели от степени участия в ней отдельного региона и от внутренней расстановки сил в его обществе.
Положение привилегированных аграрных сословий в аридной зоне стало шатким как никогда ранее (из-за разбросанности больших земельных владений и конкуренции со стороны скотоводов). Между тем положение купеческих сословий (занятых торговлей на местных или зарубежных рынках) упрочилось как минимум на некоторое время благодаря торговле с другими странами, которая набирала обороты именно в это время. Как следствие (в отличие от большинства аграрных регионов), семьи помещиков не могли упрочить свое господство в городах. Но в регионе, открытом для привязанных к земле армий, и купцы были не в состоянии даже на местном уровне установить политический строй, который бы полностью им подчинялся. В итоге отношения между аграрной и торговой властью зашли в тупик.
Таким образом, к средневековому периоду ислама ни помещики, ни горожане не могли действовать самостоятельно. Кроме нескольких торговых государств в пустынных районах или на отдаленных побережьях (не влиявших на культурные тенденции исламского мира в целом, но следовавших этапам его развития), как правило, города не могли контролировать окружавшую их территорию. Аграрное господство на относительно открытых и обширных сельскохозяйственных территориях было слишком прочным, чтобы зарождающаяся городская олигархия могла его оспорить. Айанов в городах интересовало только то, что можно было обеспечить контрактом и личными договоренностями, гарантированными автономной легитимностью шариата повсеместно. Но помещики гораздо больше, чем в других регионах, стремились жить в городах, даже сохраняя тесную связь со своими землями. Таким помещикам пришлось соответствовать требованиям городской жизни, где они уже не могли доминировать.
Когда города и деревни объединились под общим руководством, стало трудно сформулировать эффективные законные основания для общих институтов, которые либо поддерживали власть помещиков на земле, либо подкрепляли долгосрочную местную автономию торговых городов. Разработанные формы легитимации — особенно шариатский и административный прецеденты — не требовали ни сильной единой организации, ни хорошо спаянных локальных. Но эта патовая ситуация, в свою очередь (как только изначальное доверие к власти халифа было подорвано), влекла за собой наказание в виде военизированного правительства.
Поскольку в итоге ни один общественный класс не обладал эффективной властью, решение могло прийти только со стороны военных. Без права наследования земли ускользали от помещичьих родов, чьим фундаментом власти они всегда были; помещики и в армии-то служили только в силу обязанностей, налагаемых статусом. Земля снова и снова перераспределялась людям, которые были в первую очередь воинами и получали ее именно по этой причине — и владели ею постольку, поскольку являлись лучшими воинами. (Разумеется, эти воины часто пытались основать помещичьи рода, но им редко удавалось сохранить за собой землю в течение многих поколений.) Между тем города также не могли противостоять милитаризации. Без муниципальной автономии усилились космополитические тенденции городов. В городе наблюдалась внутренняя социальная раздробленность; и все же элементы одного города были тесно связаны с элементами другого и зависели от норм городской жизни по всему исламскому миру. Такая биполярная направленность — к внутренней множественности и внешней солидарности — не давала сформироваться какой бы то ни было гражданской власти. К примеру, не принесла успеха тенденция обеспечить поддержку политики айанов силами городского народного ополчения. Военные землевладельцы, непринужденно чувствовавшие себя как в городе, так и на земле, с готовностью подхватили бразды правления городами.
Но военные были не в состоянии поддерживать весьма сложную или централизованную правительственную структуру. Самое большее, что могли сделать местные общественные структуры, — это смягчить деструктивные последствия своего правления.
Однако качество исламской жизни определялось и другим параметром не меньше, чем прямой милитаризацией. Обратной стороной слабой политической власти (по крайней мере, если другие социальные институты пытаются поддержать должный порядок) может быть расширение свободы отдельного человека. Относительную свободу стимулировали некоторые социальные условия самой аридной зоны, а возникшие там институты подкрепляли ее. Такая тенденция по мере своего развития способствовала ослаблению центральной политической власти, а затем подпитывалась за счет ее слабости в своем дальнейшем укреплении. В исламском средневековом мире индивидуальная свобода подчас достигала огромных масштабов по меркам аграрного общества. Эта относительная свобода личности, не желающей отдавать свою судьбу на волю стоящих над ней социальных институтов или общепринятых стандартов (кроме минимума, налагаемого законом шариата), вылилась во множество выдающихся достижений, но и помешала тому, чего можно бы добиться при наличии постоянных совместных усилий.
Чувство личной свободы рядового мусульманина, без сомнения, лило воду на мельницу системы, названной нами «системой айанов-эмиров». Эта система сумела распространить ирано-семитскую культуру в ее исламской форме почти на весь Старый Свет. Но она отличалась неспособностью противостоять многочисленным военным захватам и редко способствовала устойчивому росту промышленности, адекватному бурной и часто чрезмерно активной торговле. Эти слабости станут отправной точкой для нашего исследования более поздних периодов. (Так, проблематика каждой эпохи во многом определялась совокупностью проблем, актуальных в предшествующие эпохи, и их решений.)
Керамическое блюдо эпохи Фатимидов, Египет, XI в.
Через два столетия монголы навязали уязвимой системе айанов-эмиров в центральных регионах собственные представления о династии-покровителе, из которых в итоге (с развитием технологии изготовления пороха) вырос новый прочный абсолютизм, при котором пересматривалась уже система айанов-эмиров, но процесс этот был прерван судьбоносными переменами на Западе[195].
Теперь я должен сделать несколько предупреждений. Чрезмерное внимание к последствиям милитаризации правительства в Средние века может ввести в заблуждение. Ослабление центральной политической власти и снижение уровня сложности институтов можно воспринять просто как крах общества. Такое примитивное суждение опровергает одно только накопление огромной политической власти при системе айанов-эмиров, не говоря уже о впечатляющих культурных достижениях того времени. Но мы должны выделить, где именно наблюдалось снижение сложности. Можно сказать, что система айанов-эмиров в исламском сообществе представляла собой особый случай аграрного общества: некоторые тенденции, всегда присутствовавшие в его жизни, отчетливо оформились именно в результате отсутствия политических ограничений. Но необходимо помнить, что я говорю о системе айанов-эмиров как об идеале, к которому в реальности удавалось в лучшем случае немного приблизиться; где бы ни возникала крупная политическая формация, она влияла на эту систему и сдерживала ее автономное функционирование.
Средневековье можно определить как время, когда в большей части исламского мира отсутствовала стабильная бюрократическая империя, то есть период между высоким халифатом и великими империями XVI века. В это время исламская политическая жизнь, как правило, приближалась в определенных отношениях к минимальной сложности политических образований, которая была бы совместима со стабильным аграрным обществом: то есть ей, как правило, не хватало высокого развития бюрократического правительства или какого-либо эквивалента ему. Соответственно сократились специализированные инвестиции, особенно в производство. В подобной политической обстановке ресурсы местных институтов, равно как институты более масштабные и имеющие менее выраженный политический характер, были призваны играть максимальную общественную роль, частично заменяя чисто политические институты. Таким образом, латентная власть местных айанов и эмиров оказывалась решающей.
Но даже когда системе айанов-эмиров чинилось меньше всего препятствий, к политическому минимуму удалось приблизиться лишь в некоторых отношениях; что же касается других аспектов, не стоящих в прямой зависимости от централизованной власти, социальная и политическая жизнь могла быть систематически эффективной. Открытая структура мешала сильной центральной власти и всему, что такая власть могла с собой нести, но тем не менее некоторая структурированность присутствовала. Следовательно, ослабление центральной политической власти обычно не приводило к снижению общей сложности социума до базового уровня аграрного общества. Даже в смысле централизованной власти не происходило снижения до минимума — по крайней мере, надолго. И все же в этих пределах такой политический минимум не казался вероятным после падения высокого халифата. И с приближением к нему имело место общее упрощение экономических отношений, кроме тех случаев, когда оно компенсировалось альтернативными мерами.
Средневековье считается периодом снижения огромного культурного импульса, наступившего после арабского завоевания и исламизации. Но если посмотреть на исламскую цивилизацию как на реализацию доисламских тенденций в ирано-семитских обществах, общая картина меняется независимо от того, действительно ли имело место ограничение экономических ресурсов в этот период. Еще до прихода ислама в регионе между Нилом и Амударьей традиции пророческого монотеизма способствовали равенству разных этнических групп в противовес типичному для такого общества духу аграрного аристократизма. Уже на начальном этапе основные всплески культурного развития происходили и в религиозных общинах, где доминировало городское население, примерно так же, как при дворах монархов или в храмах передающих свой сан по наследству священников. Уже тогда ирано-семитское сообщество с его общинной организацией оказывало все более ощутимое влияние на индо-средиземноморские регионы. Благодаря интеграции в единую религиозную общину именно такие рывки культурного развития оказались наиболее ощутимы в экспансивном исламском сообществе по мере его распространения по полушарию. В долгосрочной перспективе можно с натяжкой считать, что высокий халифат — это интерлюдия, переход от аристократической аграрной монархии периода Сасанидов к одновременно более урбанизированному и децентрализованному общественному строю, возникшему в регионе в результате соотношения сил в полушарии на рубеже тысячелетий. Такой общественный строй соответствовал яркому расцвету творчества ирано-семитского сообщества, равно как и его экспансивности. Учитывая длительный культурный подъем, можно говорить не об упадке, а, напротив, о подъеме в средневековом исламском мире.
А. Экология региона
В этой главе мы дадим описание социальных механизмов, возникших при приближении к политическому минимуму. Сказки «Тысячи и одной ночи» формируют исчерпывающий образ общественного строя той эпохи, особенно на уровне частной жизни горожан. Разнообразные централизованные политические образования, возникшие в Средние века, так или иначе видоизменяли описанные здесь тенденции. Но как только сформировалась ситуация политического минимума и в дело вступили локальные ресурсы, обратить процесс вспять стало трудно. Развившиеся механизмы говорили о длительности одной и той же экологической обстановки. Попытки правительства модифицировать местные тенденции имели успех только в той мере, в какой отвечали текущей обстановке и учитывали ее требования.
Космополитизм аридной зоны и ее центральной области
Традиции ирано-семитской высокой культуры базировались на быте конкретного региона — территории Плодородного полумесяца и Иранского нагорья. Грубо говоря, это область, представленная на современной политической карте Сирией, Ираком, Ираном и Афганистаном. Даже после великой экспансии ислама и последовавшего упадка халифата эта территория продолжала оказывать огромное влияние на развитие всей исламской цивилизации. Ее можно считать ядром исламского мира.
Если изучить имена важнейших деятелей, повлиявших на развитие исламской культуры в целом (а не какой-то из ее локальных форм), мы обнаружим, что они по большей части были родом с земель Плодородного полумесяца, Иранского нагорья или бассейна Сырдарьи и Амударьи. В этом списке очень мало выходцев из Аравии (не считая эпоху Пророка и первые поколения после нее), еще меньше — из Египта; относительно немного из Анатолии и с Балкан; пожалуй, чуть больше — из Индии; почти никого из северных степей или с океанского побережья на юге. Горстка выдающихся личностей происходит из Магриба, и все они в основном переезжали жить на восток, но их число часто завышено, если рассматривать влияние одного Магриба без учета общего развития исламского общества. То же с основными формами и институтами. Нет нужды перечислять все то, что сразу же обнаруживается в Ираке — фикх, грамматика и стихосложение. Не меньшее количество культурных достижений вышло из Хорасана: медресе, тарикат как форма суфийской организации, принятие калама как неотъемлемой части ислама; пожалуй, стоит прибавить к ним ряд социальных нововведений, на которых изначально строились империи Аббасидов и Сельджуков, имевшие огромное влияние далеко за своими пределами.
Должен добавить, что подавляющая часть всей этой территории всегда была окрашена в иранские этнические тона, и это явствует еще отчетливей, если прибавить к Иранскому нагорью бассейн Амударьи и Сырдарьи. Только земли Плодородного полумесяца были преимущественно семитскими. Раньше ученые спорили о том, до какой степени расцвет исламской культуры обязан доминанте персидского (или даже арийского) гения; как будто большинство рядовых мусульман были семитами, поддавшимися культурному господству персидского меньшинства. Если вспомнить карту Ближнего Востока, где Персия — лишь одна из дюжины стран, большая часть которых — арабские, такой ошибки трудно избежать. Здесь серьезный исследователь должен учиться пересматривать свой материал и намеренно выбирать более правильные категории, признав, что большинство населения городов между Нилом и Амударьей говорило на том или ином иранском диалекте (из которых персидский был, конечно, основным)[196].
Вначале образ жизни менее образованных классов, народные традиции региона служили непосредственным источником высокой культуры ирано-семитского общества, и одни трудно было отличить от других. Но постепенно традиции городского образования и организации стали усложняться и утрачивать зависимость от деревни. В процессе взаимодействия традиций многие из них сильно видоизменились в результате внутреннего усложнения. Более того, по мере расширения городской зоны в Европе, Азии и Африке традиции высокой культуры распространились на далекие от центральной области расстояния, а такие широкие связи, в свою очередь, оказали сильное влияние на традиции в центре. Многие элементы, происходившие из отдаленных районов — в частности, с северных берегов Средиземного моря, — влились в высокую культуру; но, что еще важнее, ее традициям стали следовать люди из самых разных в бытовом отношении стран — египтяне, йеменцы, жители Хорезма в низовьях Амударьи. Все эти люди внесли свой вклад в дальнейшее развитие культурных традиций. Так, ирано-семитскую высокую культуру стало еще труднее идентифицировать с образом жизни крестьян Плодородного полумесяца и Иранского нагорья.
Тем не менее эти земли оставались самым продуктивным центром развития высокой культуры и во времена ислама. С самого начала большая часть людей, получивших известность в исламской традиции, родились или жили там. Затем этот регион как «земли старого ислама» продолжал выполнять нормативную функцию для остального исламского мира, как бы тот ни разрастался по полушарию. Он демонстрировал особенно высокую активность в дальнейшем развитии форм исламской культуры, оправдывавших тот огромный авторитет, который он завоевал и сохранял.
Неизменно ключевая роль этого региона объяснялась отчасти его особым географическим положением в центральных областях, которые мы называем «аридной зоной». Простираясь через Африку и Евразию от Атлантического побережья к югу от Средиземного моря до степей и пустынь к северу от Китая, аридная зона образует широкий центральный пояс, разделяющий две огромные хорошо орошаемые части Ойкумены: Европейский регион на северо-западе и регион муссонного климата на юго-востоке. Вся аридная зона, таким образом, неизбежно попадала в гущу исторических событий на Востоке и Западе. Но центральная треть этой аридной зоны, регион между Нилом и Амударьей (и область к югу от него), являлась ядром исторической конфигурации Ойкумены. Как уже говорилось в главе о доисламском периоде, можно проследить связь характерных особенностей ирано-семитской культуры (хотя бы отчасти) с географическими особенностями центра аридной зоны, ее засушливостью и открытостью. Эти особенности наиболее отчетливо проявились в самом центре зоны. Теперь остановимся на анализе последствий данных факторов подробнее.
Подобная трактовка возможна, пожалуй, лишь до известных пределов. Нелегко разграничить особенности средиземноморской части Европы и региона между Нилом и Амударьей на уровне таких базовых характеристик, как рыночная ориентация и космополитизм. Средиземноморье и регион Нил — Амударья всегда были связаны друг с другом теснее, чем другие центры цивилизации. Даже на уровне высокой культуры их объединяли монотеистическая религиозная традиция и общее научное и философское наследие. Такие отношения стали не только прямым следствием отсутствия ощутимых географических преград между двумя регионами. Несмотря на очевидную разницу между аридной внутренней частью Плодородного полумесяца и Иранского нагорья и омываемыми водой полуостровами Южной Европы, их народы были схожи по расовой принадлежности. И даже сейчас можно безошибочно проследить общие черты у народов от Афганистана через Турцию и Грецию до Испании, которые путешественнику покажутся разительно отличающимися от соседних Индии, Северной Европы или Судана. Не будет натяжкой в определенных целях выделить так называемую ирано-средиземноморскую культурную зону[197]. В частности, было замечено, что земли от Иранского нагорья до западной части Средиземноморья давно обладают довольно схожей городской культурой, большим количеством сопоставимых институтов и общественных ожиданий; и такая однородность длилась еще очень долго после принятия этими территориями ислама.
Несомненно, Средиземноморье и центр аридной зоны объединяла атмосфера относительной коммерциализации и даже космополитизма еще со времен древних греков и финикийцев. И, вероятно, именно космополитизмом объясняется взаимная ассимиляция культурных традиций, поскольку центр аридной зоны был важнейшим с экономической точки зрения соседом Средиземноморья. Разрушение ирано-средиземноморской гомогенности относится к XII или XIII в. — возникновению общинного городского самоуправления в Западной Европе и особенно господству монголов на территории между Нилом и Амударьей. Но расходиться традиции начали в Средиземноморском регионе в то время, когда северные части Европы, особенно на западе, становились преимущественно аграрными, т. е. главным источником экономической мощи и даже, возможно, центром притяжения культурных деятелей с юга. Пожалуй, города западной части Средиземноморья в гораздо большей степени, чем города исламского мира (и Восточной Европы), привнесли в культуру базовые инновации, разрушившие прежнюю общность; с этого момента Запад развивался в направлении, отличном от остального континуума[198].
Но еще до разрыва в традициях ирано-средиземноморской культуры, разумеется, аридная зона и особенно ирано-семитские земли проявляли свои характерные особенности. Некоторые из них отражали географические различия между регионами. Я подчеркну четыре пункта: засушливость пахотных земель; пересечение международных торговых путей; легкая доступность для завоевателей с суши; древность сельского хозяйства и империи. Все, разве что кроме последнего пункта, стало следствием географии аридной зоны и тех ее земель, которые оказали наибольшее влияние на остальные. И все эти пункты, полагаю, определили рыночную ориентацию общества — или, по меньшей мере, его космополитизм, относительную свободу от узкой аграрной или гражданской специализации.
Последствия любого из этих четырех факторов в то или иное время могут быть едва различимы, но окажутся решающими по прошествии веков и тысячелетий в результате влияния на бесчисленные мелкие повороты событий в ходе взаимодействия развивающихся традиций. Например, роль международной торговли, независимо от характера последней, не зависит от того, насколько важны в том или ином городе и веке люди, торгующие заграничными товарами. Несмотря на престиж купцов, возящих из далеких стран такие товары, как шелк и пряности, и продающих их на крытых рынках касария, состояния зарабатывались на вещах гораздо более прозаичных. И все же широкий выбор, который открывался во времена локального кризиса, диверсификация ресурсов, доступных людям, члены семей которых торговали товаром из-за границы, влияние непосредственных контактов с людьми из самых отдаленных уголков Старого Света на умы купцов — все это наверняка имело накопленный эффект в отношении ожиданий всего купеческого сословия, и не только его[199]. На торговлю между удаленными друг от друга областями Ойкумены не всегда воздействовало аграрное благополучие даже целого региона, где находился торговый город. На деле торговля аридной зоны брала так много от разных областей, что судьба одного из этих регионов не могла быть решающей. Нам очень недостает соответствующей статистики. Но даже при ее наличии нельзя было бы точно сказать, какими были последствия: она могла означать открытость для самых разных новых методов и понятий с последующим процветанием; или нарушение всех установленных законов и даже экономический паралич; или многое другое, в зависимости от стечения обстоятельств. Но уникальное положение в точке пересечения торговых путей нельзя не учитывать. И его влияние наверняка росло с развитием мировой торговли.
То же касается и влияния рассеянности сельскохозяйственных земель и засушливости или незащищенности от военного вторжения. Типичные для мусульман убеждения (к примеру, как бы ни были они преданы родному городу, всемирному исламскому сообществу они преданы еще сильнее) нельзя просто приписать схематично поданной природе ислама или даже обстоятельствам в то время и в том месте, где родился ислам. Их следует объяснять обстоятельствами, более или менее постоянными и влиявшими на традиции в течение долгого времени, даже если такие обстоятельства иной раз очень трудно выявить.
Хрустальный кувшин эпохи Фатимидов, Египет, XI в.
На мой взгляд, разумно предположить, что необычная открытость аридной зоны для межрегиональной торговли в сочетании с ее засушливостью и доступностью для сухопутных завоевателей и имперских образований, эффект которых с течением тысячелетий только усилился, могла привести к утверждению во всем исламском мире культуры, в нетипичной степени ориентированной на рынок, и такая форма способствовала космополитизму и мобильности населения, а не гражданской солидарности. Следовательно, утверждение подобных форм культуры можно объяснить превалированием моралистических, популистских тенденций в общинах, не связанных непосредственно с землей. И, наконец, в условиях Средневековья такие традиции подтверждали открытость структуры общества и относительную свободу личности от строгих обычаев или иерархической власти, характерной для системы айянов-эмиров.
По большей части мировые торговые пути, проходившие через три ключевые области — Плодородный полумесяц, запад и северо-запад Ирана, — так сильно сокращались по морю (или проходили через удобные речные переправы), а земли эти были так выгодно расположены в их центре, что в результате образовалась точка пересечения мировой торговли всего полушария. Можно, к примеру, сравнить ситуацию с Магрибом: там были и места для остановки купцов, шедших через Средиземное море, и постоялые дворы для караванов, шедших через Сахару, но их число было относительно ограничено, и (в течение долгого времени) располагались они в отдаленных районах. Можно провести и более точный анализ. Даже внутри аридной зоны ее несколько областей сильно отличались друг от друга по степени обладания ключевыми особенностями, характерными для всего региона. Не все области аридной зоны обладали достаточными ресурсами, чтобы плотность населения оставалась высокой; но и среди тех, где это было возможно, не везде у крупных городов была надежная торговая база. Ею могли похвастаться земли Плодородного полумесяца и Иранского нагорья, образующие сердце аридной зоны. Пока историческая конфигурация Ойкумены сохраняла общую структуру, судьбу этих уникальных областей определяли (по крайней мере, отчасти) упомянутые особенности; и, пожалуй, в наибольшей степени — именно в Средние века. (После XVI в., когда мировые торговые пути, а с ними и весь мировой исторический контекст, включая роль таких почти постоянных прежде факторов, как засушливость, расстояния, природные ресурсы и так далее, изменились, вместе с ними изменилась и роль этих земель.)
Самый активный участок аридной зоны можно было бы описать как состоящий из трех главных территорий, каждая из которых, обладая внутренним многообразием, все же сохраняла определенное географическое и культурное единство. Самым важным (по крайней мере, в более ранний период) был Плодородный полумесяц, простиравшийся от Персидского залива до Восточного Средиземноморья. По территории Плодородного полумесяца пролегал самый привлекательный водный путь между Южными и Средиземным морями — как минимум учитывая благоприятные политические условия: вверх по Евфрату к удобному переходу через Алеппо и затем к северным сирийским портам — например, Антиохии. Поскольку крупные партии товара дешевле было перевозить по воде, это обеспечило всем городам от Басры до Антиохии громадный коммерческий потенциал. Альтернативный водный маршрут — Красное море — был опасен и невыгоден, а переход до Нила открыт всем ветрам, кроме участков, когда от штормов защищал канал, но в течение большей части исламского периода канал заиливался. Двуречье также служило рубежом главного сухопутного маршрута на восток до Китая и Индии и на север. Более того,
Плодородный полумесяц был потенциально богат и многообразен: Ирак и Хузистан образовывали относительно плодородную долину с наносной землей, где росли финики и хлебные злаки, даже когда массивная ирригация Савада перестала приносить прибыль. Сирийские горы в дальнем конце пути были не слишком крутыми и позволяли выращивать стандартные средиземноморские культуры — фрукты, оливки и зерновые — и даже добывать руду. На суше Плодородный полумесяц граничил с относительно хорошо орошаемыми Анатолийским, Прикавказским и Западно-Иранским нагорьями и со сказочно плодородными берегами Нила.
Вторая ключевая территория — Западно-Иранское нагорье, пролегающее между Кавказскими горами, Каспийским морем и Персидским заливом на юге. Порты в заливе обладали, пожалуй, меньшим значением, чем относительно легкие маршруты к северной границе Ирака, до самого Багдада. Через северную часть территории до обоих иракских путей к югу и прямо до залива пролегал самый удобный маршрут от бассейна Волги и всей восточной части европейской орошаемой зоны, вокруг восточной оконечности Кавказа (или через Каспийское море) до Персидского залива и от него ко всем Южным морям. А на востоке через узкий проход между прикаспийским Эльбрусом и центральными иранскими пустынями шла единственная удобная дорога через Центральную Евразию в Китай (и в Индию, насколько было возможно по суше) из всей западной части Африки и Евразии. Она оставалась самым легким маршрутом из Средиземноморья и районов к югу от него, даже после того как был открыт путь севернее (еще в доисламский период) из Восточной Европы. На западной окраине региона находились крутые горы, где хозяйничали племена (в основном курды по языковой принадлежности), сочетавшие скотоводство и земледелие; с востока края региона терялись в пустыне; но плато между ними, включавшее Азербайджан на севере, Аджамский (Неарабский, Персидский — прим. ред.) Ирак в центре и Фарс на юге, изобиловало источниками ирригации. Выпадало много сезонных осадков, особенно на севере. (Вдоль южного побережья Каспия располагался обильно орошаемый район, где возделывали поля и добывали лесоматериалы.) На этих землях с более прохладным климатом, чем в долине Месопотамии, население умело пользоваться своими культурными и экономическими преимуществами в качестве и завоевателей, и потребителей.
Северо-восточное Иранское нагорье было не так важно для торговых путей, по меньшей мере, в раннем Средневековье; учитывая все факторы, это был наименее значимый из трех регионов в ирано-семитской истории. Но и он являлся точкой пересечения дорог всего полушария. Через него проходил Великий Шелковый путь от Средиземного моря до Китая, а также сухопутные дороги из всех индийских областей через Пенджаб до Китая или до Средиземного моря на севере — дороги, по значению уступавшие лишь морским путям. Здесь уже восточный край нагорья (частично заселенный афганскими пуштунами) вел к высоким и труднопроходимым горам (богатым минералами), в то время как западная его граница терялась в пустынях Центрального Ирана. Хорасан и земли вокруг него орошались и могли давать прекрасные урожаи.
Мечетъ султана Хасана в Каире. Фото XIX в.
Другие части аридной зоны в меньшей степени демонстрировали такое сочетание концентрации торговли со всего мира и сильно разреженных, но вполне достаточных аграрных ресурсов. В густонаселенном Египте наблюдалось резкое разграничение сельскохозяйственного сектора, богатого, производительного и замкнутого в самом себе, и сектора торгового, лишь иногда способного соперничать с Плодородным полумесяцем в обеспечении пути между двумя морями; и он предлагал только один из нескольких путей в область к югу от Сахары. Учитывая процветание и политическую важность Египта, удивительно, как мало людей, родившихся в нем, достигли известности за его пределами (не считая политических деятелей).
До относительно позднего времени все, кто становился видным культурным деятелем в Каире, были иноземцами. В Йемене и Западной Аравии пересечения торговых путей были менее значимы, а производительная база (состоявшая по большей части из сельского хозяйства на Йеменском нагорье) — более узкой. Судан обладал еще меньшей значимостью. Его торговые пути шли дальше в западную часть страны, на юге же дорогу преграждало почти непроходимое болото, а на юго-востоке — Абиссинские горы. В слабонаселенных районах юго-востока Аравии и Ирана были места для стоянок на пути к Южным морям и вдоль них, но производительность этих удаленных от берега земель оставляла желать лучшего.
Существовали еще два региона, сопоставимых с тремя ключевыми областями. Бассейн реки Инд был густонаселен и имел большое торговое значение. Синд, который был для Инда тем, чем Египет для Нила, не мог похвастаться таким высоким развитием сельского хозяйства и (будучи отрезанным пустыней Тар) представлял собой не такой удобный маршрут от моря к Индийскому региону, как Гуджарат, вдоль побережья на восток. Через Пенджаб, однако, проходил еще более важный путь, по которому шла торговля между индийскими областями и остальной частью континента — торговля, составлявшая лишь часть товарообмена, проходившего через Северо-Восточный Иран. Пенджаб тем не менее был неотъемлемо связан культурными традициями с орошаемым муссонными дождями Индийским регионом, а не с остальной аридной зоной. До относительно недавнего времени он не оказывал особого влияния на исламскую культуру.
И, наконец, бассейн Амударьи и Сырдарьи, как и бассейн Инда, тоже был не так важен для торговли, как три упомянутых нами ключевых региона. Оба бассейна исполняли роль территорий, прилегающих к Северо-Восточному Ирану, лежавшему между ними. Подобно Пенджабу, бассейн Амударьи и Сырдарьи предоставлял пути лишь для части торговли, шедшей через северо-восток Ирана, — главным образом для торговли между Китаем и индосредиземноморскими регионами. Там имелся свой собственный Египет меньших размеров (в Хорезме в устье Амударьи); были плодородные, но засушливые области в верховьях Амударьи и в Зарафшанской долине, почти прилегающей к долине Амударьи; и даже в верховьях Сырдарьи, откуда шел торговый путь на север. Но местоположение этого бассейна по многим причинам не обладало даже той значимостью, какую имел Северо-Восточный Иран. Тем не менее его роль в исламской культуре оказалась немногим менее важной, чем роль трех ключевых регионов.
Мы уже говорили о торговых ресурсах этих земель: если межрегиональная торговля могла стимулировать коммерческие интересы или способствовать космополитической ориентации, именно здесь это могло произойти с наибольшей вероятностью. В здешних городах от торговцев можно было бы ожидать минимума слепой преданности местным обычаям, максимума расчетливости и изобретательности и открытости для практичных инноваций. Но теми же путями, которыми шла межрегиональная торговля, ходили и армии. В отличие от полуостровов на севере Средиземного моря, торговые пути в своих ключевых секторах пролегали по отдаленным районам, даже когда шли вдоль рек.
С тех пор как Тир — в отличие от Афин или Карфагена — оказался весьма уязвимым для многочисленных армий из обширных отдаленных аграрных областей, в городах этого региона возникла традиция обращаться к имперской или, по крайней мере, территориальной власти — традиция, которую не так просто изменить, если только обстоятельства, приведшие к ее возникновению, не исчезнут полностью, чтобы дать возможность сформироваться альтернативным моделям поведения. Эта модель способствовала укреплению космополитизма, привнесенного рыночной экономикой, — человек учился чувствовать себя как дома везде, куда распространялась имперская власть, и приспосабливаться к изменяющимся обстоятельствам. В то же время такая традиция в большей степени благоприятствовала социальному взаимообмену между разными городами и странами в границах единой империи, чем локальной гражданской солидарности, которая могла бы подвигнуть отдельные города на совместные действия по перехвату власти в периоды локальных кризисов. Возникший в итоге упор на личные ресурсы и приспособляемость вкупе с обязательной привычкой торговаться на рынке привели бы, скорее, к сочетанию личной свободы и терпимости к военной власти, типичной для Средних веков.
Таким образом, Плодородный полумесяц, запад и северо-восток Иранского нагорья являлись землями, города которых имели более полный доступ к прибыльной межрегиональной торговле, чем любые другие города всей аридной зоны. А весь центр аридной зоны, по меньшей мере, следовал моделям, определенным этими землями. Они обладали весомым влиянием уже благодаря самой торговле: например, известные люди, жившие вдоль торговых путей, быстрее становились популярными и в других местах, чем их конкуренты из менее посещаемых мест. Вероятно, жители ключевых регионов считали исламские традиции наиболее подходящими им по духу. Хотя народные обычаи здесь больше не могли отождествляться с ирано-семитскими традициями высокой культуры в ее исламской форме, и другие земли вносили активный вклад в эту культуру, и хотя исламские культурные традиции подошли и другим совершенно разным по духу областям, все же возникает ощущение, что условия на этих землях, где исламские обычаи изначально возникли, еще долго оставались наиболее благоприятными для их дальнейшего развития.
Шаткость аграрной власти в центре аридной зоны
Какой бы вес мы ни придавали относительно обширным и самостоятельным ресурсам коммерческого элемента жизни городов, они сами по себе не могли обеспечить ключевую роль, которую играли торговые сословия данного региона в культуре. На мой взгляд, их ресурсы могли иметь значение лишь потому, что землевладельцы в это же время находились в относительно шатком положении и не могли навязать свои собственные культурные нормы всему обществу.
Сословия, которые в тот момент контролировали земельные ресурсы, не всегда обладали (это уже ясно) самой большой или даже решающей властью. И города в большей части исламского мира не способны были не только установить свои нормы для помещиков, но и образовать независимые анклавы, где избежали бы их влияния. А аристократическая культурная традиция аграрного общества всегда процветала и располагала большим влиянием, чем любая другая. Слабость аграрного помещичьего сословия была относительной, и ее можно определить так: придворные и аграрные обычаи предписывали льстить и признавать верховное господство той культурной традиции, которая больше подходила рынку и городскому торговому сословию и которая в полном смысле преобладала лишь среди представителей последнего. Исламская высокая культура была не только городской (в большей степени, чем большинство культур аграрных городов), когда помещики были теснее связаны с землей, чем обычно в исламском мире; в этом она также обуславливалась городским популизмом, которому принадлежало монопольное право устанавливать культурные нормы.
Мы можем отследить как минимум три причины нестабильности аграрной власти: ее относительную рассредоточенность, особенно в сравнении с концентрацией торговых городов; нестабильность сельского хозяйства и слабый контроль над крестьянами; и, наконец, активизацию соперничества со стороны кочевников-скотоводов. Влияние каждого из трех факторов со временем только усиливалось.
Невозможно точно вычислить, какая именно часть населения центра аридной зоны проживала в городах и было ли соотношение городского населения здесь выше, чем в различных областях Индии или Европы. Но представляется возможным, что в непосредственной близости от почти любого крупного города количество состоятельных граждан, живших за счет земли, не так сильно превышало среднее число таких граждан в менее засушливых регионах, как это было в случае с долей граждан, получавших свои доходы от торговли, включая и межрегиональную торговлю. В любом случае ресурсы аграрной власти, как правило, были рассредоточены, скопления пахотных земель часто отделялись одно от другого огромными участками пустоши; крупные крестьянские вооруженные формирования, к примеру, надо было собирать из разбросанных на значительные расстояния мест. Напротив, городское население и высшее сословие, сформированное из животноводов (зачастую действовавших заодно с городскими сословиями, посредством которых они торговали своими продуктами), располагали относительно большим количеством ресурсов, чем во многих других регионах. Между городами существовало более эффективное сообщение благодаря торговле друг с другом и постоянным переездам купцов, чем на других территориях: обычно дело не доходило до военного сотрудничества, но города оказывали друг другу моральную поддержку и предоставляли убежище жителям в случае опасности. (А предводители кочевников с их мобильностью могли довольно быстро собрать огромные армии скотоводов.) Конечно, эти города были привлекательны в культурном отношении для представителей привилегированных сословий как среди животноводов, так и среди аграриев; они, как правило, лишали деревню не только материальных ресурсов для высокой культуры, но и ее представителей — в большей степени, чем в Европе и Индии в тот же период. По мере развития межрегиональной торговли и распространения и совершенствования пасторализма аграрная власть продолжала слабеть.
Роберст Д. Во дворе мечети Хасана в Каире.
В некоторых областях аридной зоны рассредоточенность сельскохозяйственных угодий сделала крестьян беспомощными, поскольку они не могли свободно переселяться, отчасти из-за огромных расстояний и отсутствия плодородной почвы. Во многих районах Индии, орошаемой обильными муссонными дождями, для крестьян было обычным делом вырубать новые участки леса для культивации и забрасывать старые, когда те становились менее плодородными. Но крестьяне, жившие в маленьком изолированном оазисе, не имели такой возможности. Тем не менее в большей части центра аридной зоны крестьяне демонстрировали достаточную мобильность, поскольку находились другие поводы переезжать с места на место. Процесс зашел так далеко, что стал представлять собой второй фактор слабости аграрной власти.
Часто старые истощенные сельхозугодия забрасывали, когда начинали обрабатывать новые. Там, где использовалось орошение, происходило засоление почвы — слишком активная ирригация без адекватного дренажа приводила к тому, что вода засолялась и поднималась к поверхности, где мешала корням растений. После этого земледельцу приходилось переходить на новые угодья, где ирригационная система (зачастую построенная весьма небольшой группой крестьян) делала пригодным для земледелия участок пустыни. К тому же эффекту могла привести и попытка помещиков или правителей получить от крестьян слишком большое количество излишков. Как правило, земельные участки были ограничены по площади, поэтому их возделывание имело смысл только в случае, если налоги и оброк были низки. Уход со старого обремененного непомерным налогом участка мог окупить усилия, которые предстояло затратить на культивацию нового. Более того, как мы увидим далее, после голода или чумы даже в плодородных районах оставалась бесхозная земля. И в определенных обстоятельствах крестьяне могли становиться скотоводами, дабы избежать угнетения.
В подобной ситуации на большей части Плодородного полумесяца и на Иранском нагорье почти невозможно было ввести крепостное право. Крестьяне, какую бы сильную любовь ни испытывали они к своим домам, всегда могли переехать в другое место и чувствовать там себя комфортно. Это не значит, что некоторые крестьянские семьи не жили многими поколениями в одной и той же деревне и что крестьяне не испытывали жестокого угнетения, особенно вблизи городов. Иногда жизнь земледельца-арендатора приносила свои маленькие радости. Так, если передача половины собранного урожая означала обработку вдвое большего участка земли, дополнительный надел был весьма полезен в качестве пастбища для домашнего скота или собственного прокорма. Но в случае крайнего недовольства или природного бедствия или в других подобных обстоятельствах крестьяне могли найти и часто находили способы заявить о своей независимости.
Следовательно, землевладельцы не только были разъединены по сравнению с торговым сословием городов, они как класс демонстрировали нестабильность, неспособность опереться на постоянный костяк крестьян или даже на постоянный объем земледелия. Таким образом, тенденция к доминированию городов над селом в культурном отношении укреплялась нестабильностью самого сельского сектора.
Скотоводы как решающая политическая сила
Пожалуй, самый важный фактор ослабления аграрной власти и, следовательно, формирования характера той части ирано-семитской культуры, которая связана с торговым сословием, — это присутствие огромного количества автономных скотоводов как потенциальных соперников аграрного класса в борьбе за власть. С самого начала кочевники всех мастей играли необычайно важную роль в регионе между Нилом и Амударьей. Затем, с приручением лошадей, а потом и верблюдов, данный регион стал единственным из крупных ключевых в культурном отношении областей, где кочевые скотоводы играли постоянную и важную политическую роль.
Для территорий, где выпадает малое количество осадков, кочевники представляли собой особенно серьезную угрозу. В аридной зоне, где огромные пространства обусловили автономию более склонных к приключениям кочевников, скотоводы и земледельцы образовали разные социальные группы. Как только это произошло, они стали соперничать за те земли, где осадки было трудно прогнозировать: один год мог оказаться очень урожайным и прибыльным, а в другой культуры бы не уродились, но в то же время земля послужила бы прекрасным пастбищем. Качнуть маятник в сторону кочевников могло и то, что они с легкостью избегали оброков и налогов, которые были обязательны для земледельцев. Как только скотоводы утверждали свое господство — или, как это бывало, крестьяне становились скотоводами, — отнять у них землю для культивации было трудно, а жители деревень по соседству могли так натерпеться от их набегов, что бросали заниматься земледелием. Таким образом, как только аграрные правительства ослабевали, огромная часть Плодородного полумесяца попадала под влияние кочевников.
С другой стороны, влияние кочевников могло бы нивелироваться даже без правительственного вмешательства, если бы тому способствовали социальные условия. Сами кочевники, даже не имея приказа от предводителя осесть на одном месте, могли бы понять, что сельское хозяйство на их землях — дело прибыльное, если земледельца не обдирают поборами. Но крестьяне с подобным опытом с готовностью становились скотоводами. Земледельцы из «оседлых бедуинов» в Джазире известны тем, что после возделывания земли в течение нескольких поколений они присоединились к своему племени в отдаленных районах Аравии. Таким образом, кочевое скотоводство помимо прямого влияния на сокращение аграрных ресурсов способствовало дальнейшей активизации переселений.
Но влияние присутствия кочевников заключалось не только в том, что они были свободны и, даже становясь крестьянами, сохраняли своенравие и отказывались подчиняться властям. В некоторой степени такие привычки, как на уровне крестьянства, так и у правящих классов, объяснялись их кочевым происхождением. Когда крестьяне, происходившие от кочевников, объединялись в племенную структуру, они представляли угрозу для помещиков. Когда же по племенному принципу создавалась армия, центральное правительство оказывалось в серьезной опасности. Но свобода самих кочевников была строго ограничена, будучи в большей степени свободой кланов, чем отдельных людей. У такой свободы могли быть более серьезные последствия, чем проверки на прочность центральной власти. А приспособление к оседлой жизни происходило стремительно, как только кочевники вышли за рамки своей весьма узкой сферы и попытались освоить гораздо более многообразные модели аграрной жизни, предполагавшие гораздо более широкие горизонты, чем их кочевая жизнь. (Проводимая некоторыми исследователями параллель между привычкой кочевников «скитаться» и склонностью к переездам с места на место — мобильностью — многих странствующих купцов, ученых и суфиев, конечно, является следствием того, что они путают масштабные, но повторяющиеся циклы передвижений кочевых кланов с нормальной ротацией свободных индивидуумов в обществе.)
Кроме своенравия кочевники также отличались воинственностью. Но их соперничество с земледельцами опиралось не только на военную мощь. Номады представляли собой серьезную военную силу, но хорошо организованная аграрная власть с армией из числа крестьян могла бы легко справиться с ними на своей территории.
Скорее, дело заключалось в том, что скотоводы образовали реальную альтернативу, всегда доступную в случае ослабления аграрной власти и любого представляющего ее центрального правительства. В животноводческой экономике (особенно это касается конных кочевников) были свои привилегированные сословия, аналогичные земледельческим, способные распоряжаться силами и временем многочисленных рядовых скотоводов, с которых могли взимать пошлину в виде скота и которых набирали в армию — так же, как это делали помещики, набирая пехоту из крестьян. Более того, животноводческая экономика обладала собственными связями с городом — так же, как и земледельческая. До некоторой степени города со скотоводческой базой могли процветать так же, как и на основе продуктов земледелия. Эта продукция была необходима как скотоводам, так и городскому населению. Кроме того, шкуры, ковры и одеяла, мясо и молоко, предлагаемые скотоводами, могли бы стать столь же важными источниками процветания, как добавочный земледельческий продукт. Я подозреваю, что именно земледелие, а не скотоводство, обычно ассоциируется с процветанием городов по административной, а не экономической причине: скотоводство, как правило, служило менее надежной основой для налогообложения со стороны города и, следовательно, для накопления богатства и зависящей от него высокой культуры.
Чрезвычайно жизнестойкая скотоводческая экономика, закрепившись где бы то ни было, начинала расширять свои границы за счет более однородной аграрной экономики. Эта система достигла уровня наивысшей сложности в пустынях и степях, где земледельческие оазисы встречались нечасто, а количество продуктов земледелия было незначительным. В областях с более интенсивной агрикультурой и меньшим простором для передвижения кочевников — где горы или возделанные поля мешали племенным вождям наращивать численность своих отрядов, а земледелие было более прибыльным, чем скотоводство, — независимая власть кочевников вряд ли могла возникнуть самостоятельно. Но из степей она могла распространиться на менее благоприятные территории, особенно туда, где имелись большие по площади районы, в которых кочевое скотоводство могло быть более успешным, чем оседлое. В таких вторичных регионах кочевой образ жизни вели этнические группы — арабы или тюрки, — изначально усвоившие его в более просторных первичных регионах. Таким образом, скотоводческая экономика с ее собственной структурой власти была способна соперничать с аграрной даже в регионах, относительно благоприятных именно для земледелия.
Несмотря на то что аграрная экономика и те, кто ею управлял, по-прежнему доминировали, скотоводческая экономика была достаточно сильна, чтобы определить исход борьбы за власть. В такой борьбе вожди кочевников, естественные враги землевладельцев, легко могли войти в сговор с торговым городским сословием. Периодически возникало взаимовыгодное сотрудничество купцов курайшитов в Мекке и племен бедуинов, хотя в подобных комбинациях в итоге решающее слово имели кочевники, а не купцы. Иногда кочевые вожди получали в свои руки непосредственный контроль и над аграрной экономикой, как это случилось в Иране при сельджуках. Но тогда их приход к власти не способствовал укреплению сельского хозяйства, поскольку не мог обеспечить сохранение высоких аграрных традиций. Что касается землевладельцев, то им приходилось иметь дело не только с крестьянскими мятежами, но и с набегами кочевников. А во времена кризисов ряды аристократии пополнялись кадрами не только из аграрной прослойки, но и из числа кочевников-чужаков, которые не имели понятия о земледелии как о фундаменте этого общества.
В любом случае, какая бы политическая комбинация интересов ни возникла, присутствие кочевников оказывало решающее влияние, прямо или косвенно: в некотором смысле баланс власти определялся вождями кочевников. Очевидно, земледельческая аристократия могла бы поглотить многие приливы кочевников без каких-либо серьезных изменений в своей структуре, если бы к тому моменту не поблекла культурная привлекательность самой аграрной власти. Но присутствие кочевников-скотоводов в контексте относительной слабости аграриев и усиления торговцев помогло качнуть чашу культурных весов в сторону города, где в противном случае их присутствие было бы просто тормозящим или радикально опустошающим фактором (как это было на землях Судана)[200].
Мы детально рассмотрели сравнительное доминирование коммерческого культурного мировоззрения в центре аридной зоны, которому способствовали межрегиональная торговля и имперский космополитизм, и сравнительную слабость аграрного культурного мировоззрения, поставленного под угрозу переселениями крестьян и притязаниями кочевников. Пожалуй, теперь стало понятнее, почему центральный регион исламского мира нашел кардинальное решение проблемы заключения огромного сообщества в аграрные рамки. Но тут я должен предупредить об эффекте удаленности во времени по отношению к данным обстоятельствам. То, что возникшая ситуация достигла наивысшей точки развития именно в Средние века, лишь отчасти объясняется событиями того времени. В частности, его эффективность была результатом постоянных процессов, происходивших в регионах.
Кочевые скотоводы всегда пользовались большим влиянием в исламском мире, но главенствующую роль они играли лишь в Средние века, особенно после набегов на юг и запад от Амударьи тюрков-огузов, ассоциируемых с сельджуками (и почти одновременного набега бедуинов-верблюдоводов племени хиляль и родственных ему племен на Магриб). Такое распределение событий во времени было отчасти связано с длительной эволюцией кочевого скотоводства, особенно уклада конных кочевников евроазиатских степей, на котором мы подробнее остановимся в IV книге. Подобным же образом можно более или менее определить хронологию событий, влиявших на обсуждаемый нами баланс между влиянием землевладельцев и торговцев, а именно определенного длительного ухудшения состояния сельского хозяйства в аридной зоне (на котором мы также остановимся в IV книге) и, конечно, общего развития афро-евроазиатской межрегиональной торговли. Но последствия данных обстоятельств не всегда можно напрямую соотнести с датированными событиями, служащими их наглядным проявлением, например, набегами огузов. На саму текстуру исламской культуры влиял кумулятивный процесс, нараставший все время, пока присутствовали описываемые нами обстоятельства.
Минимальные политические и социальные требования общества в конечном итоге определялись его экологией, то есть доступными природными и социальными ресурсами, необходимыми для выполнения различных обязательных задач на том или ином техническом и организационном уровне. С течением веков укреплялись именно те социальные институты, которые доказывали свою жизнеспособность в описываемой нами экологической ситуации и соответствовали ее требованиям. Так эти институты ирано-семитской культуры могли пережить временные изменения в экологическом фундаменте общества, сохраняя последовательность социальных механизмов независимо от того, какой элемент власти укреплялся или ослаблялся — аграрный, пасторальный или торговый. Даже когда международные торговые пути меняли свое направление, или мировая торговля на какое-то время становилась менее интенсивной, общие культурные тенденции региона сохраняли свое влияние, будучи уже заложенными в основу социальных институтов и ожиданий общества. Описываемый нами процесс развивался до тех пор, пока сохранялись его главные базовые предпосылки на большинстве территорий. Своего пика он достиг в Средние века, в эпоху ислама.
В частности, сама исламская традиция во многом была продуктом космополитического и коммерческого общественного уклона в регионе между Нилом и Амударьей. Законами шариата и, как мы увидим, предписаниями суфиев, вопреки периодическим попыткам структурировать общество по иерархическому или общинному принципу, она способствовала тяготению общества к открытой свободной структуре. И все-таки даже ислам можно было заставить послужить иной тенденции, когда та достигала достаточного развития.
Несмотря на важность последовательности институтов, как только происходило какое-то масштабное изменение в природном или социальном аспекте экологической конфигурации общества, этот процесс начинал двигаться в обратную сторону. Затем могла начать формироваться новая модель на базе тех же интересов, что легли в основу предыдущей. Инверсия или даже серьезное изменение любого из трех факторов нестабильности аграрной власти могли инициировать культурный процесс, который дал бы обратный ход патовой, как я выразился, ситуации в отношениях аграрного и торгового сословий. Это, в свою очередь, остановило бы процесс фрагментации и милитаризации политики, характерных для ислама Средних веков. С началом использования в военных действиях пороха такое изменение, похоже, начало происходить: производство огнестрельного оружия наконец вытеснило давно пришедшее в упадок сельское хозяйство Савада в качестве опоры для сильной центральной власти. Более того, ослабла угроза отъема власти кочевниками у аграриев. Таким образом, в XVI в. некоторые ключевые особенности давно формирующегося ирано-семитского общественного уклада все-таки начали меняться в обратную сторону.
Переселения и этнические изменения
Мы уже обсудили общие предпосылки основных тенденций в регионе между Нилом и Амударьей в Средние века. Однако прежде чем перейти к исследованию внутренней организации сегментов общества, нам следует разобраться в некоторых моментах демографического движения в регионе, в результате которого определились отношения между различными группами населения.
При определенных обстоятельствах номадизация могла происходить в форме перехода от одной этнической структуры к другой; или, говоря точнее, от одного соотношения групп разной лингвистической или другой культурной принадлежности к другому (поскольку почти никогда население не было однородным по своему лингвистическому и культурному наследию). Такие этнические изменения приводили к различным культурным последствиям. Номадизация имела больше шансов на устойчивость, когда сопровождалась этническими переменами. А когда перемены происходили быстро, они могли привести к культурной двойственности в областях, где люди говорили на двух языках и, следовательно, принадлежали к двум культурам. Это могло бы способствовать большей восприимчивости к нетрадиционным инициативам (так, вероятно, происходило в Анатолии в течение какого-то времени после ее завоевания тюрками) или снижению интенсивности культурного развития. Этнические перемены далее вели к преобладанию этнически отличных друг от друга малых групп населения, мало общавшихся друг с другом и обладавших еще меньшей гражданской сплоченностью, а также к широкому распространению языков межнационального общения, благодаря чему стало возможным повсеместное использование нескольких высокоразвитых литературных языков. В общем и целом скорость и направление этнических изменений могли нарушить целостность или последовательность традиции в экономике и высокой культуре. А неразрывность традиции являлась главным социальным ресурсом для процветания. Учитывая все эти причины, можно вывести несколько далеко идущих демографических принципов, которые пригодятся и для понимания социальной мобильности в городах и селах.
Робертс Д. Мавзолеи фатимидских правителей в Каире
Мы должны исключить превалирующий в наши дни мальтузианский принцип, когда в отсутствие особых ограничений население поднимается до локального предела жизнеобеспечения. Как правило, имелись незанятые пространства, куда можно было расселяться. Но следует исключить и более или менее расистскую характеристику поведения населения, представление о котором кроется в распространенных предубеждениях о неких «сильных» и «молодых» народах либо «вырождающихся» племенах, вынужденных мигрировать из-за бедности или войн, и порабощенных народах, выживших только по милости завоевателей. Необходимо всегда брать за основу (если примеры не доказывают иного) тот факт, что в любой отдельно взятой области в тот или иной отрезок времени биологический состав общества был, скорее, единым, чем разнородным, кроме отдельных случаев в самых высших слоях. Но, кроме того, почти непрерывно происходило перемещение населения, независимо от наличия или отсутствия новых выдающихся этнических групп. Этот процесс, возможно, имеет важнейшее значение для многого; и я полагаю, что более наглядные перемены можно толковать как вариации процесса, который происходил всегда.
Перепады показателей роста населения, по-видимому, зависят от показателей внутриутробной и детской смертности (различия в уровне рождаемости в лучшем случае играют второстепенную роль), среднего возраста, ранней смертности взрослых и нетипичной смертности во времена бедствий (во всех регионах в аграрную эпоху стихия время от времени сильно сокращала численность населения). И, во-вторых, численность населения варьируется при наличии так называемых мер «социального» контроля — когда определенное количество женщин воздерживаются от сексуальных отношений, применяются средства контрацепции, аборты, практикуется детоубийство. По-видимому, когда естественные условия позволяли населению перерасти предел ожиданий местного общества — в результате общего улучшения здоровья или материального благополучия, — в довольно стабильных обществах на помощь призывались «социальные» методы: повышение брачного возраста или ограничение рождаемости. Но в аридной зоне в общем и целом такие методы не одобрялись, и морально-этические нормы, по крайней мере в монотеистической традиции, стимулировали максимальную рождаемость. Следовательно, можно предположить, что природных ограничений роста населения обычно хватало — либо потому, что из-за многовековой социальной эксплуатации большая часть населения привыкла к относительно низкому уровню здоровья и, следовательно, к высокой смертности, или потому, что локальные катаклизмы приводили к неожиданно частым бедствиям. (Нет нужды говорить, что рассредоточенность источников жизнеобеспечения, засушливость как таковая здесь не имеются в виду: для каждого уровня природных ресурсов, как бы ограничен он ни был, найдется подходящий уровень численности населения, который можно превысить или которого можно не достичь.)[201]
Несмотря на отсутствие каких-либо серьезных исследований демографии в исламском мире до XVI в. (хотя и по другим регионам их очень мало), полагаю, я могу разграничить два вида перемещений населения в аридной зоне вплоть до Нового времени. Какую бы роль ни играло обилие бедствий в предотвращении чрезмерного роста населения, характерный уровень смертности от них, вероятно, сыграл важную роль в перераспределении населения в пределах региона. Наряду со стихийными бедствиями обычный уровень смертности повышали три страшных бича: войны, эпидемии и голод. Но эти напасти влияли на различные регионы по-разному. Почти в любом обществе аграрных городов население можно разделить на три категории: городское, жителей пригородных деревень и жителей отдаленных деревень. С учетом всех факторов поражающая сила этих бичей от города к отдаленному селу падала. Так возникал территориальный градиент в численности населения.
С другой стороны, классы общества отличала друг от друга не столько разница в уязвимости перед бедствиями, сколько различия в обычном уровне смертности. Чем более привилегированным было сословие, тем лучше оно питалось, тем ниже была в нем смертность детей и женщин и, следовательно (поскольку общество ожидало максимальной рождаемости), более многочисленно выживающее потомство. Так формировался классовый градиент численности населения. Таким образом, вероятнее всего, потомки известных правящих родов или члены племен-завоевателей, а также семей священников и других образованных классов будут очень многочисленны не только относительно к численности привилегированных слоев, но и по отношению к общей численности населения. Следовательно, завоевание и военная колонизация приведут к некоторым этническим изменениям и более интенсивной миграции, чем обычно. Однако эти изменения были гораздо менее масштабными, чем можно было бы предположить, если верить всем родословным более поздних потомков (по мужской линии) первых арабских завоевателей (особенно от Хасана или Хусайна), знатных Сасанидов или тюркских героев.
Соответственно существовало два вида миграции: в пространстве, из отдаленных деревень в города, и по классовой структуре — от высших слоев общества к низшим. Оба вида влекли определенные этнические последствия, иногда взаимодополняющие, а иногда и противоречащие друг другу.
Здесь следует разъяснить суть перемещения людей в пространстве, территориальный градиент, поскольку он имел, пожалуй, самые сложные последствия. Городское население сильно страдало от трех упомянутых бед; города то и дело пустели. Самый жестокий урон наносили городам войны. В какой-то степени городские стены защищали людей от бандитизма или даже вооруженных набегов, которые разоряли пригородные деревни и обращали крестьян в бегство. Но когда город завоевывали чужаки (что случалось довольно часто), стены могли стать тюрьмой, мешая жителям укрыться от пожаров и бойни, которые следовали за оккупацией. Подобным же образом многочисленное население городов становилось легкой жертвой эпидемий. Только голод относительно щадил города, где, как правило, хранились запасы продовольствия и куда в первую очередь доставлялись продукты из других городов и стран. В долгосрочной перспективе (по этой и, вероятно, некоторым другим причинам) города, по-видимому, не могли поддерживать численность своего населения благодаря одному только его размножению.
Войны и эпидемии сказывались на деревне лишь немногим меньше, чем на городе. Заразные болезни, несомненно, уносили там гораздо меньше жизней, но во время войн, хотя непосредственных убийств здесь было меньше, армии агрессоров уничтожали посевы и отбирали скот, сокращая запасы, с помощью которых крестьяне могли пережить голод. Именно в сельской местности голод быстрее поражал население, когда случались неурожаи. Любые произведенные крестьянином излишки обычно утекали в город в качестве податей, и городское население имело на них первоочередное право. Лишь правительство с высокоразвитой бюрократией могло контролировать зерновые запасы, способные предотвратить голод. Таким образом, сельское население не могло увеличиваться за счет максимального использования всех доступных земельных ресурсов, и сельское хозяйство в целом, кроме пригородных районов, оставалось интенсивным. Тем не менее численность крестьян росла. Можно только предположить, мы не знаем этого наверняка, что большинство крестьян питались более сбалансированно, чем городская беднота. В любом случае, недостающих жителей в опустевшие города часто привлекали из числа избыточного деревенского населения.
Именно в отдаленных деревнях три бича ощущались наименьшим образом. В сравнительно недоступных для сборщиков налогов горах, степях и пустынях, где постоянно скитались кочевники, не поддающиеся учету и контролю, постоянно происходили мелкие стычки, но массовые убийства, типичные для городов, случались редко. Да и эпидемии, полагаю, переносились там легче. Привилегированные элементы, присутствовавшие там, обычно не имели разнообразных и специализированных запросов, которым отвечала многогранная жизнь города, и им требовалось прокормить своими излишками (несомненно, меньшими, чем у городской знати) меньше народу. И, так или иначе, они были тесно связаны с обычными людьми и чувствовали личную ответственность за них в случае голода. Как бы там ни было, массовая смертность наверняка случалась там реже, кроме тех случаев, когда истощение местных ресурсов оказывалось предельным. Хотя нехватка людей или животных на какое-то время влекла за собой падение производительности ниже нормального экологически обусловленного уровня, полагаю, в долгосрочной перспективе ситуация там чаще, чем в других местах, приближалась к мальтузианской, привлекая мигрантов[202].
Для производства излишков было сравнительно больше места в пригородной зоне, где голод мог сказаться задолго до того, как землю задействуют полностью, а земля возле города, способная принести больше прибыли на определенное количество затраченного труда, могла показаться более привлекательной в тех нечастых случаях, когда наблюдалось послабление с налогами. Выносливость горцев и мобильность кочевников, не обремененных необходимостью защищать свои вложения в домашнее хозяйство и поле, усугубили тенденцию к миграции, предоставляя чужакам изначальное преимущество в следовавшей затем борьбе за власть. (Действительно, одним из самых распространенных способов для людей из отдаленных районов стать городским населением было поступление на военную службу.) В тех частях планеты, где земледельческое население было многочисленным и хорошо организованным, а территории, относительно свободные от влияния города, редкими, проникновение людей из отдаленных районов было минимальным или отсутствовало вовсе. В аридной зоне, где «отдаленные» районы находились неподалеку от всех густонаселенных сельскохозяйственных земель, переезд людей из них стал весьма ощутим. Следовательно, в то время как самые отчаявшиеся или склонные к авантюрам крестьяне из пригородных районов шли в город, чтобы восполнить там потери населения, крестьян в деревню набирали из более отдаленных областей.
Этот территориальный градиент населения, как правило, имел ограниченное влияние на изменение культурного и этнического состава населения в целом. Новичков в пригородной местности было слишком мало, чтобы их ассимиляция сказывалась на ее культурных обычаях, навыках и языке. То же касается и миграции из деревни в город. В некоторой степени в аридной зоне могла существовать тенденция, при которой генетически доминировали элементы, представлявшие население отдаленных районов. Эта тенденция усиливалась за счет того, что вновь прибывшие, иногда благодаря своей агрессивности, сразу занимали привилегированное положение. Она поддерживалась перемещением населения от более состоятельных высших слоев к низшим — особенно когда более богатые мужчины имели возможность брать себе нескольких жен и контролировать верность своего потомства культурным принципам. Но такие генетические последствия не обязательно влияли на культуру. (Надо заметить, что, вероятно, генетически заложенные способности разных групп в важных культурных аспектах действительно варьируются, но, поскольку сейчас нам неизвестно, в чем именно заключались различия, мы не можем обращаться к ним в ходе исторического анализа.)
Но временами территориальный градиент увеличивался — оседлое население сильно редело, одновременно появлялись новые группы, слишком многочисленные, чтобы быстро ассимилироваться. Происходили заметные этнические перемены. Так, в Средние века крестьяне бассейна Амударьи и Сырдарьи, Азербайджана и Анатолийского нагорья стали говорить на тюркском языке, отказавшись от прежних персидского и греческого. Оседлые скотоводы занимали более выгодное положение, по крайней мере, в ключевых аспектах, и остатки персо— и грекоговорящего населения постепенно были ассимилированы тюркоговорящими, а не наоборот. Как только распространилось двуязычие, выбор одного из двух языков стал зависеть не от того, какая пропорция населения его предпочитала, а от того, какой из них использовался в ключевых аспектах жизни — таких, как рыночная торговля или городское управление. И тут снова сказывалась тенденция высших слоев к превышению своей численности. Так, язык меньшинства мог возобладать, если в нем плотность населения была достаточно высокой, а занимаемое положение — достаточно выгодным.
Такие языковые изменения обязательно влекли изменения в фольклоре и культурных традициях в целом, так как обычаи доминирующей народности имели наибольшее влияние. Это приводило к изменениям, а иногда и утрате ремесленных навыков. Точнее (в случае с кочевниками), это влекло усиление племенных связей даже среди крестьян и, следовательно, относительную независимость и готовность перейти к скотоводству при плохих условиях для земледелия. (Если новая этническая конфигурация достигала городов, она, в свою очередь, могла повлечь еще более резкий разрыв культурной традиции, поставив под сомнение прежние культурные принципы.)
В аридной зоне территориальный градиент населения всегда был велик. Само наличие протяженных и относительно незаселенных участков гор и степей всегда делало переселение людей из этих районов в города или в места неподалеку от них как минимум ощутимым. Поскольку численность населения в городах и пригородных зонах обычно держалась на уровне ниже того, который возможен при полном использовании всех сельскохозяйственных ресурсов, всегда имелись свободные места для заселения новых групп. Даже когда целые обширные районы не принимали новую этническую принадлежность, несколько деревень могли создать этнический анклав. Регион между Нилом и Амударьей точечно заселили группы разных народностей, происходившие из разных горных или степных районов, и ассимиляция в таких условиях шла довольно медленно.
Обратным процессом стало распространение на обширных густонаселенных территориях языков межнационального общения. В этом проявилась постоянная тенденция этносов к взаимообмену и смешиванию: так, на всей обширной территории от Египта до верховья Амударьи превалировали два языка, арабский и персидский, с незначительными местными диалектическими вариациями. Пока тюркский вытеснял персидский на севере, на западе (в Магрибе) арабский сменял берберские диалекты. Кроме областей, где градиент населения был необычно велик, в итоге на той или иной территории распространялся язык, закрепившийся в городах, поскольку это был второй язык, которым должны были владеть активные крестьяне, кроме своего родного диалекта. Следовательно, когда крестьяне разных национальностей селились рядом друг с другом, этот язык становился средством общения. На фоне распространения лингвистической однородности на какое-то время сохранялись очаги языкового разнообразия — до тех пор, пока их не поглотил в силу своей привлекательности более распространенный лингва франка (и не вытеснили новые лингвистические очаги).
Б. Система айанов — эмиров
Теперь нам предстоит подробнее рассмотреть, как развивалась и действовала система социальной власти айанов-эмиров, сначала в сельской местности, а затем и в городах. Надеюсь, данное описание общества в действии придаст правдоподобия моему анализу роли в ее формировании городских умонастроений и космополитизма, которые прослеживаются в центральных областях аридной зоны. Начнем с земли. Фундаментом любого общества аграрного типа были, разумеется, аграрные отношения, имевшие место на этой земле. Именно характер деревенской жизни обусловил сочетание в исламском мире свободного крестьянства и военных землевладельцев, а это также во многом определяло последствия такого сочетания.
Деревни
Между Нилом и Амударьей, как почти везде в аграрную эпоху, основная масса населения даже в отдаленных горных районах жила в деревнях. Деревня могла быть большой, в ней могли жить тысячи людей, и все они либо работали непосредственно на земле, либо оказывали услуги, имевшие прямое отношение к земледельцам. Или она была маленькой — всего горстка семей в месте, где воды хватало лишь для минимального пахотного участка. Отдельный земледелец с семьей, изолированный от других на своем наделе, как правило, не являлся жизнеспособной единицей, уже хотя бы потому, что одна семья была не в состоянии защитить свой урожай даже от шайки грабителей. Более того, чтобы обеспечить нужное количество рук для общественных и ремесленных работ, существовала потребность в непрерывных отношениях с более многочисленной группой. Строительство, ремонт инструментов, помол муки (в регионе между Нилом и Амударьей обычно не производимые дома), даже такие удобства, как мытье в бане и услуги брадобреев, включавшие некоторые хирургические операции, требовали специалистов. В деревне были, как правило, и знатоки религии — либо шариатский факих (который мог преподавать в местной школе), либо последователь суфизма, либо тот и другой. В каждой деревне были свои зажиточные семьи, в чьих руках находилась и политическая власть. В особенно везучих селениях (свободных от отсутствующих землевладельцев) таковыми могли быть главные местные земельные арендодатели или ростовщики.
Жители могли объединять свои усилия, например, при расчистке оросительных каналов, или помогая малоимущим односельчанам собрать урожай. Многие деревни решали свои внутренние вопросы посредством старосты, как правило, выбираемого пожизненно из членов одного или двух ведущих родов самыми зажиточными и влиятельными мужчинами. Ему могли платить долей урожая каждого земледельца, взимаемой при уборке. (В некоторых селениях таким авансовым образом оплачивали услуги специалистов — например, цирюльника или плотника.)
Деревенские жители встречались на рынках; как правило, в маленьком городке, расположенном неподалеку. (Не всегда это было именно так, поскольку предполагало довольно высокое развитие рыночной экономики. В Магрибе, к примеру, блуждающие рынки переезжали с одного незаселенного пункта в другой.) Город был полезен по трем причинам. Там производились ремесленные товары, которые экономически целесообразнее было изготавливать централизованно, чем по отдельности в каждой деревне. Кроме того, город служил местом обмена излишков сельской продукции на экзотические товары, привозимые издалека. Обычно крестьяне пользовались несколькими металлическими инструментами, лекарственными средствами, покупали сладости и безделушки, талисманы и даже некоторые виды ткани на одежду и одеяла, которые не ткали дома. (Однако иногда эти вещи завозили в деревню бродячие торговцы.) Наконец, именно в городе крестьяне продавали излишки своей продукции, если подати собирались в деньгах. Города, в свою очередь, искали более масштабные центры торговли в городах покрупнее и служили местом расположения двора правителя или эмира. Городские ремесленники изготовляли предметы роскоши, редко доходившие до деревень. В больших и малых городах жила лишь меньшая часть общего населения, которое оставалось преимущественно сельским до тех пор, пока фундаментом экономики было сельскохозяйственное производство.
Даже в пределах одной деревни одни жители были зажиточнее других. В некоторых — особенно контролируемых одним землевладельцем, — приблизительно одинаковый достаток самих крестьян поддерживался при помощи периодического перераспределения наделов (с целью дать людям шанс получить больше продукции на новом наделе). Такую землю можно было получить лишь с позволения хозяина или всей деревни. Но обычно конкретный земледелец мог пользоваться землей самостоятельно. Кто-то приобретал больше наделов, чем мог обработать сам, и сдавал их менее удачливым. Соответственно многие арендовали часть земли или весь свой надел у односельчан.
Такая разница в обстоятельствах подчас была очень резкой. Те, кто побогаче, приобретали не только землю, но и кредитные фонды, в виде денег, которые они ссужали под высокий процент на срочные нужды земледельцу (например, на семена или для уплаты оброка или налога). Когда человек прибегал к помощи подобного рода, ему было трудно выплатить долг, потому что тот постоянно рос из-за процентов. Целые поколения, за исключением отдельных счастливых случаев, могли наследовать долг перед ростовщиками. Многие в итоге оставались вообще без земли, даже арендуемой, и занимались поденным трудом для тех, у кого она была. Но, особенно в районах с минимальным вмешательством со стороны помещиков, большая доля крестьян хоть и не отличалась богатством, все же не была ни поденными работниками, ни арендаторами, а владела хотя бы малым наделом земли, необходимым для их выживания.
Деревни обладали довольно свободной структурой, где статус напрямую зависел от имущества, приобретенного или сохраненного, несмотря на перепады рынка. В них все организационные вопросы решали самые влиятельные люди в селе (айаны), и иногда землевладелец — зачастую военный — выступал в роли финального судьи в случае возникновения споров, если те не улаживались путем переговоров или просто драки между группировками сельчан, которым покровительствовали враждующие друг с другом айяны. Это была система айянов-эмиров в миниатюре, ее более масштабное воплощение мы найдем в городах.
Источники дохода богачей