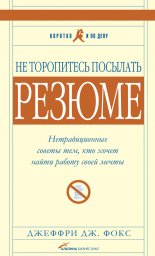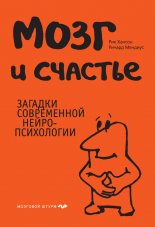История ислама: Исламская цивилизация от рождения до наших дней Ходжсон Маршалл
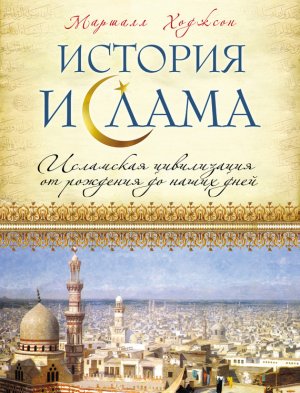
Макс Вебер включил в свой превосходный анализ форм власти систему айянов-эмиров с разнообразными механизмами присвоения аграрных доходов[203]. Кто-то, возможно, посчитает, что мне следует пользоваться разработанными им категориями — то есть анализировать власть с позиции приближения к идеальному основанному на традиции типу (здесь я предпочел более точный термин, чем просто «традиционный тип» у Вебера, поскольку власть, основанная на традиции, не всегда бывает традиционной — когда, к примеру, она становится традиционной для базовой власти, а не согласно бюрократическим законам), а также рассматривать присвоение аграрных доходов, в частности, с точки зрения наследственной власти и «султанизма». К сожалению, я не могу применять его термины — во-первых, потому что его категории плохо соотносятся с событиями в исламском мире, но главное, потому что его базовая схема определения условий общества до нового времени содержит систематические ошибки. (Я указал на связанную с этим серьезную проблему во «Введении», раздел «Об определенности в традициях», абзац об историческом методе. Здесь я ссылаюсь на проблему, более актуальную в данный момент.)
Во всех видах общественного строя до нового времени традиционные обычаи и их вариации на уровне принятия повседневных решений играли более важную роль, чем при общественном строе Нового времени; и это сочетание четко прослеживается в Средние века ислама, по сравнению с более бюрократическими периодами до и после. Но (как я продемонстрирую в книге VI) неверно считать зависимость от традиционных обычаев отличительной особенностью аграрного общественного строя (равно как и других, менее сложных укладов), по сравнению с техническим обществом Нового времени. От менее сложного социального уровня к более сложному легитимация все меньше опирается на традиции и больше — на прагматические рационально-юридические процессы. Легитимация в техническом обществе Нового времени меньше опирается на традиции, чем в обществе аграрного типа. А аграрный общественный строй постосевого периода, в свою очередь, меньше зависел от традиций, чем более ранние аграрные общества, которые, опять же, еще меньше зависели от традиций, чем общества, существовавшие до изобретения письменности и перехода к сельскому хозяйству. (На деле, в любой период культурного расцвета происходит скачок, как минимум на время, рационализации общества в ущерб традициям.) Следовательно, по сравнению с новым техническим обществом, любое предшествующее ему можно назвать основанным на традиции, но в сравнении с более ранними общественными укладами до Нового времени общества постосевого периода, и особенно исламское, можно считать опиравшимися на рационально-юридические принципы. Данное утверждение истинно и для средневекового исламского мира, когда подчас наблюдалось приближение общества к минимальному для аграрного типа уровню институционной сложности — что влекло более активное обращение к традициям (насколько позволяли рамки аграрного строя). Главная особенность аграрного общественного строя — не то, что он опирается на традиции (в сравнении с новым техническим обществом), и не то, что он зиждется на рационализме и юридических нормах (по сравнению с обществами до появления городов), а то, что в его основе прямо или косвенно лежит эксплуатация городами продуктов сельскохозяйственного ручного труда.
Используя понятие традиционности в качестве отправной точки, Вебер придумал «идеальный тип» применительно почти ко всем типам обществ до Нового времени, при котором выявляется влияние древних обычаев и их личной интерпретации. В исламском мире схемы определения размера аграрных податей и их взимания на местном уровне часто определялись старинными обычаями (или обычаем, подходящим под этот стандарт), т. е. в местном контексте они довольно хорошо подходили под критерии Вебера. (Отчасти по этой причине современные авторы, обнаруживая на местном уровне остатки обычаев периода до Нового времени, часто относят все виды аграрного общества к «традиционному» типу.) В некоторых других аспектах системы айанов-эмиров обычаи и их интерпретация сыграли важную роль. Но различия в этих элементах не являются определяющими отличиями этой системы от параллельных ей систем того времени в мире. Скорее, таковой можно считать разницу в роли рынка и личной свободы. Полагаю, эта разница будет отчетливее видна, если мы начнем с того, каким образом доходы от труда крестьян получали другие классы.
Вторжение в деревни сторонних (и обычно заочных) землевладельцев было широко распространено. Иногда землей владели предводители кочевников, но, как правило, это были жители крупного города, так как большие города не являлись центрами обслуживания для крестьян. Малые и (особенно) крупные города лишь отчасти получали средства к существованию от ремесленных и торговых услуг крестьянам, которые их кормили, и отчасти от межрегиональной торговли. В значительной степени они жили за счет доходов с земли, не имевших адекватной отдачи для крестьян. Городское население сильно зависело от привилегированных семей, которым предназначались эти доходы (причем слуги или компаньоны этих семей находились в прямой, а представители сферы услуг — в непрямой зависимости от них). Через руки таких семей проходила большая часть богатств общества, независимо от того, были это налоги, которые потом распределялись им правителями как придворным, или оброк непосредственно землевладельцам, жившим в городе, или в форме пожертвований с вакфов.
Разница в благосостоянии рядового крестьянина и члена привилегированного сословия в городе была огромной. Даже зажиточные семьи в деревне мало на что могли рассчитывать в городе, если только не обладали там хорошими связями. Разрыв носил решающий характер: то, как земельные доходы изымались у деревни и распределялись в городе, определяло местную социальную структуру во всех регионах и во все периоды. Значит, взимание доходов должно пониматься как особый процесс, который следует выделить из общей массы экономических фактов для аналитических задач и не путать с личными или общественными способами использования имущества в деревне, хотя иногда они с ним тесно переплетались[204].
По шариату, процесс сбора доходов был палкой о двух концах. Закон признавал право владеть землей за отдельными людьми, в любом объеме и на любом удалении от непосредственного землепользования, и считал отношения между хозяином и арендатором вопросом контракта, который виделся как договор между равными партнерами и регулировался лишь незначительно. В то же время, шариат признавал, что те, кто владели плодородной землей, должны были платить дань в общую казну мусульманской уммы, представленной эмиром. Взимаемые таким образом деньги использовались на административные нужды — помощь бедным, защиту сообщества, поддержку религиозных наук, строительство общественных зданий и на органы охраны правопорядка. Такой взгляд на доходы насаждался искусственно. В лучшем случае он отвечал на вопрос, каким образом с данным процессом может быть связан купец. На деле, разумеется, собираемые суммы превышали разрешенные шариатом лимиты, да и вся система классовых отношений не соответствовала его нормам. То есть, шариат признавал некоторые виды отношений между отдельными лицами, рассматривая их, где это возможно, сквозь призму договора; но в нем ничего не говорилось в целом (как, например, было в маздеической доктрине с ее понятием социальных классов) о процессе перемещения сельских излишков в города — т. е. об аграрных отношениях как таковых.
Мазволей Караханидов в Узгене, Киргизия. Современное фото.
Традиционная мусульманская религиозная мысль пошла немногим дальше. Она поощряла проявления щедрости со стороны привилегированного сословия и подчеркивала всеобщее равенство перед Богом Аллахом. Но она не в состоянии была осмыслить общую аграрную ситуацию, как не могла осмыслить и ее прямую легитимацию. Однако некоторые ревностные суфии все же отказывались притрагиваться к деньгам, поступающим от эмира, на том основании, что они были получены незаконно.
Административная традиция абсолютизма и наследующих этот строй правящих классов признавала процесс взимания податей прямо и открыто. В учебниках для привилегированного сословия принималось как данность, что этот класс должно обеспечивать крестьянство (райя) — понятие, подразумевавшее непосредственно земледельцев, но включавшее всех сельчан, разве что кроме служителей веры; а иногда распространявшееся и на низшие слои больших и малых городов. Привилегированные сословия даже были склонны считать, что крестьянство обязано как класс заниматься возделыванием своей земли ради податей (особенно платы в общую мусульманскую казну). Они были убеждены, что казна в полном распоряжении эмира (как представителя абсолютной монархии), или, максимум, что ее назначение — содержание его армии и военных чинов. Соответственно, они не всегда четко различали плату по прямому договору крестьянина с представителем привилегированного класса (помещиком), то есть оброк, и сборы власти, то есть налоги. Так, к примеру, законникам, а иногда и центральным администраторам, было трудно добиться практического признания разницы между выделением икта в полноценное землевладение и выделением икта для взимания податей, которые должны были поступать в государственную казну. Как правило, получатели доходов вели себя одинаково в обоих случаях.
Весь процесс сбора податей оправдывался в этих кругах большим или меньшим соответствием рациональным нормам. Одно из оправданий сбора податей было экономическим по своей форме: часть урожая отходила тому, кто предоставлял семена, другая часть — тому, кто давал быков, третья — тому, кто обеспечивал водой (то есть организовал орошение), четвертая — тому, кто предоставлял землю (исходя из того, что землевладение было таким же вкладом в земледелие, как и остальные), и, наконец, последняя — тому, кто трудился. И поскольку все, кроме труда, стоило денег, тот, у кого был капитал, забирал себе большую часть урожая. С другой стороны, крестьянин, сумевший отложить немного денег про запас, мог надеяться на лучшее. Но такая формула была, скорее, теорией, а не законом или практикой.
Кроме подобных формул люди находили и более общие оправдания. Они понимали, что предназначение привилегированных классов — служить обществу в целом, включая крестьян, в качестве воинов, защищающих их от грабителей и захватчиков; и отправителей правосудия, а кроме того, покровителей религии. (Это минимальные функции, которые мог выполнять даже абсолютизм.) Но довольно часто звучало мнение, что, в любом случае, у крестьян нет других потребностей, кроме пропитания, что они неотесанные, невежественные существа, немногим выше, чем тягловые животные, и созданы лишь для того, чтобы служить своим более развитым собратьям.
Последнее мнение было традиционным и передавалось из поколения в поколение на протяжении тысяч лет, но оно подразумевало оправдание, скорее, правом сильнейшего, чем обязательными обычаями, и имело мало общего с предписываемыми обычаем ограничениями для сильнейшего. В таких кругах чаще всего просто выясняли, что мог отдать земледелец (здесь мог браться за основу обычай), и забирали это для всего военного класса или для его отдельного представителя, не обращая внимания на то, кто является владельцем земли или каков установленный размер налога. Полагаю, чем стремительнее была ротация получателей икта, тем вероятнее такое отношение. В протесте против него крестьяне обращались, насколько могли, к ограничениям, которые устанавливали местные обычаи.
Ни то, что доходы следует изымать только в уплату за услуги, ни то, что сильнейший должен забирать все, не реализовывалось на практике в полной мере. Уважение к шариату со стороны администраторов, которые вели учет, помогало следить за постоянным соблюдением форм договоров и официального налогообложения, даже если власть имущие отклонялись от их сути. Но были и другие причины для сбора податей с тщательным вниманием к обязательствам отдельных лиц и юридическим тонкостям, которые правящие военные круги подчас предпочитали игнорировать. На деле, несмотря на аристократическую направленность некоторых учений и огромную разницу между плательщиками и получателями, четкой границы между классами никогда не существовало. Даже в самих деревнях были относительно привилегированные люди с хорошими связями. Значит, процесс сбора податей для городов не мог быть совершенно отделен от распределения денег между сельчанами. Как в деревнях, так и в городах очень многие были заинтересованы в том, как распределятся доходы; при наложении новых пошлин в долю желали войти новые лица. Их также нельзя было обойти.
Там, где законом признавался свободный договор, а не только статус его участников, и где правитель в своих решениях действовал по совести, были шансы соблюсти интересы всех сторон. Часто рассказывают историю о том, как эмир помог бедной крестьянке отстоять свои права в споре с каким-то вельможей-узурпатором; такое случалось и в жизни. Таким образом, подати взимались если не в соответствии с законом шариата, то согласно установленным нормам и формальным контрактам, а также согласно тому, что крестьяне считали обычаем в отношении обработки конкретного участка, с тщательным рассмотрением всех юридических споров, которые возникали, если кто-то забирал себе лишнее. Такое внимание к интересам каждого на основании произвольно оговариваемых обязательств являлось отличительной особенностью системы айянов-эмиров.
Подати
Итак, как только контроль центральной бюрократии ослабевал, способы сбора податей принимали все возможные в условиях аграрного общества формы, в зависимости от местной политической и экономической обстановки. Если обстоятельства менялись, то же происходило и с формами сбора налогов. Мы перечислим пять принципиальных способов, относительно независимых друг от друга. Подати из деревни, предназначенные для привилегированных сословий, получали либо отдельные их представители — богатые купцы, улемы и особенно военные, — либо казна правителя (через сборщика налогов с фиксированным жалованьем или работавшего за комиссию), и затем они распределялись в виде жалований или субсидий (опять же, в основном, военным, но иногда улемам или нахлебникам вроде поэтов). Варианты не зависели от второй переменной: от того, собирались ли подати как оброк (или другая плата) в счет личного договора найма или как налоги в казну правителя, при том что сильный правитель иногда предпочитал сделать хотя бы военных напрямую зависимыми от казны. Человек, получавший подати от земледельца, будь то налог или оброк, мог и не послать их часть в казну в связи с какими-то особыми привилегиями. Хотя, опять же, сильный правитель мог захотеть, чтобы вся сумма прошла через казну, без каких-либо исключений. В-третьих, будь то личный договор или плата в казну, подати взимались с урожая по определенной заранее фиксированной ставке или в виде определенной доли от общего урожая (т. н. издольщина). (Доходы взимались иногда в форме бесчисленного множества более мелких плат.) В-четвертых, можно было платить деньгами или натурой, или даже трудом. От некоторых крестьян казна или их арендный договор требовали отработки в течение нескольких дней, характер работы оговаривался заранее.
Пятый из основных способов состоял в том, что люди, получавшие доход, не всегда имели одинаковые права на его источник. (Разумеется, это было актуально тогда, когда доход шел напрямую конкретным лицам — в основном когда плата вносилась в качестве налога, хотя местные обычаи и даже долгосрочные договоры на аренду затрагивали тех, кто получал доходы и в силу личных договоренностей, особенно когда помещиком был предводитель кочевников.) Права получателя могли ограничиваться только изъятием денег. Он мог иметь полную власть в использовании земли — допустим, ежегодно перераспределять наделы между крестьянами, действуя как местный землевладелец. (Иногда помещик или, скорее, его наемный представитель активно управляли землей и вкладывали часть своих доходов в такие усовершенствования, как ирригационные работы. Такие вещи, конечно, мог делать и крупный местный землевладелец.) Иногда его права могли быть наследственными в юридическом смысле, а если даже и не были таковыми, он мог передать их сыну. Наконец, у него мог быть ряд административных полномочий на территории, где он взимал подати. Эти полномочия могли подчас распространяться на очень широкий район, особенно если его право на сбор доходов определялось его финансовой властью в этом районе и, следовательно, собираемые подати включали долю, которую казна требовала от доходов более мелких помещиков. Теоретически, конечно, административные полномочия не следовало путать с правом на получение подати, но часто было удобно оставлять их в одних руках, а иногда по-другому и не получалось.
Владение землей в исламском мире много и активно обсуждается (с позиции европейских понятий о земельных доходах, сформировавшихся в обществе, где личный статус был гораздо более стабильным, а юридические права гораздо легче подгонялись под стабильный статус): в какой момент тот или иной вельможа должен был считаться владельцем той или иной территории, или только правитель может считаться владельцем, поскольку он так легко меняет права других вельмож на получение доходов? Трудность в том, что зачастую доходы уходили прямо к конкретному лицу, но собирались как налог в казну — и такой получатель доходов теперь имел конкретный перечень прав по отношению к происходящему на земле, с которой он эти доходы получил. В подобной ситуации нельзя разобраться терминами категории собственности, будь они западными или шариатскими. Но этот вопрос и не нужно поднимать. Собственность в ее обычном понимании была актуальна на уровне отдельной деревни, в пределах которой было ясно, кто продает или сдает в аренду права на использование земли; но, как правило, эта категория не годилась для описания всего спектра финансовых отношений между крестьянством и правителями.
Более сознательный сборщик доходов ограничивался традиционными для его земли поборами (и часто открыто оговариваемыми, когда прибывала новая компания) и отменял их часть в трудные времена. Но даже традиционные налоги мало оставляли крестьянину. И слишком многие сборщики были беспринципны. В обществе, где статус закреплялся ненадолго и каждый должен был успеть забраться настолько высоко, насколько позволяла ему смекалка, всегда существовала угроза, что налагаемые местным обычаем ограничения на сбор доходов будут попраны. Чтобы отнять у крестьянина максимальный доход, местные помещики, получатели икта и сборщики налогов использовали всевозможные надувательства. Заочные землевладельцы — по договору или в силу фискальных полномочий — особенно часто пренебрегали подобными обычаями. Даже когда обычая придерживались в целом, его могли нарушить в деталях: так, помещик мог заставить нуждавшегося земледельца, в противовес обычаю, продать ему его, земледельца, долю урожая по низкой цене, угрожая не предоставить семян или других ресурсов, которые могли понадобиться крестьянину позже. Такие жестокие приемы имели место там, где многое зависело от свободного договора.
Время от времени благочестивый правитель отменял слишком обременительные поборы, которые меньше всего согласовывались с предписаниями шариата. Но довольно скоро их восстанавливали, если вообще подобная отмена воспринималась всерьез, местным декретом или даже произволом со стороны уполномоченных собирать доход. Вопреки шариату многие правители делали все, чтобы затруднить земледелие в подвластной им области. Это были те же самые правители, что изобретали самые жестокие способы изъять максимальную долю урожая, не думая о том, выживет ли крестьянин на оставшееся после поборов. Конечно, за подобное поведение очень скоро наступала расплата; но правящие элементы были убеждены, что оно вписывается в рамки их полномочий, даже если не соответствует ни юридическим нормам, ни здравому смыслу.
Но местный обычай, позволявший одни методы и запрещавший другие, мог в известной степени сохранить жизнеспособный баланс между притязаниями получателей дохода и потребностями земледельцев, которые его создавали. В то же время политика руководителей налоговой службы при эмире, которые, как правило, учитывали долгосрочные перспективы, способствовала сохранению определенной последовательности во всеобщем развитии. Следовательно, все существовавшие методы сбора доходов применялись не бессистемно. Можно отследить некоторые общие принципы из века в век: принципы, которые на протяжении Средних веков вели к милитаризации процесса.
В пригородных деревнях или вдоль дорог состоятельные жители чаще всего являлись заочными владельцами либо контролировали сбор доходов самостоятельно. Именно доходы с таких деревень обычно находились в распоряжении правительства, то есть в последней инстанции — эмира и его армии. Они подлежали произвольному изъятию эмиром и особенно великим султаном (который контролировал гарнизоны во многих городах), когда тому случалось проезжать мимо со своим войском. Соответственно именно такие деревни чаще всего выделялись как икта на более или менее постоянной основе отдельным военачальникам и их командирам. С этих правительственных наделов военные должны были получать жалованье напрямую из доходов деревни в силу фискальных полномочий. В ходе этого процесса ущемлялись права городских получателей оброка, с которых владелец икта тоже взимал налог (как и с крестьян). Постепенно главный получатель доходов становился владельцем икта. В итоге страдала независимость и высших гражданских слоев, и местного крестьянства.
Система икта (как мы говорили) возникла при халифах как особый бюрократический инструмент, когда наместникам провинций позволялось использовать доходы от государственных земель на свое усмотрение, или сборщики налогов действовали в интересах тех, кто заранее платил им оговоренную сумму в надежде окупить и преумножить ее с помощью профессиональной наемной команды сборщиков. В обоих случаях то, что технически оставалось прямым платежом в казну или его частью, принимало форму, при которой власть предержащий мог использовать фискальное право в своих интересах. После развала халифата, когда из-за краха бюрократии централизованный сбор налогов перестал удовлетворять получателей, система начала разворачиваться в сторону военных. В течение Средних веков процесс вышел даже за рамки, в которые его пытался втиснуть Низам-аль-Мульк: система стала распространенным способом награждения военных имуществом, которое, хоть оно и подлежало возврату, те могли передавать сыновьям. Такое вознаграждение уже не было обязательно связано с центральной политикой. Если бюрократия функционировала стабильно, она управляла сбором налогов и тогда, когда размер дохода с конкретного участка определялся заранее. Но часто военному владельцу икта разрешалось собирать налоги лично, и он мог оставить себе все, что считал приемлемым, заявив, будто заслуживает более доходного участка, но вынужден довольствоваться малым. Наряду с подобным наделением землями эмир продолжал собирать налоги и с невыделенных земель непосредственно в казну.
Если конкретное правительство обладало сравнительной силой, а экономика была сравнительно продуктивной, налоги могли взиматься в форме процента от земельных ресурсов (частично натурой, ввиду удобства перевозки в местных условиях, но в основном деньгами). При системе икта это означало, что участки икта строго контролировала бюрократия. В то же время икта часто менялись, по инициативе бюрократии или недовольного военного, и не могли наследоваться.
Когда же власть расшатывалась, налоги представляли собой просто долю реального урожая — либо натурой, либо в денежном эквиваленте. Вторая система была более или менее справедливой, но делала размер налогов непредсказуемым и серьезно снижала гибкость планирования доходов земледельцев или местных помещиков. Это резко сокращало ценность любой добавочной прибыли на вложения крестьян: большую часть плодов его труда отнимали. Но издольщина являлась более естественным сопровождением системы икта и самым распространенным методом в позднее Средневековье. Размер налога, конечно, намного превышал десять процентов, разрешенные (плюс-минус) шариатом на исламской земле. По мере ослабления бюрократического контроля появлялось больше возможностей (или даже становилось неизбежным), если военный был недоволен своими угодьями, сделать владение конкретным икта бессрочным или пожизненным. Затем икта передавался наследнику — не как делимое наследуемое имущество, а в смысле ожиданий, что сын или другой родственник займет пост данного военного и получит его привилегии. Но икта все же подлежали возврату, в зависимости от благосклонности монарха к защитникам данного военного при дворе или даже от того, как сложится судьба династии эмира.
Преобладавшая, таким образом, система издольной уплаты налогов наряду с выделением земельных участков военным, которые не могли знать, как долго будут ими владеть, и поэтому сдирали с них все, что можно было получить быстро, мешала накоплению существенных излишков в самих деревнях. В урожайные годы это подразумевало относительное изобилие в городах; в неурожайные — голод в деревне. Это также могло означать уменьшение разницы между благосостоянием сельчан и то, что айяны действовали на свое усмотрение, не оглядываясь на чужаков. Данный факт лил воду на мельницу военной власти, неизбежной при системе айянов-эмиров, и ослаблял противодействующие ей тенденции, даже в городах.
Прибежища бедняков
Так или иначе, привилегированные классы изымали причитающийся им доход за счет благополучия деревни и независимости гражданской власти. Главная проблема крестьян состояла в том, как избежать катастрофы, которую влекут за собой произвольные поборы. В период разрастания сельскохозяйственной экономики, когда осваивались новые угодья и новые ирригационные системы вели к активизации работ на более плодородной почве, как это было тысячелетиями до того (и продолжалось в лучше орошаемых Европе, обеих Индиях и Китае), единственным спасением было бегство на новые земли, часто защищенные сильными правительствами от самых жестоких форм эксплуатации. В центре аридной зоны спектр сельскохозяйственных работ уже не расширялся, а, наоборот (в целом), сокращался. Прибежища бедняков соответственно были менее пригодны для возделывания с учетом долгосрочной перспективы. Однако в такой обстановке у сельчан были реальные способы частично защитить себя.
Во-первых, сельчане регулярно использовали средства прямого сопротивления. У крестьян с незапамятных времен имелись способы прятать свою продукцию от сборщиков налогов, а иногда они гордились своим умением твердить жалостливые истории о неурожае и тяжелой доле даже под пытками. Время от времени, когда непомерные притеснения или правдоподобные пророчества вызывали отчаяние или рождали безумную надежду, крестьяне поднимали восстания. Обычно расправа была кровавой, но она служила предупреждением для соседей. Были и непрямые способы уклониться от сборщиков податей. Многим жителям отдаленных районов, часто менее зажиточным, но находившимся далеко от гарнизонов крупных городов или путей передвижения армии, удавалось удержать дома большую часть урожая, независимо от того, насколько несправедливо он иногда распределялся в самой деревне. На самом деле в некоторых удачно расположенных селениях даже строили целые укрепления, на штурм которых, хоть и вполне осуществимый, пришлось бы послать целую армию, а ожидаемый размер налогов не оправдывал таких усилий. В деревнях, легко подвергавшихся чрезмерным поборам, в период упадка бюрократической власти многие мелкие крестьяне доверяли свои наделы более зажиточному местному землевладельцу, сохраняя над ними практический контроль и взимая незначительную ренту; землевладелец же был способен эффективнее сопротивляться непомерным притязаниям.
Более того, как мы уже видели, крестьянин запросто мог прибегнуть к последнему средству — бегству. Хотя сельскохозяйственная экономика больше не расширялась, в аридной зоне землю на окраинах относительно легко начинали обрабатывать и так же легко забрасывали. Если население становилось слишком большим, такие угодья давали некоторую свободу действий. И безземельные работники, и арендаторы, и даже крестьяне, владевшие своими наделами, могли посчитать целесообразным уйти из родного селения туда, где можно было получить землю на лучших условиях. На высокой стадии развития кочевого скотоводства, когда крестьянское население еще больше увеличилось в силу территориального градиента, многие крестьяне были не так уж далеки от жизни кочевников. Иногда, как уже говорилось, они возвращались к кочевому образу жизни или налаживали хозяйственные отношения с теми, кто еще вел такую жизнь. Но чаще всего из-за смертности во время различных бедствий крестьян не хватало даже для возделывания плодородных земель. Тогда появлялись другие землевладельцы или эмиры, желавшие нажиться на переселениях крестьян или старавшиеся переманить их друг у друга. В такой обстановке попытки предотвратить миграцию могли увенчаться успехом, только если эмирам-конкурентам угрожали применением силы.
Эта мобильность населения накладывала спасительное ограничение на притязания власти в отношении доходов сельского хозяйства. Попытки привязать крестьян к их земле или вернуть их, как правило, обычно заканчивались крахом (кроме таких областей, как Египет) — отчасти по той же причине дезорганизации правительства, которая и вела к ужесточению поборов. Конечно, время от времени миграция была принудительной. Иногда очень сильный правитель мог заставить большие группы крестьян (и даже городского населения) переселиться с одной территории на другую, которую хотел начать возделывать, — как правило, в качестве наказания за неповиновение.
Однако случалось, что крестьяне вынуждены были уйти с земли, которая уже не давала им даже минимального урожая, необходимого для выживания. Убегая от помещика, кредитора или военного, бывший земледелец мог возместить за счет богатых то, чего не получал теперь от земли. Иногда он сам становился воином, поскольку потребность в воинах, которые не могли сами себя воспроизводить, существовала всегда. Тогда он принимал участие в набегах и даже сам становился эмиром, если мог сойти за тюрка или принадлежал к одной из нескольких национальностей, из представителей которых вербовались наемники. Если же бродяге не по душе было идти в солдаты, или в тот момент у правительства не было в них потребности, для него все равно было открыто много путей. Умный молодой человек мог стать подмастерьем у одного из многочисленных ремесленников, которые были не настолько хорошо организованы, чтобы туда невозможно было попасть без связей, — например, можно было заняться жонглированием или стать водоносом. Потом, можно было вступить в банду грабителей или стать профессиональным городским нищим и клянчить милостыню у тех, кто пытался замолить грехи перед Аллахом раздачей жалких грошей.
Еще более удачным способом избежать если не природных бедствий, то притязаний власть имущих был кочевой образ жизни, хотя обычно он был доступен только тем, кто от рождения был кочевником. В каждом селении был домашний скот, так как животные — быки, ослы, верблюды или более быстрые мулы, или даже лошади, — были необходимы при пахоте и использовались как транспортные средства и источник молока и шерсти. В некоторых деревнях были большие стада овец и коз, которых пас деревенский пастух, иногда на некотором расстоянии от селения. Но деревня по определению была привязана к возделываемой земле, и ее стада хотя бы время от времени возвращались домой. В кочевой пасторальной общине, напротив, стада овец или верблюдов были основой организации, и хотя многие кочевники тоже возделывали землю, они могли при необходимости забросить ее. Следовательно, не стоило рассчитывать, что они смогут заплатить больше какой-то символической суммы.
Скотоводов, объединенных в племена и способных передвигаться на довольно большие расстояния к труднодоступным пастбищам, можно было наказать, послав за ними военную экспедицию и помешав им досаждать городским и деревенским жителям, но на их собственных пастбищах контролировать их было невозможно. Тот объем земледелия, до которого они снисходили, не имел для них принципиального значения и не мог быть причиной их уязвимости. (Отсюда любые штрафные санкции были обычно разовыми и исполнялись по велению власти; между такими акциями племена сами могли принуждать жителей соседних деревень, привязанных к земле, платить им дань. Иногда они даже отбирали часть доходов, предназначенных городу.) С распространением скотоводства по отношению к земледелию во всем регионе могла повышаться доля людей, освобожденных от уплаты податей, из числа тех, кому заработка едва хватало на жизнь. Однако свобода скотовода обычно была свободой группы: отдельный человек был неразрывно связан с активной повседневной жизнью, строго ограничивающей его мысли и действия с рождения до самой смерти. К сожалению, вожди его племени в некоторых районах все чаще сами действовали как землевладельцы.
Крестьянин был свободным человеком, и в его власти было повышение степени своей свободы. Но она не могла гарантировать ему особых преимуществ, если только он не обладал особыми талантами. Крестьяне были далеко не дураки и осознавали уготованную им участь. Они питали сдержанное уважение к обычаям, но не были их рабами. Если пристально рассмотреть, как они реагировали на особенно тяжелые кризисы или неожиданные возможности, мы обнаружим, что крестьяне — как и другие слои населения, — как правило, вели себя благоразумно и трезво, руководствуясь доступной им информацией. Например, они быстро реагировали на рыночную конъюнктуру в отношении сельскохозяйственной продукции, если она их касалась. Но они редко находили возможность уклониться от общепринятых процессов, последствия которых могли предсказать. В неконтролируемом открытом обществе те, кто сумел добиться более выгодного положения с помощью военной или какой-то другой карьеры или просто обладал им по праву рождения, получали несоизмеримо большие привилегии при заключении сделок и пользовались ими на свое усмотрение. Причем часто они делали это таким образом, чтобы менее везучие партнеры никак не могли себя защитить. Снова и снова инициативу крестьянина по совершенствованию сельскохозяйственного процесса, которая требовала больше временных затрат и подразумевала больше риска, но обещала больше прибыли, подрывали бессмысленно тяжкие поборы со стороны их получателей. Зачем правящей военной группе, не уверенной в долгосрочности своего пребывания у власти, оставлять в живых курицу, несшую золотые яйца, ведь они все равно скоро лишатся этой курицы.
Позже мы отметим одно следствие такой социальной близорукости: хроническое и нарастающее сокращение природных ресурсов. Другим следствием была постоянная и катастрофическая утрата человеческих ресурсов из-за бедности и опасностей. Катастрофичность ее, пожалуй, ощущалась больше всего именно тогда, когда экономическое развитие достигло пика и, следовательно, стала возможной систематическая эксплуатация. Крестьяне в регионе между Нилом и Амударьей не только были в целом беднее, скажем, крестьян Северной Европы, где торговая составляющая долго была далеко не такой существенной. От Нила до Амударьи районы могли так же варьироваться по степени зажиточности крестьян. В некоторых случаях там, где сельское хозяйство было богатейшим, то есть более коммерциализированным и прибыльным, сами сельчане хуже питались и имели более болезненный вид, чем жители более «бедных» районов, снимавшие более скромный урожай: в частности, контраст между силой крестьян анатолийской глуши и слабостью крестьян богатого Плодородного полумесяца явно имел экономическую, а не расовую или национальную подоплеку[205].
Эволюция городского уклада
Теперь перейдем от земли к общественному укладу в городах. Именно тут наилучшим образом ощущается уникальность ситуации в центре аридной зоны. Коммерческие преимущества торгового сословия, на фундаменте которых строилась относительная культурная автономия, и в то же время их тенденция к космополитизму и миграции, а не к локальной гражданской сплоченности, давно превратили города в религиозные центры. В обстановке Средневековья именно в них та же ситуация привела к открытости социальной структуры, индивидуальной свободе — и милитаризации политической власти.
Несмотря на разницу в благосостоянии, города в некоторых отношениях являлись продолжением социальных моделей деревни: ведущие семьи в деревне были связаны с семьями в городе; там, как правило, воспроизводились и повседневные отношения между семьями или специалистами в различных ремеслах. (На самом деле некоторые горожане были простыми крестьянами, возделывавшими поля вокруг городских стен.)
Рынок рабов. Средневековая арабская миниатюра
Многие клановые войны и понятия о собственности и справедливости, имевшие место в городах, уходили корнями в деревенскую жизнь. Мы уже отмечали, что элементы системы айанов-эмиров присутствовали в более благополучных селах. Тем не менее при значительном разграничении экономической и социальной функций разных групп городская жизнь вышла на гораздо более высокий уровень социальной сложности, и в ней возникли многие институты и проблемы, неизвестные деревне. Только применительно к городам можно говорить о системе айанов-эмиров в полном смысле. Там она возникла как доминирующая социальная модель. Несмотря на то что в какой-то момент стал возможен другой сценарий, распределение власти между айанами (знатью) и эмирами (военными) являлось константой в городах, на фоне которой предпринимались всевозможные попытки образования государства[206].
Города предлагали гораздо более гибкие социальные ресурсы, чем деревня, а военные правители при системе икта не искали главный источник дохода в городе. Поэтому можно было ожидать возникновения активных муниципальных институтов, способных защитить права горожан. Но город, как правило, был не в состоянии выстроить прочную автономию от вездесущих военных, пьющих соки из земли, хотя и строго аграрные классы тоже не могли противодействовать городам. Сама урбанизация общества препятствовала автономии городов как таковой: управляющий землей элемент так тесно был связан с городами, что деревню во многом ассимилировали политические процессы городского общества, так что их политическая судьба была одинаковой. В любом случае людей, не привязанных к какому-либо фиксированному социальному статусу, трудно было собрать в эффективные совместные объединения, которые сохранялись хотя бы на протяжении одной человеческой жизни. Это не имело ничего общего с европейским муниципалитетом или общиной с ее тщательно регулируемой градацией статусов, или с системой индийских каст. И все же по-своему города формировали средства поддержания общественных норм и достижения социальных целей, то есть создавали институты-посредники между отдельным человеком и огромной безличной социальной средой.
Эволюция городской жизни шла параллельно развитию халифата. В аграрную эпоху были возможны несколько шаблонов существования городов. Центром самых первых городов между Нилом и Амударьей был храм с организованным штатом священников, которые контролировали финансы, обучение и все более крупные организации. Любой монарх вынужден был сотрудничать с ними, если сам не обладал высоким духовным саном. Эта форма породила более сложные модели задолго до того, как ее вытеснила эллинистическая модель города. У грекоязычных народов купцы и землевладельцы (или, в случае с «демократией», более широкие слои, включавшие некоторых ремесленников, чьи способы времяпрепровождения в некоторой степени походили на времяпрепровождение купцов) вращались не столько вокруг храма, сколько вокруг терм и других гражданских учреждений, ориентированных на мирян. Театр был символом гражданского духа настолько же, насколько футбольный стадион какого-нибудь американского колледжа является символом университетского духа. Как и в жреческих городах, жители прямо и косвенно зависели от доходов из села; в регионе между Нилом и Амударьей только землевладельцы из числа сельчан имели право гражданского участия в жизни эллинистических городов наряду с их жителями. Но в то же время эллинистические города в этом регионе, в отличие от городов менее развитой экономики в греческих горах и на островах и в отличие от первых храмовых городов в Ираке, обладали в лучшем случае очень низкой муниципальной независимостью. Они были объединены в территориальные царства. Но автономия у них была: они сами избирали своих чиновников и планировали общественные работы.
В период поздней Римской империи этот тип городов активно вытеснялся. Город стал административным центром бюрократии — имперской и духовной, резиденцией губернатора и епископа. Последний имел широкие полномочия в отправлении правосудия; в руках первого была сосредоточена основная власть, поскольку теперь город больше не был автономным, не говоря уже о независимости. Им управляли лица, назначенные центром. После ослабления Римской империи в городах всей ирано-средиземноморской зоны продолжала действовать бюрократическая администрация, но уже не так жестко. Создается впечатление, что правительства предоставляли широкие возможности (на практике) для индивидуальной инициативы и в халифате, и в Византии (по крайней мере, в отдаленных регионах — например, в Италии). Но можно выделить тенденции, характерные именно для исламского мира, где очевидно ослабление государственного контроля.
Храмовый город, город граждан и купцов и бюрократический город — три самых распространенных типа между Нилом и Амударьей. Во времена Марванидов существовало как минимум два типа городов. Были города, зависимые от внешней бюрократии. В бывших провинциях Римской империи бюрократию в основном представляли епископы. Затем были города, выросшие из мусульманских военных лагерей. Их центром была мечеть, где проповедовался шариат. Они свято чтили (насколько это соответствовало духу гражданского общества) идеалы хиджры. Когда первые мусульмане ушли из Мекки в Медину, представители этой религии перестали вести кочевую жизнь, которая представлялась сомнительной с моральной точки зрения, и сформировали единую предписанную Богом гражданскую общину, проникнувшись необходимостью господства такого религиозного уклада в мире. Каждый город являлся важной организацией верующих, выполнявших свою религиозную миссию, но он не был независимым и даже не мог развиваться автономно, поскольку был лишь частным случаем общинного уклада всего исламского братства. Внутренняя организация города соответствовала племенным традициям его жителей (или новообращенных, как в случае с мавали) — это был вопрос удобства, а не какого-то основополагающего принципа. Города соперничали друг с другом за репутацию успешно воплощающих общие для всех идеалы: они должны были служить центрами в случае священной войны (джихада) или заниматься толкованием фикха, или проповедовать хадисы. Высшей похвалой городу было точное расположение киблы его главной мечети в направлении Мекки.
Городская политика халифата как абсолютной монархии, естественно, считала, что хорошо управляемый город — это очень удобно. Религиозные деятели, напротив, взяли за отправную точку понятие о городе как о дар-аль-хиджра — месте, куда мусульмане приходили, чтобы вести богоугодный образ жизни. Эти две точки зрения срастались столь же тяжело, сколь и соответствующие взгляды на халифат. С исчезновением арабского племенного общества управляемый центром город мог бы стать типичным, но бюрократия халифата тоже рухнула. В первый период Средневековья развился уникальный исламский тип города, отличный от всех предыдущих.
Во многих областях Европы, где управляемая бюрократией городская организация утрачивала поддержку регионального правительства, в конце концов ее вытеснял автономный муниципальный орган управления, часто избираемый из числа наиболее влиятельных горожан. В мусульманских странах такие органы самоуправления не прижились. Они подразумевали иные права в соответствии с сословием и статусом территории. То есть у жителя были права и обязанности как у члена общины или муниципалитета, которых не мог иметь приезжий. В основе этих прав часто находилась принадлежность к какой-то гильдии или другой гражданской организации. В исламе, с его космополитическим мировоззрением, такие местнические права и обязанности не признавались юридически. Человек не был жителем определенного города, с правами и обязанностями местного городского масштаба. Как свободный мусульманин, он являлся гражданином всего Дар-аль-ислама, его обязанности определялись только тем, чего ждет от него всевидящий Бог. С юридической точки зрения полноценной границы между территориями городов не существовало, и можно было свободно переезжать из одного в другой. Вместо этого возникла неизменная структура общества, при которой главным было покровительство аристократов наряду с добровольными объединениями менее привилегированных сословий, хотя изначально эта структура играла второстепенную роль фундамента городской организации[207].
Социальные структуры свободных граждан
С точки зрения аграрной власти и, в частности, двора эмира, город был местом, где тратились доходы с земли. Следовательно, резиденция великого эмира вместе с его придворными практически полностью оправдывала существование того или иного города, а торговый квартал мог считаться второстепенным, хоть и необходимым, придатком кварталов, где жили те, кто получал доход из-за городских стен. В том же духе строились и новые города. Типичным для сильного правителя было основать новый город, подобно тому, как аль-Мансур основал Багдад, а фатимид аль-Муизз — Каир. (В раннем Средневековье это случалось реже, чем в позднем.) Такие города могли появляться по желанию правителя, с оглядкой больше на военные или климатические преимущества, чем на экономическую потребность в данном районе. Тем не менее у них не было нужды в жителях, поскольку совершенно точно только концентрация аграрных доходов делала возможным появление любого города.
Но город, основанный без учета экономических соображений, был обречен. В целом многочисленные новообразования приносили экономическую пользу. Основная часть любого города обычно строилась из сырцового кирпича, который был недолговечен, и очень многие здания находились в полуразрушенном состоянии. Время от времени казалось проще забросить руины и переехать на новое место, и монархи своими вложениями способствовали таким переездам. Бывало, что менялись русла рек или заиливались бухты в портах, и надо было искать новые места, которые выполняли бы старые функции. Значит, новые города не всегда подразумевали развитие городской жизни, но были иногда просто заменой старым и пришедшим в упадок (хотя старый город часто оставался неподалеку от нового и выполнял другую функцию, например Фустат продолжал существовать рядом с Каиром, и его культура сохраняла свою уникальность). В любом случае город жил своей жизнью. Его купцы и даже ремесленники не всегда зависели только от получателей аграрных доходов. С точки зрения торговли аграрный элемент мог и сам считаться почти вторичным придатком города в целом.
Именно солидарность религиозного сообщества придавала общественной жизни ощущение автономности. Ощущение, что город принадлежит тем, кто его создал, а не монарху, что существовал предел, за которым его власть заканчивалась. Но, как правящее сообщество, мусульманская община не могла просто представлять интересы ее сектора населения, так как правитель тоже был мусульманином. Все интересы мусульман, кроме самых общих, представляли более конкретные группировки, иногда не без участия зимми. Сообщества немусульман (зимми), разумеется, освобожденные от высшей политической ответственности, функционировали как общины в большей степени.
Можно разделить типичное мусульманское городское население на три группы. Эмир и его войска и придворные (включая остатки финансовой бюрократии) образуют существенную и самую состоятельную часть. Иногда, обладая властью над сельской экономикой, эмиры напрямую вмешивались и в экономику города — к примеру, как торговцы зерном. Но, как правило, их роль можно более или менее точно определить как обеспечение военного гарнизона, не говоря уже об остальном городе. Обычные жители города, занятые в торговле, производстве или обслуживающие представителей этих отраслей, образовывали четко различимый на фоне военного сектора элемент; они были организованы согласно своим экономическим функциям. Наконец, существовала религиозная прослойка, которую признавали и материально поддерживали и эмиры, и обычные горожане, и чаще всего ее представителями были улемы. Мусульманского судью, кади, и подчинявшихся ему служителей шариата должен был назначать эмир, но, как правило, они избирались из узкого круга лиц, признанных во всем городе, и могли иногда действовать без вмешательства эмира. Немусульманское население делилось подобным же образом на обычных горожан и религиозную прослойку, глава которой избирался как минимум с одобрения эмира.
Круги эмира и улемов, как мы уже видели, практически не зависели друг от друга, образуя альтернативные каналы власти. В определенных целях улемы защищали гражданские интересы всех горожан или как минимум мусульман перед эмирами. Но они могли это делать лишь в ограниченных пределах: отчасти потому, что получали от эмира финансовую поддержку, отчасти — в силу своего общего положения (они представляли мусульманскую умму в целом и не могли отождествляться с какими-либо местными интересами — интересами, которые не мог признавать шариат, чьими выразителями они являлись). Следовательно, особые гражданские интересы мусульманских горожан часто выражались посредством третьей группы каналов власти. Хотя горожане не образовывали муниципального объединения для совместных усилий в борьбе с землевладельцами или военными, их связывали более ограниченные и неформальные группировки на основе общих интересов, иногда выражаемых связями личного покровительства. В основе таких группировок лежали функциональные, договорные или даже натуральные отношения, где членам группы не требовался особый юридический статус, так что им не приходилось изобретать альтернатив шариату, чтобы оправдать свое существование. С крахом бюрократии халифата эти группировки стали играть более важную роль. Но их суть заключалась не в стремлении к формальной организации; они слишком сильно зависели от индивидуальной инициативы.
Всевозможные специализированные городские группы были распространены между Нилом и Амударьей в течение многих веков (нам они лучше известны по провинциям Римской империи, но они существовали и в других местах). Те, кто работал в одной торговой сфере, часто держали лавки по соседству и (в периоды расцвета бюрократии) одинаково контролировались правительством, что предполагало более или менее общий образ жизни. В ответ на контроль из центра они объединялись в организацию, иногда похожую на стандартную гильдию. Деление на кварталы часто соответствовало проживанию профессиональных групп, но чаще — этнических или принадлежащих к той или иной конфессии, лишь частично совпадавших с профессиональным разделением, или даже отражало те или иные повороты политической истории. Жители осознавали свою принадлежность к тому или иному кварталу, и зачастую кварталы соперничали друг с другом за репутацию или влияние. Могли существовать мужские клубы — либо для занятий спортом или реализации каких-то других социальных интересов, либо как средство сплочения и защиты от более изолированных элементов общества. У нас мало достоверной информации об организации общества. Но, насколько возможно реконструировать обстановку, роль всех подобных группировок в структуризации политической жизни города только возрастала.
Данные группы определялись двумя объединяющими принципами: обычаями и добровольным соглашением ради взаимной выгоды (хоть и не выраженным в форме настоящего договора). В центре принципов определения групповой принадлежности находилась патрилинеарная семья, в управлении которой общепринятые обычаи оказывались сильнее. В обстановке аграрного общества все способствовало строгой преемственности культурного мировоззрения и социального положения от отца к сыну: вера отца была верой сына, а сыновья отцовских друзей были друзьями сына. Так происходило далеко не всегда, сыновья вечно восставали против отцов в той или иной мере. Но чаще всего складывалось так: появлялась семья, в которой в течение нескольких поколений, от отца к сыну, от дяди к племяннику передавались деловая репутация, специализированные знания, моральные принципы, роль в гражданском обществе — иногда на довольно высоком уровне компетентности. Вероятность такого сценария повышалась и благодаря тому, что в высшем сословии у мужчины, как правило, было несколько женщин, и ко всем рожденным от них сыновьям относились одинаково: так увеличивались шансы, что хоть у одного из них окажутся характер и способности, необходимые для поддержания семейной традиции. Такие семьи отличались высокой сплоченностью. Чтобы помочь одному ее члену добиться успеха, усилия прикладывала вся семья — если мужчина добивался успеха в торговле, от этого выигрывали не только его жена и дети, но и братья и их дети, и даже иногда двоюродные братья. Точно так же семья поддерживала и в трудные времена: если мужчина оказывался не у дел в результате военных действий или немилости двора, он всегда мог обратиться за помощью к более успешным кузенам.
Различные городские группы строились вокруг таких семей как надежных и постоянных объединений (насколько можно судить по нескольким примерам). Преемственность в ремесленной группе могли обеспечить несколько крепких ведущих семей. Точно так же обстояло дело в городском квартале или в религиозной общине. Вокруг более состоятельных людей и их семей — айанов — концентрировался постоянный круг тех, кто обслуживал их или имел отношение к представителям обслуживающего сектора, или те, кто в более широком смысле рассчитывал на их протекцию и покровительство в благодарность за экономическую и социальную поддержку. И здесь присутствовал элемент привычных ожиданий соблюдений обязательств со стороны покровителя, сходный с теми, что имели место в семейных отношениях. Но в случаях, которые нам известны — покровительство поэтам, защита суфийским наставником (пиром) своих соседей, партнерство мужского клуба с богатым купцом, — отношения строились на расчете (хоть это и не всегда объявлялось открыто) на взаимную выгоду и прекращались, как только шансы получить такую выгоду исчезали. Это был не древний обычай, а взаимная договоренность, которая лежала в основе отношений патронажа, связывавших городское население. Хотя без сплоченности семьи как ядра общества были бы невозможны его непосредственность и индивидуализм. Соответственно приезжие вливались в систему патронажа без труда, если могли предложить в обмен на покровительство достаточные личные способности.
Открытость таких отношений в городе — их зависимость от индивидуальной инициативы и квалификации, равно как от текущих обстоятельств, которые им сопутствуют, — была типичной при системе айянов-эмиров и определяла ее социальную гибкость и адаптивность. Этот прагматизм отражался и в механизмах замещения всевозможных государственных постов.
Механизмы гражданского общества: замещение государственных постов и общественная политика
Должность обычно переходила к членам одной и той же семьи: такой принцип диктовала преемственность отношения к делу и компетенции, даже когда по закону кандидата на ту или иную должность назначал эмир. Потом, если должность оставалась в семье, это обеспечивало лояльность со стороны ее членов и определенную стабильность. Эмир должен был сам назначать себе преемника из числа представителей своего рода, предпочтительно сыновей. Кади и сельские старосты, как правило, избирались из представителей семей текущих кадиев и старост. Даже главе суфийского ордена, который сам выбирал себе преемника из круга своих учеников, рекомендовалось отдавать предпочтение собственному сыну, если тот был его учеником. Но подобную семейную лояльность объяснял прагматизм, а не предписания сверху. Должности считались пожизненной обязанностью и обычно являлись стержнем еще одного круга личных связей — покровительственных или договорных. Существовала вероятность, что сын будет выше чтить все эти связи, чем человек со стороны, который принесет с собой связи собственной семьи и нарушит преемственность.
Но в этих рамках семейной преемственности — и за ними, когда таковая оказывалась неприемлемой, — преобладали два принципа наследования должностей: назначение и конкурс. (Здесь я делаю некоторое обобщение, которое, возможно, не одобрили бы участники событий.) Именно по этим принципам принималось решение, какому сыну или родственнику передать пост. И при назначении, и при конкурсе круг кандидатов обычно ограничивался несколькими претендентами — если не из соображений семейной лояльности, то из понимания, что только люди, добившиеся известности, годятся на данную должность. Когда халиф аль-Мамун попытался назначить своим преемником человека со стороны (аль-Рида), его выбор вызвал протест Аббасидов и преданных им людей, и в итоге ему пришлось уступить. Когда суфийский наставник Джаляляддин Руми назначил преемником любимого ученика, не имевшего авторитета у других учеников, после смерти Руми выбранного им человека проигнорировали, и лишь благодаря настойчивости сына наставника, которому была предложена эта должность, ученик был восстановлен в правах. Тем не менее определенная свобода действий, позволявшая назначать или устраивать состязания, была решающей: среди кандидатов могли оказаться сильные и слабые, дерзкие и осторожные, склонные к прогрессивной политике или к консолидации. При каждом выборе на должность, возможно, решался какой-либо вопрос долгосрочной политики.
Принцип назначения — единственный признаваемый шариатом, кроме особого случая с троном самого халифа. Кандидатов на все оговоренные шариатом публичные должности должен был назначать халиф личным указом (если возможно) — по сути, из числа его личных агентов, за действия которых он нес ответственность. И когда халиф не мог этого сделать, назначения должен был осуществлять эмир. Такие назначения сверху можно было, конечно, отменить указом. Изначально это была моральная и военная концепция социальной организации, но в контексте аграрной монархии ее можно было реализовать только при сильной бюрократии. В полной мере она не реализовывалась никогда. В Средние века самые важные местные посты, за исключением постов при дворе эмира, были автономными, подобно должности самого эмира. На эти посты назначались представители возглавляемых ими объединений, и выбранное лицо находилось на должности всю жизнь. (Тех, кто назначался таким образом — выбором из числа нижестоящих, а не указом сверху, часто называли шейхами — «старейшими», особенно в религиозном контексте.) Здесь потенциально определяющей при выборе на должность была конкурсная основа.
Конкурс мог проводиться между сыновьями эмира при замещении должности их отца, среди учеников (и сыновей) суфийского пира при назначении главы ордена, среди местных проповедников одного из мазхабов при выборе неофициального лидера, или среди старейшин гильдии на звание шейха, т. е. наставника, всей гильдии. Очень часто конкурс предвосхищало решение предшественника. Если избранный почившим должностным лицом человек являлся приемлемой кандидатурой, это решение вступало в силу. Идеей этого способа было приблизить назначение на автономные посты к назначению сверху. (На практике это правило было принято шариатскими учеными для наследования самого халифата.) Временами может показаться, что наследование должности по рекомендации предшественника было обычным делом. Но из нескольких случаев явствует, что должностное лицо, если только оно не обладало очень сильным характером, не могло самовольно назначать себе преемника. Самое большое, что он мог сделать, — это предоставить своему любимцу некоторые преимущества перед состязанием. Живые настаивали на своей прерогативе в выборе преемника. В таких случаях — и в ситуациях, когда предшественник все-таки не сделал своего выбора, — проблему решал конкурс в прямом смысле.
Как правило, это была борьба за влияние. Стороннему наблюдателю она могла бы показаться загадкой. Но главный механизм состязания — принцип «омнибуса» — почти универсален. Понятно, что победивший сможет отблагодарить своих сторонников, и сомневающиеся спешат перейти на сторону кандидата, который умеет убедить их в способности выиграть. Так, когда Ибн-Pyx сменил на посту второго вакиля (вследствие предварительной рекомендации), финансового представителя Сокрытого имама двунадесятников, как минимум один влиятельный член секты двунадесятников отказался вначале его признавать. Он и его приспешники отступились от нового вакиля. Но Ион-Pyx сумел заручиться поддержкой существенной части этой группы в день своего формального назначения и убедить несогласных признать его. Однако иногда этот процесс длился годами; и если не было насущной необходимости как можно скорее прийти к единому мнению, часто происходил раскол.
Когда предписания шариата или древнего обычая определяли ожидания лишь в общих чертах, а роль отдельного человека определяли преимущественно его личная рациональная инициатива и переговоры, каждое назначение подразумевало элемент неопределенности. Конкурс личностей зачастую ничего не решал: формировались две группировки, ни одна из которых не желала уступать. Затем, если должность не могла быть разделена, конкурс сводился к вооруженной борьбе, если его не предвосхищало вмешательство (либо вследствие обращения соперников, либо без такового) вооруженного арбитра — эмира. В последнем случае применялся принцип назначения сверху. (В некоторых империях позднего Средневековья — в частности, в Оттоманской и государстве Тимуридов — в некоторые периоды преемник трона определялся в результате вооруженной борьбы, и действующему верховному правителю не разрешалось назначать в преемники сына. Здесь в силу особых обстоятельств получил необычную формализацию принцип назначения в результате конкурса.)
Важнейший элемент гражданского самовыражения в городе представляли собой аристократы (айаны), многие из которых достигли высокого по местным масштабам положения благодаря подобным состязаниям. В круг аристократии входили все, кто обладал богатством или имел выдающиеся достижения, был старейшиной или имел знатное происхождение, а также занимал какой-либо пост, и по этим причинам пользовался уважением и известностью в соответствующем социальном слое. Туда, разумеется, входили люди, назначенные эмиром на ключевые посты, но большинство сохраняли независимость от эмира. (Мы вынуждены сделать обобщение на основании нескольких изученных примеров.) Кто бы ни обладал властью в силу богатства или авторитета, при формировании мнения, которое влияло на итоговое решение, учитывались уважение и патронаж достаточно большого круга зависимых лиц. Такие люди не избирались просто так, каждый заручался эффективной поддержкой. Если принимать в расчет весь город, айан мог сформировать вокруг себя весьма ограниченную группу: это кади, суфийские наставники (пиры) и другие ученые мужи, а также самые богатые купцы и главы немусульманских общин. Если брать во внимание только городской квартал, можно было включить сюда широкий круг людей, в том числе более зажиточных торговцев.
Выбор кандидата на любом уровне требовал консенсуса существенной части избирателей, дабы не допустить возможного раскола. В большинстве случаев стороны могли прийти к консенсусу. Если же на высшем уровне долго не удавалось прийти к соглашению, разделение избирателей на группы и подгруппы различных уровней делало консенсус реальным на более низких уровнях. И хотя бы на таких уровнях можно было обратиться к нейтральному арбитру. На тех же уровнях, которые подразумевали большое количество групп и, значит, больше различных интересов, по сравнению с более низкими уровнями, действовать заодно было труднее. Если же соглашения достичь было невозможно, вопрос либо оставляли нерешенным, либо раскол должен был ликвидировать эмир. (Часто встречавшееся разделение города на две большие фракции, конечно, было вторичным следствием; как правило, ни у одной фракции не было достаточной внутренней солидарности, чтобы надеяться на самостоятельное правление в случае, если бы ей удалось справиться с противниками или выгнать их.) Тем не менее в свете вероятности вмешательства такого арбитра в социальных объединениях часто находили способы прийти к известному согласию, чтобы группа представляла собой единый фронт.
Судя по всему, как раз в результате такого соглашения Рей (в Аджамском Ираке), воодушевленный сторонник правительства Махмуда Газневи, силами своего ополчения отразил новую попытку Буидов захватить его. А Балх (к югу от среднего течения Амударьи), сходным же образом довольный властью Махмуда, отбил вторжение Караханидов с севера без его помощи. Махмуд понимал, что этот акт означал некую форму власти в обществе, потенциально альтернативную его собственной, и сделал серьезное внушение жителям города за их дерзкое выступление (они же просто «подданные»!) против его врагов. Он предпочел бы, чтобы они уступили Караханидам без боя и дали бы ему прийти и захватить город чуть позже. Такая же активная гражданская позиция позволила жителям Кермана по своей собственной инициативе посадить на трон после сына Махмуда Масуда представителя Буидов. И Нишапур, точно так же недовольный Масудом, пригласил Караханидов (безуспешно), прежде чем принять правление сельджуков. Однако ни один из этих городов не предпринял попытку прожить без эмира: вопрос был только в том, какого именно выбрать. Несмотря на случайный пример обратного (Триполи в Сирии, где какое-то время правил род кади), без эмира и его гарнизона айян не мог обеспечить основной порядок в городе.
Система айанов с их переговорами и консенсусом установилась на разных уровнях общества.
На самом низком ее представляли непосредственные группы по интересам; на более высоком — самые выдающиеся из нешариатских аристократов более низких уровней, а также самые известные толкователи шариата. Эта система, обеспечивая неофициальное, но понятное положение групп по интересам на каждом уровне, дала возможность ремесленным группам (независимо от наличия строгой организации, как в гильдии), торговым группам, городским кварталам и даже городу в целом предпринимать при необходимости решительные организованные действия. Без бюрократической цепочки соподчиненности или предписанных древним обычаем статусов (отдельных лиц или целых групп) система айанов-эмиров давала возможность принимать решения, которые получали поддержку всех заинтересованных, несмотря на космополитизм и текучесть населения в растущем исламском сообществе.
Текучесть городской жизни
Эта система общественного влияния с открытой структурой предполагала социальную мобильность населения во всех смыслах и способствовала ей. Семьям и различным группам, составлявшим городское общество, сила личных связей была важнее любых структур или интересов города в целом. Это способствовало формированию в городе многочисленных групп, объединенных разнообразными интересами, и относительной независимости человека, который имел возможность искать свое место в такой сети. Это сразу же привело к фрагментации городского общества и вовлеченности в социальные процессы и сплоченности нескольких городов.
Фрагментация жизни гражданского общества ощущалась даже в планировке города по мере его разрастания. Обычно планирование начиналось единообразно и даже системно. Возведение нового города не обязательно являлось следствием экономической дальновидности. Его насущной задачей было обеспечить удобное размещение административного и военного корпусов правителя и в то же время продемонстрировать его власть и величие. Следовательно, новый город или хотя бы его главную часть, где размещались правительство и официальные органы, создавали как можно более просторными и роскошными. В новых городах закладывались широкие улицы, образующие прямолинейную сетку.
Но организации, которая бы следила за выполнением единого плана, не существовало. Даже сильный монарх не мог сопротивляться воле людей, свободно перемещающихся в соответствии со своими интересами, продиктованными их личными договорами. Вскоре город начинал ощущать последствия на себе. Появлялись отгороженные друг от друга кварталы, и в каждом из них большая часть улиц сужалась или перегораживалась, а пройти можно было лишь окольными переулками. С нескольких главных улиц отходили многочисленные тупики, образованные плотной застройкой зданий, каждое из которых было обращено фасадом во внутренний двор и не имело окон, выходящих на улицу и тупик. (Конечно, немного свободного пространства все же оставалось для особых функций — майдана, то есть плаца, где могли упражняться военные, или хотя бы мусаллы, открытой площадки за стенами для специального намаза (салята) во время праздника (ид).)
Отчасти это объяснялось некоординированными действиями отдельных людей, когда личные интересы доминировали над общественными, и не было организации, которая следила бы за соблюдением последних. Мы уже отмечали, что предписанное шариатом предпочтение прав человека правам общества привело к тому, что дома жителей то и дело стали выползать на проезжую часть, так что пройти мог только пеший, хотя шариат оговаривал минимальную ширину улиц. Огромные дома состоятельных граждан, как средоточие влияния, стали более значимыми, чем места общего пользования, даже городские площади. Но на планировку городов влияли и интересы более крупных групп. Поэтому положительные моменты в городской организации Средневековья способствовали укреплению тенденций, уже существовавших при более сильной бюрократии. Городские кварталы становились материально самодостаточными в большей или меньшей степени, в каждом были свой незамысловатый рынок для повседневных потребностей и стена, отгораживающая его от других кварталов. Ворота, ведущие в соседние кварталы, закрывались на ночь в целях повышения безопасности. Дело было не только в том, чтобы сократить территорию, на которой мог орудовать или скрываться от поимки вор. Это снижало вероятность трений, особенно когда соседние кварталы придерживались разных религиозных верований. В суннитском городе мог существовать шиитский квартал, в городе ханафитов — шафиитский; и массовые беспорядки предотвращались ограничением взаимных посещений или даже проникновением в принципе.
Фрагментации городов соответствовала склонность людей перемещаться из одной социальной ниши в другую. Многие горожане с легкостью переезжали. Авторитет купцов, конечно, вел к тому, что путешествия считались делом благородным. Но из города в город переезжали не только купцы, для которых это было частью работы, но и ремесленники, обладавшие ценными навыками, которые стоили дороже там, где их не хватало. Почти никто не был неразрывно привязан к местной общине. (Тем не менее некоторые особые виды ремесел практиковались только в одном или двух городах, и это помогало удерживать мастеров от переезда и утечки профессиональных секретов за границу.) Практически каждый известный мусульманин жил в нескольких городах: военные преимущественно переезжали в ходе завоеваний, ученые путешествовали в поисках новых наставников, библиотек и более благодарных аудиторий, поэты старались найти более щедрого покровителя. Следовательно, состав городского населения — даже состав аристократических кругов — время от времени менялся. Но, поскольку во всех городах ситуация была похожей, приезжие довольно легко вливались в жизнь общества. Такие переезды не ограничивались, судя по найденным мной свидетельствам, пределами разных политических или лингвистических зон; можно было свободно перемещаться по всему исламскому миру.
Географическую мобильность сопровождала мобильность социальная. Эта характерная особенность региона имела далеко идущие последствия для исламской культуры. Степень социальной мобильности была высокой даже среди крестьян. Смышленому и энергичному крестьянину не было нужды покидать свою землю, поскольку часто он мог улучшить свое положение в родной деревне, удовлетворяя потребности односельчан в определенных ремеслах или торгуя вразнос, или накапливая земельные участки. Но именно в городе социальная мобильность была самой высокой. Сыновья зажиточных крестьян, как правило, имели связи в городе и часто переезжали туда. Да и бедняки или их сыновья при попадании в город получали широкие возможности.
Но даже в городах существовал предел мобильности. Как и везде, сыновья обладали преимуществом при наследовании сферы деятельности и круга общения своих отцов. В исламском сообществе это было важным преимуществом для всей семьи, если не для отдельных ее членов, вследствие тенденции богатых людей иметь больше выжившего потомства, чтобы хоть кто-то из сыновей оказался пригодным к продолжению отцовского дела. Для бедных семей вероятность вымирания была выше. Здесь в дело вступает классовый градиент населения, благоприятный для выживания высших слоев. Более того, богатые считали купцов людьми второго сорта, что не могло не отразиться на последних негативно. Подобно тому, как военные смотрели свысока на гражданских, все бюрократы (катибы) презирали купцов, купцы — ремесленников, а ремесленники, производившие дорогие товары (к примеру, ювелиры) или не занимающиеся тяжелой и грязной физической работой, — тех, чья работа считалась менее привлекательной и кто при возможности занялся бы чем-то получше, если представится (к примеру, ткачей). (Такие различия нашли отклик и в шариате — правда, только в поздний период и не среди шиитов. Некоторые законоведы, различавшие три уровня достоинства ремесленников, считали, что дочери ювелира непозволительно выходить замуж за простого портного, а дочери портного — за ткача. Иногда свидетельство представителей менее уважаемых профессий даже не рассматривалось в суде.) У среднестатистического человека из низов было мало шансов приобрести авторитет в свете.
Тем не менее, более привилегированные семьи вынуждены были заново завоевывать свое положение практически с каждым новым поколением. Выживание относительно большого числа сыновей означало, что каждый из них унаследует только часть отцовского имущества, и, кроме того, богатые жители тоже страдали от некоторых бедствий — не только из-за близости ко двору, но и во время войн, когда первыми грабили самые богатые дома. У новичка всегда было много возможностей. Бедняк, если он обладал способностями выше среднего, мог найти способ преуспеть.
Для самых одаренных существовало минимум четыре пути наверх. При особом везении и выдающихся талантах можно было добиться успеха в торговле: богатые купеческие семьи, как правило, в течение нескольких поколений теряли свое ведущее положение, и их место занимали новые люди. Мы уже отмечали, что даже крестьянин мог стать воином, а способности в военном деле могли серьезно ускорить карьеру. Другие пути наверх были связаны с религией и отчасти с образованием. Молодой человек мог добиться общественного положения и влияния, если не богатства, до определенной степени и с ограниченными карьерными перспективами, когда становился суфием и получал в итоге звание пира, суфийского учителя. Религиозное образование давало одаренному юноше возможность дослужиться не только до должности кади или муфтия, но и вращаться в администрации или заняться менее специализированной сферой деятельности.
По меркам аграрной эпохи образование было весьма широко распространено. Почти любой талантливый мальчик умел читать и писать и имел возможность обучиться основам знаний, которые позволяли ему продолжить образование, в школах Корана, имевшихся даже в деревнях и субсидируемых с помощью вакфов.
На базовом уровне образование означает грамотность. Но пользу всеобщей грамотности иногда преувеличивают. Показатели количества грамотных по отношению ко всему населению не дают представления о том, какой процент населения сумеет получить предназначенную для него письменную информацию. Использование письменности может стать весьма важным средством формирования общественного мнения, когда выходит за стены храма на рыночную площадь, где обычно предоставлялись услуги по чтению и письму, и даже те, кто не умел читать сам, дословно узнавали содержимое письменных объявлений и даже популярных книг. Письменность еще более эффективна как способ формирования общественного мнения, когда грамотность приходит в простые семьи: то есть когда в большинстве семей хотя бы один человек умеет читать. В городах — по крайней мере, в некоторых сословиях — была распространена грамотность на уровне семьи. (Заметим, что общий уровень грамотности городских семей можно обозначить — в терминах современной статистики — «общенациональными» десятью процентами, т. е. двадцатью процентами всех мужчин.)
Шариат как одна из сил в гражданском обществе
Три дозволенных религией института, в которых мог участвовать каждый, объединяли и членов мусульманских групп, из которых состояло население города (причем неважно, как давно тот или иной человек поселился здесь), и до какой-то степени эти объединения друг с другом. Первым был шариат — достаточно стандартизированный свод законов: даже такие разные течения, как ханафиты, шафииты и джафариты, особенно не отличались в части того, что считать приемлемым с правовой точки зрения; не говорилось там и о различиях людей по принципу национальной принадлежности. Социальная жизнестойкость двух других институтов, фондов вакфов и суфийских тарикатов, сама определялась нормами шариата.
Шариат поддерживала многовековая эмоциональная приверженность ему людей. Исламский общественный строй предполагал широко распространенную преданность вере, мусульманской умме (сообществу) — и, следовательно, обязательствам, налагаемым законами шариата. Эта преданность являлась не только духовной, но и социальной добродетелью, а в каком-то смысле — и политической; пожалуй, в большей степени у преимущественно мусульманского населения в Средние века, чем у арабов времен завоевания, для которых важнее была преданность их делу, а христианские арабские племена приравнивались к мусульманским. Солидарность мусульман как единого целого ощущалась на личном уровне: например, сообщая о природных катастрофах, летописец мог исчислять количество жертв в «мусульманах», а не просто в «человеках» или «душах». Ходил анекдот про лысого мужчину, который обнаружил пропажу свой шапки, когда вышел из общественной бани. Банщик утверждал, что на лысом не было шапки, когда тот пришел, и его незадачливый клиент попросил стоявших рядом людей рассудить их: «Мусульмане, разве есть такие головы, которые носят непокрытыми?» Все дело в том, что, будучи мусульманами, они были обязаны защитить собрата по вере.
Такое чувство мусульманской солидарности не институтиализировалось в прямое ограничение срока полнопочий правителя. Те, кто создавал шариат, желали отчасти нейтрализовать власть халифа и сохранить рассредоточенность власти во всем обществе. Вероятно, этой цели соответствовало то обстоятельство, что позже джамаиты отказались формулировать какую бы то ни было шариатскую процедуру низложения полномочий халифа или эмира как его наместника, если те нарушили закон шариата. Они не сделали этого и тогда, когда было доказано (например, ашаритом Абд-аль-Кахиром аль-Багдади в XI в.), что низлагать нечестного халифа были обязаны, в принципе, улемы. Поскольку низложение обещало стать, в лучшем случае, опасным предприятием. Конечно, казалось лучшей идеей сосредоточить внимание людей на укреплении позиций шариата до такой степени, чтобы произвольные вторжения в покои правителя стали не нужны, вместо того чтобы провоцировать восстания, в результате которых вряд ли трон занял бы кристально честный халиф (и которые в случае успеха укрепили бы авторитет нового халифа как имама благодаря усилиям улемов). Следовательно, даже когда теоретики в ретроспективе приписывали средневековому халифу более важную в шариате роль, они не отметали позиций толкователей хадисов и шариата, которые сводили долг каждого мусульманина «повелевать праведное и остерегать от неправедного» к безобидным личным наставлениям.
Но два других правила, выражавших политическую солидарность мусульман, сохраняли свою действенность в полной мере: а) главная обязанность мусульманина — участвовать в священной войне (джихаде), защищая границы Дар-аль-ислама от неверных, и б) вероотступничество считается предательством и карается смертью. Эти обязательные правила, во времена Мухаммада объяснявшие, в чем заключается преданность молодому утверждавшемуся правительству, теперь определяли пределы, до которых социальное объединение настаивало на лояльности ее членов к общим принципам — и за которыми оно отказывалось в случае необходимости предоставлять свободу действий правительству эмира. Тот же дух — требование мусульманского единомыслия как членов одного сообщества — проявлялся в распространенном враждебном отношении к зимми, которое иногда приводило к массовым кровавым дракам и убийствам, если немусульманское население сокращалось до заметного меньшинства. (Нужно добавить, что общинный ригоризм очень медленно и постепенно вел к тому, что неверным запретили посещать святые места. Еще в XV в. главный храм в Машхаде близ Туса, сейчас закрытый для неверных из-за массовых протестов мусульман, могли спокойно и без скандала посещать иностранцы-христиане.)
Эта социальная лояльность мусульман с оттенком «политической добродетели» позволяла формировать мусульманское общественное мнение по довольно узкому кругу вопросов (например, борьба с немусульманскими захватчиками). Мнение это было больше чем просто точкой соприкосновения разнообразных частных интересов. Все обычно принимали его как данность и действовали, исходя из ожиданий, что оно будет основой для поступков остальных. Именно общественное мнение узаконило положение кади и наделило его определенной степенью автономности от эмиров. Именно общественное мнение, единственное в своем роде общественное мнение, на которое можно было опираться, даровало шариату и его улемам их практическую монополию на правовую и моральную легитимацию даже в те века, когда наиболее почиталась суфийская мистика как альтернативная форма проявления религиозных чувств. Сила этого общественного мнения и его отказа признавать законность доминирования нешариатской власти часто находит подтверждение в мусульманской политике. Самый известный случай — пожалуй, падение династии Саманидов, когда улемы помогли убедить жителей Бухары не сопротивляться войску Караханидов на том основании, что борьба против мусульман — худший грех, нежели падение правительства.
Шариат был единственным, но не неоспоримым источником власти. Мусульманское общественное мнение подкрепляло его только на относительно общем уровне социальной деятельности. Постоянное обращение к нему правителей, не принимавших во внимание никакие местные обычаи, и его чрезвычайные идеализм и формализм объяснялись ограничениями его применения: военный суд эмира сам выносил вердикты по административным и криминальным делам, обходя процедуру шариата и подчас даже его основополагающие нормы, как это делал когда-то суд халифа. Что не менее важно, многие локальные споры внутри разных групп, из которых состояло население города и деревни, всегда регулировались решением патрона или достижением компромисса путем переговоров. На самом деле, суд шариата, как индивидуальное правосудие, часто не нравился людям, которые старались сохранить сплоченность местных групп. Они, как правило, не обращались со своими спорными вопросами в суд и решали их на уровне семейных советов и арбитров из числа членов гильдии или жителей деревни. Если же в суд все-таки приходилось идти, спорщики часто радовались, когда удавалось подкупить судей и с их помощью подтвердить привилегии местных групп (или убедить их закрыть глаза на соперничество внутри этих групп) вопреки нормам шариата и под их маской.
Мы перечислим несколько альтернативных источников влияния, к которым можно было обратиться. Бюрократические предписания и прецеденты были в почете у катибов, пытавшихся соблюдать формы централизованной администрации. Они также высоко чтили то, что можно назвать династическим законом — общие указания, изданные султаном или эмиром и соблюдаемые их преемниками. У местных групп — таких как мужские клубы или гильдии — были свои правила, иногда очень четкие. Такие прямо выраженные нормативы необходимо отличать от еще более мощного источника власти, хоть и постоянно меняющегося: от местного обычая. Наконец, существовал указ эмира, часто считавшийся как минимум свидетельством военного положения, поскольку демонстрировал его власть как военного главнокомандующего и обычно применялся при дворе в отношении людей, находящихся в его непосредственном подчинении. (Эти два последних источника власти в особенной степени представляют относительно более высокую зависимость от традиций того времени и их индивидуальной трактовки, нежели от безличных прагматических предписаний.) Вдобавок, разумеется, мы всегда должны причислять к источникам власти определенное количество харизматических инициатив, которые обуславливались исключительно авторитетом конкретной творческой личности, а в переменчивом обществе исламского мира шансы для подобных инициатив возникали регулярно.
Все эти источники влияния упрочились в результате развития традиций: и четким предписаниям, и обычаям, и даже указам эмира повиновались по причине того, что развитие конкретной традиции шло в соответствии с изначально определившими ее событиями и с учетом необходимости сохранить ее жизнеспособность. (Даже харизматичный лидер обычно принимал необычайно живое участие в диалоге, который поднимала в обществе та или иная традиция.) И все же ни один из этих источников, даже местный обычай, не мог выдержать удар периодической дискредитации или пренебрежения, в отличие от шариата. В индуистской Индии жители деревни иногда заключали между собой соглашение и утверждали его у монарха, который следил за его выполнением в отношении всех сельчан. Но среди мусульман подобный механизм был маловероятен — во-первых, потому что власть любого эмира была относительно преходящей, а во-вторых, потому что обращение к общепринятому шариату могло лишить законной силы любой договор местной общины. Проблему легитимации какого-либо института, выходящего за рамки шариата, при острой необходимости прекрасно иллюстрирует календарь. Общество, тем или иным образом зависящее от земли и природных ресурсов, должно вести отсчет времени хотя бы в приблизительном соответствии с временами года. Если не брать в расчет ничего больше, доходы из года в год должны поступать после сбора урожая, когда у крестьянина появляются средства для уплаты долгов, а не в любой момент какого-то не связанного с землей цикла. Мусульмане тоже вынуждены были в практических целях пользоваться солнечным календарем. Каждое правительство утверждало в фискальных целях солнечный календарь, который затем применялся и для практических нужд. Но единственный календарь, разрешенный шариатом, был лунный, состоявший из двенадцати месяцев и не соответствовавший реальным временам года. Следовательно, все солнечные календари люди признавали только для определенных практических прогнозов, и это привело к нарушениям в этих календарях, поскольку не учитывались такие вещи, как високосный год, которые обязательно было привязывать к определенному времени года. Все календари приходилось время от времени реформировать, и ни один не использовался длительно или повсеместно. Не только набожность, но и необходимость в единообразии и надежности привели к тому, что в широких контекстах, таких, как история и дипломатия, стал использоваться только исламский лунный календарь.
Тем не менее шариат не просто сдерживал развитие других форм законности. Несмотря на все его ограничения, в своей специфической сфере он выполнял жизненно важную положительную функцию. Хотя его часто игнорировали при дворе и в крестьянской среде, он неизменно демонстрировал эффективность по форме и по существу в отношении купцов (хотя они пользовались и нешариатскими торговыми законами) — возможно, потому что им приходилось придерживаться космополитических взглядов. Также к шариату обращались представители всех сословий, когда требовалось единство общества независимо от групповой принадлежности. В целях универсального стандарта легитимации было важно, чтобы законы шариата были по возможности одинаковыми повсеместно и постоянно.
Добиться этого было очень сложно и в полной мере так и не удалось. То, что иногда называют «непоколебимостью» мусульманских законов, не закладывалось в основу принципов его формирования. На самом деле, принципы, проповедуемые шариатом, не только не учитывали местных традиций, но заставляли усомниться в какой бы то ни было преемственности в виде следования обычаям. Такие принципы могли бы сделать закон уязвимым для непредсказуемых интерпретаций каким-нибудь правоведом, который мог обратиться к Корану и хадисам и истолковать их под себя. Избежать этого и добиться предсказуемости удалось, оговорив для каждого мусульманина обязательную принадлежность к одному из мазхабов (школ фикха). Между суннитами существовала договоренность, что все мазхабы, происходящие от великого имама — например, аль-Шафии или Абу-Ханифы, — были равно приемлемы. Но конкретный человек должен был строго придерживаться только одного из них и не метаться, что ему было удобнее. Даже правоведы, таким образом, должны были подчиняться решениям, допустимым в рамках избранного мазхаба, и высказывать собственный иджтихад (умозрение), только когда не удавалось достичь согласия или возникали новые вопросы.
Таким образом, закон шариата сохранял единообразие, чтобы удовлетворять потребности огромного исламского сообщества независимо от политических границ: куда бы ни отправился мусульманин, он мог рассчитывать, что в новом месте будут те же законы, и его права, признаваемые в одном месте, будут внушать уважение и в другом. Даже когда (как это и бывало в соответствии с принципами, разработанными в разных мазхабах) кади применял местный закон, этот закон был обязателен для всех мусульман, находившихся на тот момент в этом месте, а не только для людей определенного статуса — допустим, жителей данного населенного пункта.
Но как бы ни был универсален закон, если он применяется на практике, то с течением веков непременно претерпевает изменения. Это происходит в результате признания самых известных правоведов одной эпохи не только в каком-то одном месте, а повсюду — по крайней мере, везде, где обучали их мазхабу. Фетвы таких людей помогали обновлять закон согласно нововведениям в медленно менявшуюся аграрную эпоху посредством почти неуловимых поправок, не нарушив его универсальной применимости. Закон, направляемый такими фетвами, отдаленно напоминает англо-саксонское прецедентное право и правило «стоять на решенном». Но доводы обычно приводились неявно, в форме вопросов (ответом на которые было лишь «да» или «нет»); и такие прецеденты легче было игнорировать, поскольку судьи никому не подчинялись и не представляли единую судебную систему. Гибб указал, что историю мусульманского права можно проследить по фетвам, а не по примитивным учебникам юриспруденции, менявшимся гораздо реже, но и менее актуальным в практических обстоятельствах. (Мы обсудим некоторые попытки сохранить эффективность шариата в книге IV.)
Местные обычаи постоянно пытались подчинить идеализированным нормам шариата. Это стремление способствовало определенному единству общества, особенно на землях, первыми принявших ислам. Но разница присутствовала обязательно, и даже давление на нормы шариата могло привести к определенным результатам на местном уровне. Когда шариат вытеснял то или иное предписание адата (общепринятого местного обычая), он мог повлечь разные последствия в разных контекстах.
Семейное право шариата, к примеру, поддерживало в некоторых районах постоянную тенденцию — особенно в группах, где основной линией родства считалась женская — к доминированию мужской линии в родственных отношениях и акценту на нуклеарную семью. Момент, когда определенная группа в результате такого давления начинала переходить от главенства женской линии к господству мужской, мог иметь очень важное психологическое и социальное значение. Так, менялись сами термины, которыми родственники называли друг друга и делили на категории степень родства. Но с таким переходом возникала напряженность и в других отношениях, приводившая к неожиданным последствиям. В большинстве сельскохозяйственных контекстов нельзя было игнорировать чувство семейной сплоченности без риска спровоцировать общественные и экономические беспорядки.
В частности, катастрофа могла произойти во время передела земли как частной собственности между наследниками, особенно если доли переходили и к девочкам, которые при замужестве забирали их из семьи. Поэтому предписания шариата породили две модели поведения, которые вели к бракам между двоюродными братьями и сестрами: мужчина должен был жениться на дочери брата своего отца, чтобы ее доля наследства осталась в семье. (Возможно, частота таких браков как одна из форм эндогамии у некоторых арабских племен привела к тому, что преимущественное право наследования переходило к женщине.)[208] Такой брак заключали не всегда, но если его не удавалось заключить, кое-где могли возникнуть серьезные трения, связанные с нарушением прав. Там, где подобные браки были не приняты, желательно было обезопасить землю от всех правил наследования. Преимущество системы икта заключалось в том, что она давала такую возможность; наследоваться могло право пользоваться икта — не подлежащим разделению, — передаваемое только сыну. Тот же эффект имело образование семейного вакфа.
Кроме того, существовал второй институт, возглавляемый кади (хоть и косвенно), который помогал сплачивать различные социальные группы — это институт земельных пожертвований (вакфов). Все чаще общественные учреждения, от колодцев и фонтанов до медресе и мечетей, поддерживались
при помощи религиозных пожертвований и наследства (обычно сдаваемой внаем земли), которыми управляли такие же частные лица, как и те, что его учредили. Закят, собираемый согласно общественному праву, был изначальным способом финансирования исламского общества. Он и поныне является главным оправданием различных налогов мусульманского правительства или превращенной в ритуал формы благотворительности, но уже не считается материальной основой для решения специфических проблем исламского общества. Свою роль в этом сыграли и частные фонды вакфов. Имущество, жертвуемое в качестве вакфа, по шариату было гарантированно неотчуждаемым, и мусульманский правитель покушался на него крайне редко. Были вакфы, предназначенные для покрытия расходов города в случае непредвиденных обстоятельств. Путешественник-мусульманин, находясь в Дамаске, описывает увиденный им случай: мальчик-раб, несший дорогую вазу, споткнулся и разбил ее. Он пришел в ужас, боясь гнева своего хозяина, но прохожие успокоили его: оказалось, что существует вакф специально для слуг, попавших в подобные передряги; вазу заменили, и мальчишка спокойно вернулся домой. С помощью вакфов финансировались различные нужды гражданского общества и даже развлечения. Финансирование это было частным, но надежно защищенным от вмешательства политических властей.
Наконец, суфийское религиозное течение, развивавшееся в период высокого халифата, создало ряд распространенных религиозных предпосылок, легших в основу всего этого механизма. Суфизм, как мы увидим далее, стал отправной точкой, ориентируясь на которую, объединялось в своих религиозных чувствах все мусульманское население. Его живые и умершие святые стали гарантами спокойствия и сплоченности общества. Часто суфизм практиковали в гильдиях. Мужские клубы заявляли о наличии у них святых суфийских покровителей. А гробницы местных святых превращались в святыни, почитание которых объединяло представителей почти всех направлений. Вероятно, без едва различимого влияния суфийских орденов, придававшего исламу внутреннюю направленность на индивидуума, а мусульманскому сообществу — ощущение совместного участия в общем духовном деле, не зависящем от чьей-либо внешней власти, шариату с его безличными предписаниями не удалось бы сохранить приверженность населения своим нормам, обязательную для его эффективности.
Наличие шариата, вакфов и суфийских орденов, таким образом, делало систему айанов-эмиров жизнеспособным универсальным механизмом, а не просто временным местным укладом городов. Но и система эта, в свою очередь (с ее опорой на свободное крестьянство и военные икта), позволяла шариату подняться наверх без оглядки на бюрократический правовой педантизм того или иного государства и, таким образом, сохранять единообразие всего общества. В результате этой взаимной поддержки не было необходимости в каком-то выраженном гражданском единстве в городе. Даже прилегающей к городу территорией можно было управлять, опираясь на деревенские организации, связанные с городскими семьями отношениями патронажа. Единственным ярко выраженным и эффективным единством был сам Дар-аль-ислам.
И все-таки в городе требовалась какая-то остаточная центральная власть — арбитр, который следил бы за сохранением мира, если споры между разными группами и религиозными направлениями выльются в неискоренимую внутреннюю вражду; который обеспечивал бы регулярную армию, прежде всего кавалерию, необходимую в случае масштабного вторжения со стороны, и, в случае сбоя обычных механизмов, следил бы за сбором доходов с деревень.
Футувва, городское ополчение и гарнизонное правительство
Даже такая потребность, казалось, удовлетворялась на какое-то время средствами городской структуры. На основе различных городских связей в конце высокого халифата начало развиваться явление так называемой «автономии ополчения». В Сирии, Джазире, Аджамском Ираке, Хорасане и в других местах на некоторое время были организованы более или менее постоянные отряды народного ополчения из числа горожан. Иногда это были представители религиозных сект (например, у исмаилитов были свои отряды, и в противовес им иногда сунниты собирали свои); часто это были члены низших городских сословий, но такие отряды были более или менее тесно связаны с официальными властями. В любом случае, они формировали центры власти, с которыми следовало считаться, если требовалось их успешно мобилизовать.
Некоторые наиболее важные из данных групп имели ярко выраженный низкосословный состав. Многие горожане формировали группы, чаще всего называвшиеся на арабском футувва — «мужской клуб», — отличавшиеся ритуалами восхваления мужских добродетелей и осознанно исполняющие определенную общественную роль. Слово футувва (букв, «молодечество») выражало идеалы товарищеской преданности и великодушия (термин был заимствован из бедуинской традиции, но приобрел особый смысл применительно к городским явлениям, существовавшим задолго до арабского завоевания). На персидском соответствующий смысл имел термин джаванмарди. (В турецком член футувва назывался ахи.) При первом столкновении с термином футувва в значении мужского клуба мы обнаруживаем, что он применяется в отношении организаций из высших слоев — как и ожидалось, поскольку именно высшие сословия первыми заговорили по-арабски и стали использовать арабские термины. Но к концу высокого халифата, когда использование арабского стало повсеместным, термин стал чаще означать мужские братства более низких городских классов.
Мы уже демонстрировали, что в городах Византии, включая сирийские, существовали партии ипподрома, спортивные мужские клубы, куда входили представители низших сословий — аналогичные существовавшим в исламском мире. Они тоже потенциально могли превращаться в отряды народного ополчения, принадлежность к ним так же отражалась в особенностях одежды, и о них тоже иногда говорили как о «молодцах», «юношах». Вероятно, известность такие организации получили еще в период формирования централизованного управления городами. (Что касается подобных образований в империи Сасанидов, мы не располагаем ни положительными, ни отрицательными данными.) Поскольку такие мужские клубы были по-прежнему распространены во времена арабского завоевания, мы можем предположить наличие определенного сходства между ними и футувва, как во многих других аспектах жизни мусульман, хотя мы слишком мало знаем о жизни низших слоев в первые века развития исламского сообщества, чтобы проследить ее эволюцию по мере принятия мусульманства новыми группами населения[209].
Эти мужские клубы делились на несколько видов. Одни объединялись вокруг спорта, другие занимались преимущественно взаимопомощью. Время от времени их члены жили или хотя бы питались в помещении клуба. В братства могли входить представители нескольких разных слоев общества; вероятно, некоторые из них представляли собой банды молодых людей и подростков, отстаивавших свою личную независимость, хотя многие клубы (по крайней мере, позже) являлись профессиональными объединениями ремесленников. Может показаться почти невозможным объединение всех подобных групп под одним общим термином, но я полагаю, что должен был существовать последовательный спектр таких организаций, от одной крайности до другой; кроме того, большинство из них признавало определенные идеалы и ожидания, несмотря на свое многообразие. Более того, можно выделить особую историческую роль, которую такого рода организации играли — хорошо или плохо — в Средние века; роль, которую могли играть любые братства футувва, поскольку именно мужские клубы с наибольшей вероятностью становились отрядами народного ополчения, независимо от их состава.
Во всех мужских клубах царили дух идеализма, установка на безусловную преданность их членов друг другу и практиковались определенные ритуалы. Со временем ритуалы усложнялись и, самое позднее к середине эпохи Средневековья, стали сходными во всех футувва. Самыми яркими особенностями были одежда посвященного — специальные брюки и другие характерные атрибуты — и церемония питья подсоленной воды. В каждом городе было как минимум несколько независимых футувва, каждый из которых ревностно оберегал свою независимость и считал себя единственным настоящим футувва. Каждый футувва подразделялся на несколько более мелких групп, в которых и происходили церемониалы, и каждый член футувва был обязан беспрекословно подчиняться главе своего подразделения. (Если у мужчины не складывались отношения с главой своей подгруппы, при определенных условиях он мог перейти в другую.)
Футувва делали такой сильный акцент на взаимной преданности своих членов, что порой пренебрегали другими социальными узами. Некоторые клубы даже настаивали на том, чтобы их члены порвали со своими семьями, и принимали в свои ряды только холостяков. Это было характерно для тех футувва, которые подходили под описание молодежных банд. В то же время они гордились своими этическими стандартами, особенно принципом гостеприимства. Те футувва, куда входили, в основном, ремесленники, могли первыми предложить приезжим кров и стол. Вероятно, сила этих клубов объяснялась потребностью преодолевать изолированность человека — будь он жителем данного города или чужаком — проблему, неизбежную при свободе личности в обществе.
В футувва, как правило, интерес к спорту дополнялся военной дисциплиной, которая была обычно направлена (по крайней мере, потенциально) против официальной власти. Зачастую футувва принимали в свои ряды немусульман, рабов и даже евнухов, но туда не имел шансов попасть ни трус, ни сборщик податей, ни прихвостни тирана — то есть эмира. Члены футувва быстро обзавелись привычкой носить оружие, якобы для защиты своих братьев в случае необходимости. Когда беспорядки все-таки случались, некоторые брали за правило
грабить только богатые дома — не трогая ничего в домах бедняков. Даже их противники приписывали им строгий кодекс чести в подобных вопросах. Некоторые группы занимались «рэкетом»: состоятельные горожане должны были платить братству мзду за защиту от визитов его членов; а оно, в свою очередь, защищало их и от футувва-конкурентов. (В этом они выполняли ту же функцию, что и бедуины на дорогах в пустыне — там, куда не могла добраться рука эмира.) В летописях о братствах футувва часто говорится терминами, подразумевающими бандитизм, да и сами братья не всегда возражали против подобных эпитетов. Одного уважаемого суфия из Хорасана называли одним из таких имен — Айар — из-за его связей с футувва.
Братства футувва, по-видимому, чаще всего состояли из элементов общества, противоположных тому, что представляла собой аристократия: беднота и юноши без прочных семейных уз, которые, даже если и состояли в каких-либо отношениях с более благополучными персонами, считали, что их интересы отличаются от интересов богачей и власть предержащих. Братства считали важнейшими права людей на всеобщее равенство, а не на культурные привилегии, столь чтимые чиновниками (катибами). Иногда даже преступники или нищие строили свои организации по образу и подобию футувва. На самом деле, организация этих элементов была строже и четче, чем у более уважаемых групп. Несмотря на эгалитарные наклонности, футувва далеко не всегда изолировались от общества. Когда братья носили оружие, иногда их объединяли с отрядами добровольцев, собранных по более общему поводу — называемому ахдас. В Сирии такие отряды часто участвовали в боях вместе с тюркской армией. Зачастую футувва представляли определенные кварталы города (или были связаны с ними) и, таким образом, приобретали в них серьезное влияние. Глава братства мог и сам стать знатным человеком. Но потенциально они всегда оставались оппозицией официальному порядку, контролируемому аристократией.
Такие группы обычно являлись маргинальными по отношению к жизни города в целом, хотя иногда оказывали на последнюю значительное влияние. Даже бедняки не всегда оказывали им политическую поддержку. Бедные слои населения, даже если не придерживались социальной доктрины привилегированных классов, на практике всегда были склонны не доверять призывам ко всеобщему равенству, поскольку считали, что это просто способ расчистить место для новой, менее утонченной (и, значит, более жестокой) привилегированной группы. Но отряды ополченцев на основе футувва умели действовать сплоченно и самостоятельно. Во времена политических кризисов они могли играть важную и даже решающую политическую роль.
Мечеть аль-Азхар в Каире, Египет. Современное фото
В первой половине Средневековья важность этой роли повысилась. Уже в IX в. Саффариды из Систана в первую очередь были предводителями ополченцев футувва в борьбе с бандами хариджитов, разорявшими округу. Затем, когда Саффариды распространились из Систана по всему Ирану и отобрали бразды правления у наместников Аббасидов, местные братства в других иранских городах оказали Саффаридам существенную поддержку. Между 950 и 1150 гг. отряды народного ополчения, включая футувва, часто определяли исход событий. Руководитель городского ополчения, раис, иногда выступал в качестве главы всего города. В Багдаде, по-видимому, привилегированные слои сдерживали напор этих групп, но во многих провинциальных городах футувва формировали главную официальную силу в наведении порядка. Они не только дисциплинировали и сплачивали своих членов, но и представляли собой пример для поддержания гражданской дисциплины всего города.
Но к 1150 г. они, по-видимому, лишились политической власти. Единственным исключением было государство исмаилитов-низаритов, ну и в определенной степени города Систана. Обширное государство исмаилитов, на удивление сплоченное и устойчивое, в отличие от формаций эмиров, с начала и до конца основывалось на местных отрядах ополченцев-исмаилитов. В Кухистане к северу от Систана в довольно крупных городах существовали отряды ополченцев, которые противились размещению у себя дома сторонних гарнизонов. Несомненно, восстание исмаилитов, которое в результате своей бесперспективной тактики внесло раскол в городские общины и настроило большую часть населения против исмаилизма, оказалось решающим событием, не только подорвавшим авторитет исмаилитов, но и снявшим вопрос о какой бы то ни было автономии ополченцев из клубов футувва.
В любом случае, однако, эффективное решение политической проблемы ополченческой автономии было лишь вопросом времени. Кое-где на островах или отдаленных побережьях Аравийского полуострова независимые города все-таки иногда возникали — например, на острове Кайс в Персидском заливе (также обвиняемом в укрывательстве пиратов). Но большинство городов региона не располагали естественными средствами защиты своих внутренних институтов от вмешательства аграрной власти, пока не достигали известной степени развития. Следовательно (по моему предположению), не было разработано и никаких моделей гражданской автономии (от которой могли бы выиграть даже обособленные города). Фрагментация структуры общества и международные связи любого города, которые стали результатом старинной конфронтации с соседними государствами и империями в центре аридной зоны, делали невозможным гражданское единство на местном уровне без немедленных перемен в расстановке общественных сил. Исмаилизм действительно предлагал это в период восстания низаритов. Но обязательный разрыв с универсальной исламской традицией — потребностью в случае необходимости в обособлении гражданского общества на местном уровне — оказался слишком большим, за исключением горстки отдаленных и не слишком богатых районов.
Как в случае с исмаилитами, так и с ополченческим движением, наиболее привилегированные городские слои, от сотрудничества с которыми зависели в конечном итоге все остальные, обнаружили, что под угрозой находится слишком многое из того, что представляло для них ценность. Вот, на мой взгляд, наилучший способ реконструировать те события. Городская знать вынуждена была считаться с отрядами ополчения, состоявшими из менее привилегированных слоев и не желавшими подчиняться официальной власти — в духе шариата и самих футувва, готовых в любой момент встать на сторону бедняков в их противостоянии с богачами — и, пожалуй, не могла, учитывая собственные разобщенность и космополитизм, предложить действенную альтернативу подобному движению. Конечно, в свободном и мобильном исламском сообществе аристократия не могла быть уверенной, что сумеет контролировать народное ополчение силой закрепленного за собой статуса. Значит, ей не имело смысла рассчитывать на горожан как на воинов, подобно помещикам, набиравшим воинов из числа своих крестьян. (Гораздо позже халиф аль-Насир сделал попытку придать футувва совершенно иную направленность, как мы увидим ниже; но его метод не помог бы городскому айану обрести независимость.) Знать, по-видимому, предпочитала использовать для выполнения функции решающего политического арбитра тюркские военные гарнизоны, в большинстве своем весьма неприятных соседей.
Откуда еще могли взяться требуемые гарнизоны в подобном обществе, если в нем не было центрального правительства? Во-первых, их нельзя было сформировать таким образом, чтобы они представляли весь город на законной основе — то есть на основе безличного и актуального повсюду шариата, поскольку шариат не признавал специальных и местных общественных объединений, из которых состояли города. (Только шииты-исмаилиты нашли в своем имаме альтернативный выход из этого шариатского тупика; но их альтернатива угрожала не только официальным интересам города, а еще и ведущим улемам.) Иногда гарнизоны формировались из жителей разделенного на многочисленные группировки города исходя из более узкого интереса и без универсальной легитимации шариата. Но, судя по опыту футувва, это можно было осуществить, только пожертвовав интересами некоторого числа граждан ради всеобщего блага. Таким образом, гарнизоны должны были набираться не из представителей обычного городского общества, а из инородных элементов, и обеспечивали их эмир и его воины-тюрки. И на самом деле, город, по какой-то причине вдруг оставшийся без эмира, мог найти и пригласить нового. Так однажды случилось в сирийском Хумсе: когда эмира убили, создалась опасность исмаилитского восстания. (С одной стороны, эмир играл ту же роль, что итальянские кондотьеры в определенные периоды, но разница городских структур обуславливала разные исходы подобной расстановки сил.)
По мере становления гарнизонного уклада, автономные городские группы, которым не удалось вытеснить пришлый гарнизон своими собственными силами, объединялись, чтобы сопротивляться его вмешательству. Самыми важными городскими организациями были гильдии ремесленников, пользовавшиеся большим влиянием в первой половине Средневековья. При высоком халифате, после ослабления более ранних формаций вслед за сменой администрации (и постепенной исламизации ее членов) ремесла были очень слабо связаны друг с другом, и правительственные инспекторы рынка часто контролировали деятельность конкретных людей и почти не применяли принцип коллективной ответственности. К началу Нового времени в исламском мире прежние профессиональные объединения либо укрепились, либо были вытеснены новыми, более сильными организациями почти универсальных форм.
Но если братствам футувва не удалось обеспечить городам независимое ополчение, они все же способствовали установлению автономии городских учреждений по отношению к гарнизонам официальной власти. Организация многих гильдий, по-видимому, повторяла принцип футувва, и они сохраняли независимый дух. Исламские гильдии не являлись, как это было с гильдиями поздней Римской империи, инструментом правительственного контроля, но, напротив, были абсолютно автономными проводниками интересов своих членов и, таким образом, часто выступали в оппозиции к властям[210].
Гильдии, организованные по принципу футувва, обрели необходимую им для выполнения своих задач духовную стабильность, благодаря тесным связям с суфизмом. Еще в период высокого халифата многие суфии использовали фразеологию футувва о преданности и благородстве, которые в их устах трансформировались в преданность Аллаху и великодушие ко всем божьим тварям. Идеалы футувва были истолкованы именно так, чтобы обеспечить духовную поддержку новым гильдиям. Некоторые авторы трактовали футувва как своего рода малый суфийский путь, избираемый теми, кто не способен был пройти полный мистический путь — тарикат. Иногда братства футувва обзаводились собственными суфийскими ритуалами, аналогичными общественному суфизму, который, как мы увидим далее, развился в первой половине Средних веков. И суфийские учителя могли быть их патронами. К концу Средневековья футувва стали (по меньшей мере, в некоторых местах), в основном, суфийской стороной организации гильдий.
Военная тирания и промежуточная анархия
В отсутствие повсеместной и устойчивой бюрократии или какой бы то ни было аграрной или городской гражданской альтернативы власть опиралась исключительно на военных. Такая ситуация обусловила распространение произвола и жестокости. Необузданная жестокость всегда являлась неотъемлемой чертой рассматриваемого общества.
Правосудие двора эмира (то есть начальника гарнизона, будь он зависимым или нет) по сравнению с правосудием кади, полагаю, по сути было законом военного времени: эмир действовал согласно своим полномочиям командующего и преимущественно в отношении тех, кто находился в его непосредственном подчинении. Всякий раз, когда эмир считал нужным вмешаться, он руководствовался, в первую очередь, безопасностью военной власти. Права отдельного человека учитывались, только когда были удовлетворены требования этой безопасности. В то же время власть эмира над тем или иным районом определялась его непосредственным военным присутствием в нем, т. е. была прямо пропорциональной его физической близости к данному месту.
В радиусе непосредственной близости эмира его власть была безграничной и отличалась произволом: все более или менее состоятельные (и, значит, заметные) горожане могли ощущать на себе его капризы, поскольку он не утруждал себя борьбой с задержками и бесконечными коррективами бюрократии с ее понятиями о том, что правильно, а что нет. Здесь проявлялся чистый деспотизм — не высочайшее безразличие великого абсолютного монарха, который надежно сидел на унаследованном троне, выступая в роли третейского судьи в спорах своих подданных, а личное вмешательство человека, чья сила зиждется на неукоснительном выполнении его приказов и который, если не брать в расчет его огромную текущую власть, не так уж отличается по социальному происхождению от любого другого полководца. Даже великие султаны, правившие несколькими провинциями по военным законам, имели склонность к произволу: сегодня их щедрость не знала границ, но уже завтра их гнев или страх оборачивался бесчеловечной жестокостью.
С другой стороны, на достаточном расстоянии от эмира, когда армейская экспедиция с целью подчинения не окупилась бы доходами с мятежных земель, не существовало вообще никакого правительства. Там царила анархия. Или, говоря точнее, самоуправление силами исключительно местных групп, общепризнанных лидеров в конкретных деревнях и племенах. За границами деревни или стоянки племени человек был предоставлен самому себе.
Но анархия периодически проникала даже в самое сердце гарнизона в форме военных стычек. Вражда военных правительств почти никогда не прекращалась. Более могущественный султан пытался подчинить себе эмиров всех городов на подвластной ему территории. Но в большинстве случаев власть султана сводилась к получению доли дохода, хотя он мог вмешиваться и в другие процессы, особенно в процедуру назначения на самые важные посты: т. е. мог назначить кого-то из военных командиров начальником над остальными. Чтобы удержать такую власть, султану приходилось постоянно демонстрировать свою реальную силу. При малейшем признаке слабости тот или иной эмир бунтовал — отказывался делиться доходами, не боясь монаршего гнева. Чтобы приструнить его, в ответ султан посылал армию, численно превосходившую войска эмира. Но при удачном стечении обстоятельств эмир мог выстоять против довольно сильного султана, если того отвлекали мятежи в других местах, или когда султан умирал, а его преемник оказывался слабее. На деле, смерть правителя зачастую служила сигналом не только к новым восстаниям, но и к борьбе за его трон, поскольку власть переходила к военачальнику, сумевшему заручиться поддержкой наиболее сильных подразделений. И, хотя обычно это был один из сыновей умершего, другие сыновья формировали различные группировки, которые вступали в бой друг с другом. Наконец, правителя, уже обретшего определенную власть, всегда учили, что упрочить ее — и заодно разбогатеть за ее счет — значит пройти проверку на военную удаль, даже на мужественность. Великий султан мог попытаться завоевать территории соседних султанов или эмира (независимо от того, подчинялся ли он сильному или слабому султану) при помощи эмиров с его собственной территории.
Еще более важным стимулом к началу военных кампаний, чем жадность или тщеславие правителя, была экономика военной жизни. Правитель обязательно держал как можно более многочисленную армию и мог сэкономить больше, чем давала ему его земля, если взамен жалованья он предоставлял солдатам возможность грабить. Правитель, который позволял такое чаще других, мог переманить воинов даже у своих врагов. Соответственно, мелкие стычки эмиров влекли к анархии не только на самом бранном поле, но и во всех городах и селениях. Все, что войска находили на своем пути, считалось законной добычей, а все, что находилось на территории эмира-конкурента, не только подлежало разорению и грабежу, но то, что невозможно было забрать с собой, уничтожалось, чтобы сократить доходы врага — или даже, по извращенной логике человеческих страстей, чтобы наказать вражеских подданных за то, что отказались сдать свой город захватчикам. Обычно все это сопровождалось мародерством и пожарами: это была анархия гораздо более серьезная, хотя и кратковременная, чем та, что возникала при известной удаленности от двора.
Панегиристы некоторых правителей хвалились тем, что во время их правления старушка могла обронить на большой дороге кошелек с золотом и найти его нетронутым на следующее утро. Такие заверения несколько преувеличены, но бдительный и беспощадный эмир вполне мог оправдывать подобные ожидания — по крайней мере, в непосредственной близости от своей резиденции. Если эмир брал за правило посылать сильный отряд неподкупных воинов, чтобы наказать банду грабителей, и об этом становилось широко известно, ему удавалось поддерживать порядок и безопасность. Кроме того, в некоторых мусульманских областях за пропажу, случившуюся у путешественника, могли привлечь к коллективной ответственности всю близлежащую деревню, так как путешественники имели право предпринимать меры против любых местных (и, значит, хорошо известных) граждан, нарушавших правила, или доносить на них. Однако все упиралось в сильного эмира, дорожащего своей репутацией, держащего войска в беспрекословном подчинении и способного добиться от них постоянной боеготовности, быстрых и точных действий, характерных обычно для полиции. Воины — по происхождению рабы или искатели приключений — сами были склонны доставлять неприятности, если хватка эмира ослабевала, поскольку его положение напрямую зависело от преданности войска.
Установление военной тирании шло рука об руку с повышением уровня жестокости. Маленькие военные дворы испытывали ту же потребность в стремительных карательных мерах и деспотической воле правителя, что и великие монархии — модели которых они, по мере сил, старались копировать. Свобода действий мелких наместников иногда ограничивалась ввиду тесного контакта правителя со своим войском, но он сам мог компенсировать подобные ограничения представителей двора произволом в отношении своих подданных, который не может обуздать никакая местная власть. Военное «право» предусматривало смертную казнь за малейшие провинности, причем, как правило, приговор приводили в исполнение немедленно, не давая возможности улечься страстям или открыться новым обстоятельствам. (Великий султан, тем не менее, предпочитал оставлять за собой право последнего слова в отношении смертной казни, обуздывая пыл подчиненных ему эмиров.) Не менее ужасными были и изощренные пытки, которые часто практиковали либо в качестве наказания, либо как способ получить информацию от обвиняемого или свидетелей. Вероятность, что человек умрет под пыткой или на всю жизнь останется калекой, всегда была высока.
Те, кто чтил шариат, протестовали против подобных действий. Их возражения отражали и надежды людей на ислам как морально-этическое учение, и — в более узком смысле — чувство собственного достоинства различных относительно независимых групп, в частности, арабских и тюркских племен, которые периодически пополняли ряды служителей официальной власти. Но практических оснований для реализации их требований — уважения ко всем мусульманам — почти не существовало. Существовало два главных практических способа снизить уровень жестокости в аграрном обществе, но шариат не поддерживал ни один из них.
В рамках четко определенного класса уважение к личному достоинству можно было культивировать с помощью взаимности. Если то или иное городское сословие формировалось непосредственно из имевшегося более однородного и простого общества, старые нормы той жизни можно было какое-то время сохранять внутри этого сословия (отсюда более высокий уровень уважения к человеку чаще преобладал в районах с новыми городами). Представители аристократии, соответственно, даже в безличную и сложную городскую жизнь привнесли глубокое уважение друг к другу и чтили личный статус друг друга, как бы жестоко ни враждовали при этом. Это наиболее яркий пример более масштабного явления: во всех обществах аграрного типа, даже там, где это отсутствовало у кочующих предков, считалось нормой, что в пределах конкретной социальной группы — допустим, среди членов городских гильдий или деревенских жителей — жестокость сдерживалась силой тщательно соблюдаемых обычаев. (Несомненно, взаимное уважение граждан в классических Афинах объяснялось, в числе прочего, именно такими соображениями.) Шариат, разумеется, подобную групповщину не поощрял.
Но между сословиями — между хозяином и слугой, богачом и нищим, помещиком и крестьянином-издольщиком — не было и следа такой солидарности. В этих отношениях проявления индивидуальной жестокости, характерной почти для всего аграрного общества, сдерживались только необходимостью соблюдать приличия со стороны обладателя более высокого положения или солидарностью с представителем более низкого статуса его товарищей по сословию. Редко, если вообще когда-либо — одним из исключений какое-то время был Китай — общий и безличный закон соблюдали так повсеместно и неукоснительно, что он контролировал все отношения представителей высших и низших сословий, существенно снижая вероятность проявлений жестокости и создавая обстановку, при которой жестокость шокировала.
Как и везде, в повседневной жизни исламского мира действовали менее формальные институты, применявшиеся в межклассовых отношениях. Население могло иногда заставить считаться со своими чувствами, устраивая массовые беспорядки, убыточные для знати. У купцов и ремесленников было более достойное оружие для борьбы с серьезными перегибами — новый налог или даже неплатеж старого: они могли массово закрыть свои лавки, парализуя жизнь города и вместе с ней — снабжение армии. Эффективно отреагировать на такое мог только очень сильный правитель. (В разные периоды деятельность торговцев не подлежала произвольному вмешательству.) И здесь эгалитарная доктрина шариата не приветствовала ни особое привилегированное положение знати, ни объединенное сопротивление угнетенных классов.
Но ни солидарность, которая помогала культивировать уважение к личности внутри того или иного класса, ни напряженность в межклассовых отношениях не имели отношения к военному двору, даже к маленькому. Там индивидуальная жестокость не знала предела, за исключением случаев, когда монарх своей волей накладывал некоторые ограничения. Если же его непредсказуемость приводила к массовым волнениям подданных, гнев и мстительность эмира проявлялись самыми нечеловечески жестокими способами, какие только можно себе представить: человека привязывали к столбу, разжигали вокруг костер и ждали, пока пламя не поглотит жертву; замуровывали в кирпичную стену; сдирали с еще живого кожу. При сильном правителе возможны были исключения, когда жертву неожиданно миловали, дабы не провоцировать мятеж его сторонников. Пожалуй, чаще, чем в других регионах в Средние века, при многих мусульманских дворах, особенно при самых могущественных, почти повсеместно применялись подобные наказания.
С падением империи халифата проблемы военной тирании, скрытые, пока общая бюрократическая система еще была в силе, обострились. Уже такие правители, как Буиды (военачальники, ставшие монархами), демонстрировали некомпетентность в управлении остатками бюрократии в подвластных им областях, их волновало лишь сиюминутное благополучие их войск. Все более серьезные государственные образования того времени представляли собой относительно успешные попытки подняться выше уровня локального военного деспотизма и анархии. Но к концу данного периода в центральных районах достичь этого становилось все труднее. Как только была утрачена структура империи, ее уже сложно было вернуть, поскольку никто не пытался что-то изменить в обстановке военного положения: оно прекрасно отвечало основным политическим требованиям сообщества. Надежды населения на великую абсолютную монархию, способную обуздать тиранию мелких князьков, крепли по мере того, как один за другим доказывали свою неэффективность менее масштабные модели власти. Умы менее терпеливых обратились к хилиастическим концепциям, получившим особенную популярность во второй половине Средневековья.
В. Повседневный быт
Надеюсь, я достаточно внимания уделил основополагающим экологическим (природным и культурным) условиям, которые привели к необычному соотношению коммерческих и аграрных интересов в исламском мире в Средние века. Также мной обозначено, каким образом это соотношение воплотилось в системе власти айянов-эмиров и в последовавшей за ней милитаризации правительства. Теперь мы должны рассмотреть, как это отражалось на повседневной жизни городов. И преимущества, и недостатки системы нагляднее представлены в связанных с ней и следующих из нее моделях экономических вложений. К сожалению, мы слишком мало знаем о производительной экономике данного периода, но для общей и условной картины сведений хватает.
Международная торговля и экономические вложения
Когда экспансия аграрной экономики в аридной зоне остановилась, централизованное бюрократическое государство рухнуло и политическая власть милитаризовалась, в механизмах экономических вложений усилились долгосрочные тенденции. Мы можем выделить три типа таких вложений в аграрную эпоху. Те, кто хотел, чтобы имевшиеся у них средства приносили еще больший доход, вкладывали их в землю, в торговлю или в производство. Не имевшие определительной структуры вложения уходили туда, где могли принести наибольшую прибыль. Но то же самое отсутствие структурированности, породив военизированное правление, не позволило системе инвестиций свободно развиваться.
Объем инвестиций в землю (за исключением земель эмиров) прямо ограничивался системой икта, хотя полностью и не исключался. Те, кто все-таки вкладывали средства в землю, рассчитывали только на получение доходов с уже начавшейся культивации, т. е. «вложением» была простая покупка прав на получение доходов, но не реального использования накопленных средств на земле с целью повысить ее производительность. Однако и шариат, и государственная политика поощряли использование капитала для культивации новых необработанных земель. И какая-то часть этого более продуктивного вида вложений обычно подразумевалась под простым землевладением — по крайней мере, в форме запасания зерна или содержания оросительных систем. Уровень продуктивных вложений в землю оставался минимальным из-за сочетания нескольких факторов. Система икта, как мы уже отмечали, не поощряла их на землях, отведенных под икта, — даже тогда, когда казна была достаточно полной, чтобы держатель икта опасался за долгосрочность своих прав. Более того, неясное будущее обычных землевладельцев при системе икта заставляло их значительную часть земель жертвовать в качестве довольно безопасного вакфа, отбивая охоту вкладывать. Семейные вакфы могли содержаться довольно неплохо, но вакфы, находившиеся в руках общественных учреждений — таких, как мечети или больницы, — как правило, приходили в упадок, поскольку управляющим не хватало личной заинтересованности и ответственности, чтобы реинвестировать средства.
Вложения в производство ограничивались не так прямо. Такие инвестиции в крупных масштабах были не очень распространены в регионе между Нилом и Амударьей даже в период процветания высокого халифата. Как мы уже отмечали, ремесленники предпочитали работать в одиночку или малыми группами и вкладывать в одно предприятие лишь небольшие средства, что означало сужение возможностей для специализированных вложений. В Средние века таким инвестициям оказывалась еще менее активная поддержка.
Регион, разумеется, не мог обойтись без производственных предприятий, и, предположительно, некоторые из них были довольно крупными. Отдельные части Иранского нагорья, особенно на северо-востоке, были богаты полезными ископаемыми — углем, железом и другими металлами. Даже нагорья к северу от Плодородного полумесяца и в Сирии обладали залежами, достаточными для потребностей аграрного общества. Дамасская сталь была знаменита своим высочайшим качеством. Более того, здесь наблюдались некоторые технические новшества, предполагавшие определенные вложения. Мы уже упоминали несколько новых отраслей, такие, как очищение сахара, производство бумаги и фарфора, игравшие важную роль в период высокого халифата. Нам довольно мало известно о подобных достижениях в Средние века, но, похоже, к примеру, что именно тогда на западе региона между Нилом и Амударьей распространились ветряные мельницы. Конечно, в этот период постепенно развивалось производство пороха. Очевидно, возникли такие отрасли, как возгонка бензина и сборка сложных пружинных механизмов (в основном, для аттракционов).
(В некоторых случаях, полагают многие авторы, поскольку то или иное изобретение засвидетельствовано в Западной Европе несколькими годами раньше, чем в регионе между Нилом и Амударьей, оно было заимствовано оттуда. Разумеется, это возможно, но во всех таких случаях существуют доказательства, что в исламском мире существовала вся цепочка развития изобретений, от самых простых до самых сложных, и нехватка документов по исламской цивилизации не должна давать нам право делать неосторожные предположения о том, что европейцы обладали приоритетом.)
Но есть данные о том, что развитие производства было сильно затруднено. Многие промышленные товары импортировали из Европы и Индии, в том числе довольно распространенные металлические инструменты, и даже из Китая. (Объем импорта, конечно, был меньше в центральных районах и увеличивался по мере отдаленности от центра. Когда мы слышим, что в Йемене собирали медный лом, чтобы отправить его в Кералам на переплавку, надо помнить, что Йемен был с торговой точки зрения ближе к Кераламу, чем к Хорасану или даже к Сирии.) Слава китайских, индийских и даже европейских ремесленников в регионе между Нилом и Амударьей была, пожалуй, экономически неоправданна. Возможно, особенно в аридной зоне, политическая обстановка, которая была терпимой или даже благоприятной для купцов с их движимыми вложениями, инвестициям в производство была противопоказана. Время от времени мы слышим о купеческих семьях, с которых военные правители взимали огромные поборы, после уплаты которых купцы шли по миру (такое могло происходить и в более стабильных политически регионах полушария). Однако подобные недальновидные поборы легче было взять с производственника, чье имущество невозможно было ни спрятать, ни перевезти.
Как мы уже наблюдали, очень много мануфактур открывало само правительство: не только монетный двор и военные мануфактуры, но и производство дорогих тканей требовали разнообразного сырья, которое ремесленнику-одиночке было трудно обеспечить, или других дорогостоящих особенностей. Обычно это не способствовало прогрессивным нововведениям, кроме таких сфер, как художественный стиль, который мог визуально оценить двор. Но чтобы частные промышленные вложения заработали, требовались масштабный рынок и уверенность в безопасности капитала. Однако в аридной зоне было трудно найти по-настоящему крупные рынки, которые располагались бы в непосредственной близости от производства, кроме столицы, где аграрная империя сосредотачивала богатства. А безопасность городского имущества (хотя за него было не так страшно, как за деревенское, с которого взимали поборы сборщики податей) явно уменьшалась по мере милитаризации власти. Даже вдали от ненасытных военных постоянные разрушения городского имущества войнами и депортация хороших мастеров захватчиками подрывали любые начинавшие формироваться традиции. Таким образом, вложения в производство не были естественной формой вложений в центре аридной зоны. И обусловленный этим упор на торговые инвестиции не способствовал возникновению в обществе таких условий, при которых промышленные вложения могли бы рассчитывать на минимальную поддержку. Возможно, именно из-за потребности в подходящей базе для совершенствования профессиональных навыков и инструментов мусульмане, знавшие об изобретенном в Китае книгопечатании и признававшие его преимущества, не смогли наладить его в исламском мире, кроме отдельных незначительных случаев (например, печатания игральных карт).
При ограниченных вложениях в сельское хозяйство и промышленность богатые больше, чем когда-либо, вкладывали в торговлю — по крайней мере, пока семья была достаточно богатой, чтобы позволить себе рискнуть частью земельных доходов. Местная торговля вблизи городов и между ними велась активно. Как мы уже отмечали, даже деревни между Нилом и Амударьей были, вероятно, менее самодостаточными, чем деревни Индии или Европы. А на торговле зерном зарабатывались многие состояния. Но, судя по имеющейся литературе, торговля, приносившая богатство и авторитет, в конечном итоге являлась торговлей между странами, равно как и межрегиональной торговлей в описываемом регионе. Торговлю сознательно разделяли на два типа: торговля тюками, или оптом, и предметами роскоши, которые при продаже в малых количествах приносили большой навар. Руководства из соображений безопасности рекомендовали купцам ограничиваться торговлей тюками — например, зерном, избегая предметов роскоши, так как именно они привлекают внимание воров или правителя. Основные оптовые товары могли перевозить на очень дальние расстояния в зависимости от спроса, особенно когда вследствие неурожая цены на продукты взлетали, привлекая импортеров. Но именно торговец роскошью обладал наиболее привлекательной репутацией (и чем дальше было расстояние, преодолеваемое купцом при перевозке товара, тем выше вероятность, что перевозимые им товары будут только предметами роскоши). Следовательно, структура общества в городах, где ведущую роль играли самые зажиточные купцы, в течение Средних веков все теснее была связана с межрегиональной торговлей, кроме тех случаев, когда этому мешали локальные обстоятельства.
Инфраструктура, необходимая для межрегиональной торговли, во всей ирано-средиземноморской зоне была, в основном, одинаковой. От Нила до Амударьи она оставалась хорошо развитой в течение всего Средневековья, хотя подчас и не сияла таким великолепием, как во времена великого халифата. Мы уже упоминали частные почтовые услуги, благодаря которым можно было общаться с людьми из других мест. Структура банков, о которой мы тоже говорили в разделе о высоком халифате, предположительно была создана ради торговли, а не для вложений в производство. Она скорее давала возможность осуществлять денежные переводы на большие расстояния, чем выдавала долгосрочные займы для инвестиций. По крайней мере, в Индии финансовые предприниматели также предоставляли своего рода услуги по страхованию от коммерческих рисков, вероятно, то же имело место и между Нилом и Амударьей. На профессиональном уровне организовывались верблюжьи караваны, которые в целом, хоть и не всегда, были эффективны даже во времена разгула военной анархии.
А вот содержание дорог можно опустить: оно было минимальным. Дороги в более ранний период имели два назначения, и оба они были связаны с военными. По ним перемещалась пехота, которая в ту эпоху оказывалась сильнее всадников, не имевших стремян. В те времена такие стабильные аграрные империи, как Персия Ахеменидов и Древний Рим, нуждались в возможности быстро перекинуть большие массы пехоты на далекие расстояния. Более того, по широким дорогам ездили повозки и телеги, которым для быстрого перемещения на большие расстояния нужна была мощеная поверхность. Империи перевозили на колесах провиант и снаряжение для армий, да и гражданские торговцы путешествовали на повозках. Но с началом господства конницы, прочно утвердившейся в седле благодаря стременам (со времен Аршакидов, правителей Парфии), скорость пехоты уже не решала исход сражений. Вскоре в регионе между Нилом и Амударьей перестали использовать повозки в качестве средства передвижения на дальние расстояния.
Верблюды полностью вытеснили колесные транспортные средства почти во всех сферах применения (на арабских землях — вдоль побережья
Средиземного моря и в самой Аравии). Причем телеги повсеместно вышли из употребления при перевозке товара — например, в Иране. Верблюд выигрывал по сравнению с неуклюжими и менее крепкими видами наземного транспорта. Соответственно, хорошие дороги, за которыми следили все прежние империи в данном регионе, исчезли, поскольку ни коммерческий, ни военный транспорт теперь не нуждался в поддержании путей в хорошем состоянии, и траты на это не окупались бы. (То есть упадок магистралей не был, как это часто изображают, результатом невежественного пренебрежения. Напротив, он был обусловлен тем, что по любым экономическим расчетам может рассматриваться как техническое усовершенствование.)[211] Вместо этого в эпоху верблюдов как транспортного средства возникла потребность в соответствующих постоялых дворах на каждом этапе пути, где можно было найти воду и сложить товар на ночь в безопасное место. Такие дворы были открыты вдоль всех основных дорог, и одним из самых известных зданий любого города был караван-сарай, где было все необходимое для купцов.
Кроме торговли, продолжавшей играть важнейшую социальную роль, основу экономической модели составляли выживание деревни и индивидуальные ремесла в городах вкупе с взиманием доходов с крестьянства на укрепление военизированного высшего сословия и его приближенных. В течение Средних веков усложнить эту схему масштабными вложениями в сельское хозяйство или промышленность становилось все труднее, хоть они и развивались в достаточной мере, чтобы демонстрировать существенный прогресс.
Секс, рабство и гаремная система: культ мужской нести
Система айанов-эмиров и, на более общем уровне, космополитические тенденции центра аридной зоны нашли непосредственное отражение в частной жизни привилегированных сословий, которые, в свою очередь, помогали формировать отличительные особенности жизни общества. Рабовладельческое домохозяйство (или «гаремная система»), характерное для высшего света, предполагало социальную мобильность населения, смешение классов и открытые и изменчивые контуры отношений патронажа между айянами. В отличие от домов высшего сословия на Западе или в индуистской
Индии, уклад которых определялся закрепленным статусом владельца, мусульманский дом мог сохранять единообразие только благодаря рабской силе и изоляции женщин. Рабовладельческое хозяйство, в свою очередь, способствовало работоспособности системы айанов-эмиров за счет того, что удавалось избегать повышения личных запросов, для которых потребовалась бы более жесткая структура общественной жизни. Однако настолько же (если не более) важным в развитии рабовладельческого домохозяйства стало понятие мужской чести, которое оно предполагало и воплощало.
Самым поразительным проявлением однородности ирано-средиземноморской народной культуры была честь отдельного человека, а именно — ощущение мужчиной своего статуса, определяемого принадлежностью к мужскому полу, и это отражалось в социальных институтах. Следует сначала описать эти проявления мужского чувства собственного достоинства в отношении вещей, свойственных многим людям, а не только мусульманам. Однако тогда можно выделить моменты, где специфические условия исламского мира и особенно его средневекового периода привели к специфическим последствиям — что, в свою очередь, повлияло на высокую культуру ислама.
Рассматривать свою частную жизнь как стремление реализовать чувство собственного достоинства — тенденция, типичная для мужчин во многих типах обществ. Вероятно, она обостряется, когда нет никаких других источников поддержания своего статуса, чем простая принадлежность к мужскому полу. В обществе, где социальное положение, обусловленное принадлежностью к тому или иному классу, было относительно шатким, чувствительность мужчины в отношении своего достоинства только обострялась. Во всей ирано-средиземноморской зоне мужское чувство чести часто проявлялось определенным образом, отличавшимся двумя чертами: мстительностью и враждой семей или групп и превращенной в социальный институт — и очень сильной — сексуальной ревностью. Как бы ни отличался образ идеального мужчины у разных классов, в целом он всегда предполагал, что идеальный мужчина будет яростно защищать свою честь в этих двух аспектах.
Даже случайное насилие на улице, когда один мужчина обижался на другого, случалось в ирано-средиземноморской зоне чаще, чем в Индии или Северной Европе. Но социально значимыми стали модели поведения, когда мужчина обязательно настаивает на своем превосходстве, призывает к отмщению в ответ на насилие, что обычно заканчивается междоусобицами. В отличие от поединков европейских рыцарей, причины вражды заключались в требовании признания не закрепленного статуса в рыцарской или аристократической иерархии, а личного мужского достоинства и влияния группы мужчин, чьей солидарностью располагал спорщик. Междоусобицы не имели ничего общего с космополитическим мировоззрением. Они были наиболее распространены у бедуинов, где выполняли незаменимую социальную функцию, и могли проявляться в относительно отдаленных деревнях, население которых не имело отношения к бедуинам (например, на Сицилии), но где вражда играла схожую роль. Однако междоусобицы наблюдались и в малых, и в крупных многонациональных городах. Иногда о ней говорили, используя терминологию бедуинов или других кочевников (с подачи литературы, прославлявшей жизнь кочевников, особенно арабской). Иногда это была вражда в ее исконном смысле, клановая вражда двух семей или родовых групп, весьма типичная для оседлых бедуинов и ассимилировавшихся с ними по разным причинам крестьян. Чаще всего в городах междоусобицы принимали форму раскола населения (как мы уже заметили) на наследственные враждующие группировки, поводом для которого могли стать политические и особенно религиозные мотивы, подобно известному расколу между ханафитами и шафиитами.
Восприятие мужской мести как нормы применительно к эмиру или султану объясняло тот факт, что общественное мнение закрывало глаза на акты жестокого возмездия за малейшие провинности, которыми отличались дворы тиранов. Применительно же к городской знати такая традиция приводила к безнадежному делению городов на многочисленные фракции, из-за чего не представлялась возможной какая-либо единая организация. К мужской «чести» относились гораздо серьезнее, чем к чувству гражданской ответственности. В то же время она, несомненно, способствовала внутренней спаянности разных объединяющих людей мотивов в городах, клубах футувва, городских кварталах, среди протеже того или иного патрона. В результате всех вышеперечисленных факторов дух фамильной вражды и мести, получивший в ирано-семитском обществе необычно высокий социальный статус, способствовал развитию характерных для Средневековья общих тенденций.
Однако еще более распространены были последствия другого укоренившегося в обществе явления — ревности. Формализованной ревностью в еще большей степени, чем простым духом мести, пропитаны народные сказания, собранные, к примеру, в «Тысяче и одной ночи». Иногда складывается впечатление, что абсолютная власть над своими женщинами являлась главным источником уверенности в себе того или иного мужчины. Женская «честь», ее стыд, играли важную роль в определении чести ее мужчины. Действительно, пожалуй, можно было нанести величайшее оскорбление мужчине, самым непосредственным образом отражавшееся на его праве превосходства и являвшееся первым поводом для мести, если поставить под сомнение честь его женщин. И любое проявление ревности относилось к категории защиты мужского достоинства[212].
Хорошо известная модель проявления вросшей в общественные традиции ревности была типичной почти для всех аграрных обществ: количество сексуальных партнеров «благочестивой» женщины строго ограничивалось одним мужем, поэтому ее самой важной добродетелью была ее верность последнему (и уклонение от каких бы то ни было сексуальных отношений до замужества); в то время как мужчины до женитьбы имели сексуальный доступ к особому классу «падших» женщин (проституток) — если, конечно, таковые были в наличии. Нигде эта модель не доводилась до такой крайности, как в центральных исламских областях. Оттуда она постепенно распространилась по всей исламской территории. Благочестивая женщина не имела права на какие-либо контакты с потенциальными сексуальными партнерами, кроме общения с мужем; вся модель брачных и социальных отношений (особенно в высших слоях) отталкивалась от изолированности женщин.
Сексуальные отношения рассматривали в двух взаимодополняющих аспектах. Они являлись формой мужского триумфа: тенденция считать половой акт проявлением превосходства мужчины над женщиной иногда возводилась в ранг торжества мужчины над покоренной им женщиной, его собственностью. То, что женщина тоже получает удовольствие, признавалось всеми, но ее подчиненная роль становилась очевидной, когда мать обучала ее навыкам сексуального ублажения своего господина и умению таким образом привязать его к себе. В то же время, потребность в закрытости сексуальных отношений проявлялась в том, что все, связанное с половыми отношениями, считалось постыдным. Мужчина не допускал, чтобы его детородный орган видели другие мужчины. И, поскольку женщины считались преимущественными объектами сексуального влечения, одно только упоминание о жене того или иного мужчины считалось непристойным. Женщины рассматривались исключительно как собственность и объекты позора, и эта установка была настолько сильной, что во многих кругах брат был обязан убить сестру, если та вступала в сексуальные отношения не с тем мужчиной, избавляя ее мужа (если она уже была замужем) от необходимости сделать это самому и от риска пробудить семейную вражду. Существуют свидетельства того, что братства футувва поощряли подобные убийства по одному только подозрению в проступке женщины, безо всяких доказательств.
Схожее отношение проявляется под другим углом в истории о святом из Шираза, который взял себе много жен, и каждая думала, что он ее не любит, потому что он ни разу к ней не прикоснулся; так длилось, пока однажды одна из них не спросила его об этом прямо, и он показал ей свой стянутый узлом половой орган, что явилось, по его словам, следствием воздержания от пищи и половых сношений. (Следует, однако, добавить ради исторической правды, что у описываемого мужчины были дети.) Рассказчик (мужчина) желает продемонстрировать нам пример самоотверженности и не осознает, что, с женской точки зрения, он может восприниматься как пример эгоистичной жестокости.
Таким образом, в браке свобода и честь независимого мужчины требовали услужливости женщин, а с ними — и детей, и всех зависимых мужчин. Соответственно, модель половой сегрегации, которую (как мы отметили) стал поощрять шариат, дополнялась институтом, в полной своей мере шариату противоречащим: «гаремной системой». Нечто вроде системы гаремов было широко распространено в аграрную эпоху, особенно в ее поздний период. Вполне вероятно, обычные для аграрного общества модели сексуальной ревности естественным образом привели к формированию такой системы по мере усложнения жизни города и повышения мобильности в нем. В частности, на полуостровах Средиземного моря византийские дамы, согласно традиции, восходящей еще к эпохе Древней Греции, не могли выходить из своих покоев, а сторонние мужчины не могли туда попасть — по схеме, весьма близкой к мусульманской. Но мусульманская форма была намного жестче.
У состоятельных мужчин было три или четыре жены, которых они изолировали от мужского общества. Кроме того, его дом был полон зависимых от него женщин, слуг и наложниц-рабынь, поскольку каждой из жен должен был прислуживать отдельный штат, да и содержание огромного домохозяйства требовало множества рук, пока не изобрели бытовую технику. Все эти люди вместе с детьми обоих полов жили в самой большой части дома, называемой «гаремом» и закрытой для посетителей-мужчин (кроме близких родственников проживавших там женщин). Таким образом, богатый мужчина имел в своем распоряжении более чем достаточно зависимых женщин, живших в мире, где женщины управляли женщинами, и рассудить их мог один-единственный взрослый и часто далекий мужчина. Или, как это часто бывало, он становился орудием воли той женщины, под чары которой попал в данный момент. (Если при половом акте мужчина доминировал, то в семейной жизни его доминирование зачастую сводилось только к постели.) Хотя визиты мужчин не допускались, женщины могли приходить в любое время, независимо от своего общественного положения. Поэтому дома-гаремы были тесно связаны с сетями многочисленных знакомых женской половины, в жизнь которой хозяин не имел доступа, отстраняясь даже от той ее части, к которой имел непосредственное отношение.
В данных обстоятельствах женские покои, как правило, становились средоточием интриг с целью заполучить любовь хозяина — которую он часто предпочитал отдавать наложницам — или его уважение (и денежные поощрения), или чтобы добиться от него предпочтения детям конкретной женщины (поскольку все дети были от него, они образовывали почти отдельные семьи, главой каждой была их мать). Мы уже упоминали о нескольких случаях, когда такие гаремные козни влияли на политику монархов.
Иногда подобные интриги представляли собой попытки какой-нибудь праздной дамы найти поклонника из внешнего мира. Соответственно, чтобы оставаться хозяином своего дома, мужчина принимал дополнительные меры, помимо сокрытия и изоляции внутренних покоев, которые помогали ему контролировать социальную жизнь своих женщин. Дом строился таким образом, чтобы комнаты, где принимали посторонних мужчин, никак не сообщались с закрытыми покоями гарема, а комнаты женщин были заперты и тщательно охранялись. Целью охраны было блюсти целомудрие всех обитательниц покоев, или, говоря точнее, поддерживать чувство сексуального господства хозяина методом исключения всех возможных соперников. Стражами могли быть крепкие женщины или глубокие старики, но уже византийцы в схожих целях (хотя даже самые богатые из них официально могли иметь только одну жену) использовали рабов-евнухов: те обладали почти такой же силой, как полноценные мужчины, и репутацией чрезвычайно проницательных людей, но не могли стать сексуальными соперниками.
Шариат мирился с использованием наложниц, хотя и с некоторыми оговорками. А вот евнухи вызывали гораздо больше сомнений. Наконец, в глазах шариата свободная женщина была (в принципе) почти такой же свободной, как и мужчина, не считая определенных отношений подчинения. Вся атмосфера подобострастия и закрытости, в основе которой лежало использование рабов-стражей, имела весьма далекое отношение к шариатскому представлению о человеческом достоинстве. Помимо этого, для правящего класса она могла обернуться катастрофой. В любом случае, женщины, содержавшиеся в изоляции, не могли своими советами внушать мужчинам благородные мотивы или своим здравым смыслом обуздывать их порывы. Только выдающаяся женщина могла подняться настолько выше своего статуса, чтобы стать настоящей помощницей своего мужа. Что еще хуже (как подчеркивают многие), типичная изолированная женщина не могла дать своим сыновьям в возрасте их раннего формирования опыт и наставления, которые помогли бы им наилучшим образом использовать возможности в более поздние годы, при познании жизни среди мужчин. Детей привилегированных родителей обязательно баловали слуги, но к избалованности обычно прибавлялись глупые и безответственные распоряжения их матери. Ситуацию усугубляла и сама система гарема. То, что женщины, которым намеренно давали плохое образование, могли руководить своими мужьями в вопросах политики, коснувшихся этих самых женщин лишь случайно, — только часть интриг, приписываемых зловещим гаремным интриганкам в летописях.
Гаремная система достигала вершины своего развития только в самых богатых домах, но на более низких социальных уровнях ее как можно сильнее ограничивали. Однако там мало кто мог позволить себе больше одной жены, и количество слуг тоже было невелико. Развитие этой ситуации прекрасно отображено в нескольких аспектах типичной истории, рассказанной поэтом Руми, о мужчине, у которого была невероятно красивая наложница. Его жена (конечно же, непосредственная госпожа для наложницы) взяла за правило никогда не оставлять мужа наедине с девушкой. Но однажды жена была в публичной женской бане — это была ценная возможность, как в гигиеническом смысле, так и в смысле общения — и, обнаружив, что забыла некую банную принадлежность, отправила за ней наложницу. Потом она вспомнила, что муж оставался в доме один, но было уже слишком поздно. Девушка поспешила домой, и парочка тут же занялась сексом. Но в порыве страсти они забыли закрыть входную решетку (обычно так запирался вход в областях, где дома были большими, и всегда кто-то находился внутри и мог поднять решетку по требованию). Жена побежала за девушкой; услышав звук ее шагов, муж наспех оделся и стал изображать, будто совершает намаз. Но подозрительная жена подняла его рубаху и увидела доказательства того, что минутой ранее муженек был занят чем-то совсем иным (кстати, с его стороны было грехом совершать молитву, не помывшись после сексуального контакта). Она ударила его по щеке и хорошенько отчитала. Должен добавить, что главной мыслью Руми в этой истории было не то, что муж — подкаблучник, и не то, что подобные сексуальные игры отдают примитивизмом (хотя гаремная система их, разумеется, поощряла), а то, что мужа справедливо разоблачили в его наивных попытках скрыть правду.
Любовники. Средневековая персидская миниатюра
В дополнение к гаремной системе существовала условная модель гомосексуальных отношений, особенно среди мужчин, которая подчас принимала весьма официальную форму Чрезмерное возвышение ревности и системы половых ограничений как ее следствия влекло жестокое подавление сексуального влечения, особенно у молодежи — как у женщин, так и у мужчин. Это уже само по себе могло заставить молодых людей обратиться к альтернативным формам сексуального удовлетворения. Требование общества к мужчине — постоянно доказывать свою мужественность — несомненно, вызывало ощущение неуверенности, лишь нагнетая обстановку и заставляя молодого человека избегать контакта с женщинами и предпочитать общение с мужчинами. В любом случае, естественное поведение большинства мужчин, особенно в подростковом возрасте, — иногда проявлять сексуальную реакцию на других представителей своего пола, когда женщины недоступны, была возведена в норму или даже в предпочтительную модель поведения. Вероятно, милитаризация высших сословий способствовала этому своим акцентом на мужественности. Именно в Средние века применительно к военным дворам эмиров можно говорить о проникновении половых сношений между мужчинами в этику и эстетику высших сословий.
Периодически менять сексуального партнера с женщины (возможно, слишком покорной?) на мужчину (может быть, более инициативного?), особенно подростка, были склонны не только юноши, не имевшие доступа к свободным женщинам, но и женатые мужчины, обладавшие значительным достатком. Как и в некоторых кругах древних Афин, красивый подросток («безбородый») или даже мальчик помладше считался привлекательным для зрелого мужчины, и при удобном случае (например, если подросток был его рабом) этот мужчина мог вступить с ним в сексуальную связь, не прерывая отношений со своими женщинами. Для мужчины даже стало нормой влюбляться в подростка так же, как влюбляются в девушку, а для подростка — отвечать ему взаимностью. В подобных отношениях тоже возникал повод для ревности. Распространенный мусульманский стереотип таких сексуальных отношений соответствовал идее полового акта как демонстрации доминирования. Зрелый мужчина, как любовник, получал удовольствие от полового акта (скорее всего, анального) с подростком, который исполнял пассивную роль. И в то время как для мужчины данные сношения были просто неподобающими (максимум безнравственными), для подростка, которым пользовались и которому отводилась роль женщины, это было настоящим бесчестьем. (Такое отношение противоречит практике спартанцев, у которых связь со старшим мужчиной укрепляла мужское достоинство молодого человека.) Подобную форму могли принимать даже отношения между подростками — одни мальчики позволяли себе доставлять удовольствие другим и быть обесчещенными, тогда как пользовавшие их считали себя настоящими мужчинами.
Когда гомосексуальные наклонности признаются обществом и не считаются наказуемыми, одни склонны говорить о «дегенерации», другие — о «терпимости». Необходимо вспомнить, что большинство мужчин, которые вслед за модой периодически вступали в связь с подростками, продолжало преимущественно интересоваться женщинами и производить на свет многочисленное потомство. Число таких мужчин всегда было малым в любом обществе, и хотя они иногда предпочитали сношения с мужчинами, перед ними были открыты широкие возможности для сексуального удовлетворения и даже для более равноправных отношений, чем позволял стереотип, им нелегко было воспользоваться этими возможностями, не подвергаясь риску навлечь на себя позор[213].
Несмотря на порицание шариатом, сексуальные связи зрелого мужчины с подчиненным ему юношей спокойно принимались в высших слоях как данность, поэтому их почти или вовсе не пытались скрывать. Иногда с социальной точки зрения для зрелого мужчины считалось более приемлемым говорить о привязанности к юноше, чем о своих женщинах, которых из-за стен внутреннего двора не должен был видеть никто. Эта мода перекочевала и в поэзию, особенно персидскую. Повествовательная поэзия, как правило, рассказывала о любовных драмах мужчин и женщин; но любовную лирику поэты (мужчины) традиционно и почти без исключений посвящали только мужчинам.
Страхи и удовольствия
Секс был не единственной сферой, где проявлялись подавление личности и извращения. Несправедливость и жестокость, уродство и фальшь на протяжении поколений в изобилии присутствовали в жизни всех людей, от крестьян до эмиров. Все это являлось неотъемлемой частью привычных институтов, и доброта отдельного человека не могла им противостоять. Есть много сказаний, где люди, если их не совсем одолели собственные несчастья, с добротой относились даже к животным, жившим среди них, вплоть до презренных псов. Но собаки в деревне выполняли функцию сторожей (предупреждая людей о приближении постороннего) и мусорщиков, и их держали специально для этих задач. Собак не держали в качестве домашних животных, дети на улицах развлекались, швыряя в них камни, и мало кто из взрослых их останавливал. В итоге собаки вырастали дворовыми животными, почти лишенными тех драгоценных качеств, за которые они заслужили глубокое уважение в регионах, где были более известны как помощники в охоте и выпасе скота. Примерно в таких же условиях росли и многие человеческие создания.
Люди часто испытывали голод и физические болезни из-за всевозможных эндемических нарушений. В открытых районах с ярким солнцем у многих еще в детстве начинали болеть глаза, и слепота была весьма распространена. К преклонному возрасту обычно появлялся ряд физических недугов, самым «легким» из которых был горб на спине. Люди постоянно и хронически отчаивались достичь даже минимальных поставленных перед собой целей и ощущали полное бессилие перед лицом таких бедствий, как голод и эпидемии. Недавно в ходе медицинских обследований была выявлена склонность современного деревенского населения данного региона к неврастении, а рассказы из прошлых времен свидетельствуют о жестоких увечьях и отклонениях.
В отчаянии крестьяне стали хвататься за любые самые изобретательные способы, какие только могли придумать, в надежде найти выход из тупика. Они активно применяли маленькие уловки, которые мы называем суевериями: их действенность нельзя подтвердить объективными доказательствами, но к ним прибегают в поисках чего-то более вероятного, поскольку они рождались из страха и диктовались случайным опытом или закономерностью, или недопониманием реальной опасности. Например, незначительная роль, которую люди могут неосознанно играть в жизни друг друга, формулировалась в понятии «сглаза» — в том, что взгляд завистливого человека мог нанести вред объекту зависти, и особенно детям. Поэтому детей могли намеренно плохо одевать или старались неодобрительно отзываться о них в разговорах с гостями, чтобы не вызвать зависти в окружающих, а гости, в свою очередь, старались уделять им не слишком большое внимание. Повсеместно в ходу были всякие талисманы, в том числе фразы из Корана (обладавшие, по убеждению многих, особенной магической силой). В частности, синий (довольно распространенный и доступный цвет) считался эффективной защитой от сглаза. Перед силой магии люди благоговейно трепетали, и того, кто прослыл специалистом в ней, боялись и старались не злить. И поскольку люди осознавали, что суеверная предосторожность все-таки иногда себя не оправдывала и что даже настоящая магия подчас оказывалась бессильной, они постоянно были готовы испытывать новые хитрости или доверяться новому магу, если тот приезжал из довольно далеких стран. Горожане полностью разделяли суеверия крестьян, будучи частенько и сами в отчаянном положении. Жены и служанки богачей — многие из них происходили из самых низов — по большей части, тоже верили во все обнадеживающие приметы и воспитывали на них своих детей. Пожалуй, единственным классом, относительно свободным от местных обычаев и магических ритуалов, были купцы. Шариат же довольно жестко порицал большинство подобных уловок.
Считается, что мусульмане были «фаталистами», но это распространенное заблуждение, поскольку здесь под одним названием имеются в виду разные понятия. Если фатализм — это отказ от каких бы то ни было попыток помочь себе, на основании того, что наша судьба предрешена, он встречается, в лучшем случае, редко: никто не отказывается подносить ложку ко рту и не оставляет это на усмотрение судьбы. Значит, фатализм может означать, что довольно большая часть населения убеждена: человеку дается лишь узкий круг возможностей. Конечно, несмотря на склонность прибегать ко всяческим уловкам, большинство мусульман пессимистически настроены в отношении своих шансов. Но это само по себе явилось просто разумной оценкой реальности и ничего общего не имело с теологией. Но правильнее всего было бы связать фатализм с отношением ко всему, что при ближайшем рассмотрении оказывается неподвластным человеческой воле. Можно соглашаться с данным фактом или нет, и трактовать его в меру своих наклонностей и приоритетов.
В этом смысле исламская религия, как и любая другая, позволяла человеку возвеличивать свое приятие неизбежного фразами, напоминавшими о высших целях, — и иногда даже обращаться в своем приятии к благому духовному делу, стремясь повысить самодисциплину или переключить внимание. (Так, суфии были большими поклонниками фатализма.) На практике обращения мусульман к судьбе происходили, в основном, по двум главным поводам. Время смерти человека было предопределено, и на это нельзя было повлиять никакими мерами предосторожности; такой «фатализм», распространенный везде и особенно среди военных, давал рациональное объяснение призывам к храбрости на поле брани, хотя и не мешал никому по возможности отражать удары вражеских сабель. (В частности, идеей о том, что смерть заберет тебя в назначенное время, где бы ты ни был, люди оправдывали невозможность уйти от чумы; но большинству людей по возможности удавалось избежать заражения.) Предопределялось судьбой и наличие средств к существованию, и их объем, что служило рациональным объяснением гостеприимству и щедрости, даже когда у человека почти ничего не было, хотя само по себе это не мешало ему искать работу, когда требовалось прокормить семью.
Смирение со своей судьбой без жалоб, особенно в двух упомянутых аспектах, внушали бесчисленные религиозные предания и в том числе хадисы Пророка. В одном предании говорится о том, как однажды к Соломону (как к одному из пророков) в Иерусалиме прилетел ангел смерти и пристально посмотрел на человека рядом с ним. Когда ангел улетел, человек спросил пророка, кто это был. Когда ему сказали, он решил, что визиты ангела не ко времени, и тут же отправился в Багдад, чтобы ускользнуть из его поля зрения. На следующий день Соломон отругал ангела за то, что тот напугал беднягу. Ангел объяснил: он удивился, увидев этого человека в Иерусалиме, поскольку планировал встретиться с ним несколькими днями позже в Багдаде. Нужно заметить кстати, что «фатализм», о котором говорится здесь, не имеет ничего общего с божественной предопределенностью волеизъявлений человека, которую признавали сунниты — более или менее — и отвергали шииты. Такие религиозные истории были в ходу среди и тех, и других[214].
В любом случае, в своих поисках мусульмане обращались к любым источникам, сулившим наибольшую пользу, и это часто подразумевало приемы, оправдываемые высокой культурой городов, с которой они были связаны и которая обладала высочайшим авторитетом повсеместно. По мере распространения образа мыслей городской элиты за стены города, в деревню, местные суеверия стали дополняться более глубокими знаниями, хотя зачастую искаженными и упрощенными до уровня экономических и социальных возможностей крестьянина. Навыки файлясуфов, служившие ранее только богачам, стали востребованы даже в деревне. Древние лекарственные снадобья жрецов и народных целителей теперь дополнили (или, скорее, были включены) сферу деятельности деревенского хакима — врачевателя и астролога в одном лице, который претендовал на знакомство с трудами Галена и Аристотеля. Подобно своему коллеге из индуистской деревни, полуграмотному ваиду, который пытался пользоваться высокой санскритской традицией в своих интересах, деревенский хаким иногда был больше магом, чем философом, больше произносил заклинания, чем занимался наукой. Но определенная непридуманная преемственность между деревенской практикой и лучшими достижениями Рази и Ибн-Сины все-таки присутствовала; и, вполне возможно, в какой-нибудь особенно везучей деревеньке практиковал какой-нибудь действительно великий доктор.
Как часто случалось среди людей, привыкших к бедности, мало кто оставлял попытки как-то облегчить свою жизнь. Люди были склонны, скорее, резко снижать заданные планки, чем прибегать к самоубийству. А когда бедствия оставались в стороне, они находили способы получать от жизни удовольствие. Очень важно, что люди не всегда наслаждались своим счастьем в одиночестве. В деревнях и даже городах многие находили удовольствие в групповых развлечениях, где могли принимать участие и богач, и бедняк, и даже слепой нищий. Так, например, свадьба не являлась эпизодом частной жизни жениха и невесты или их семей. Роль жениха и невесты была центральной в указанной церемонии, но праздник устраивался для всех их друзей. Как и во время любого другого празднества, вся деревня или городской район с удовольствием танцевали под музыку лучших исполнителей, каких только можно было найти в округе, устраивали состязания на проверку мужской силы и покупали у разносчиков безделушки, чтобы порадовать женщин; разумеется, не обходилось без распития вина. Если семьи были состоятельными, они разбрасывали на улице монеты, которые подбирали самые бедные или самые бессовестные. Для таких случаев, как и в случае с проявлением щедрости, тот, кто имел достаточно средств, мог пожертвовать всем — потому что радость всей деревни была не только его радостью, но и предметом его гордости. Если затем ему приходилось из-за своей неумеренности голодать, это лишь подтверждало древнее убеждение, что люди живут не ради еды. Как бы бедна ни стала теперь его повседневная жизнь, наступит новый праздник, который устроит его сосед, и он снова с радостью разделит расходы.
Более состоятельные сословия развлекались по-своему — охотой, если не войнами (и то, и другое довольно часто происходило за счет бедняков). Но даже они участвовали в общих празднествах, а их собственные праздники были очень похожи на крестьянские, только масштабы побольше; и в толпу швырялись целые состояния.
Подобно медицине хакимов, такие массовые мероприятия постепенно наполнялись элементами высокой культуры, поскольку она была свойственна состоятельному населению даже в деревнях. Чтецы эпических сказаний, основанных на книжных традициях, во всех концах прославляли имена героев, пленивших воображение горожан, — иногда не без смешения их с устными традициями, возникшими у самых непоседливых представителей сельского населения — бедуинских или тюркских племен.
Сцена в общественной бане. Средневековая персидская миниатюра
Мусульманские религиозные праздники проводились в каждой деревне более или менее одинаково. То есть они тоже представляли собой попытку крестьян подняться выше своего уровня при помощи высокой культуры. Кстати, от более древних праздников, связанных с природным циклом (например, Навруза, Дня весны), тоже никто не отказывался.
Религиозные празднования, даже когда основную их модель определял шариат, существенно совпадали с потребностями жизни мусульман, в которую прочно вошли. Не по велению Корана, а вследствие своей центральной роли в общественном календаре самым важным и обязательным к участию праздником стал пост в Рамадане: в девятом из двенадцати лунных месяцев года правоверные (кроме больных и путешествующих) не должны есть и даже пить воду от восхода до заката солнца. Жизнь всех людей в этот месяц соответствующим образом перестраивалась, допускались лишь самые неотложные дела. Ночами же люди объедались еще больше, чем обычно, хотя более набожные не принимали в этом участия: они зажигали лампы в мечетях и читали наизусть весь Коран, по определенной части каждую ночь. По окончании рамадановского поста происходило семейное торжество, «малый» ид (или байрам). «Большой» ид паломники празднуют в окрестностях Мекки, все остальные мусульмане — дома, но «малый» на деле оказывался масштабнее из-за долгих приготовлений и нетерпеливого ожидания, обусловленного постом и волнением перед Рамаданом.
Но вдобавок к этим праздникам не менее шумно отмечали и мавлид, день рождения (и одновременно день смерти) Пророка. Более того, дни рождения большинства местных святых (которыми, как мы увидим далее, распространенный в обществе суфийский мистицизм снабдил практически все города и села) тоже стали поводом для сбора жителей того или иного района у могилы святого с целью получить благословение, а также для гуляний и ярмарки. Эти менее значимые праздники были поводами для паломничеств, при этом выполняя и другие социальные функции — такие, какую хадж в Мекку сыграл когда-то в Хиджазе. Для каждого состоятельного мусульманина хадж сам по себе являлся самой длительной экскурсией в жизни, не только из благочестия, но и в поисках приключений или в стремлении уединиться; а иногда — и политической необходимостью.
Мусульманин, который не испытывал особую нужду, отдавал часть своих доходов бедным. Минимальная сумма закята, или узаконенного обязательного ежегодного подаяния, теоретически оговаривалась шариатом. Но благость его была связана не с обязательной платой, которую в довольно произвольном размере взимали мусульманские правительства, а с частными добровольными пожертвованиями, в частности — на празднования, или ид (направляемыми, согласно предписанию Корана, преимущественно бедным родственникам). Таким образом, подаяния стали частью затрат на торжества, способствовавшей единению местной общины.
Наконец, величайшие храмы, куда совершались паломничества, служили пристанищем тем, кто вынужден был уйти из дома — вследствие совершенного ими преступления или павших на них подозрений, или оскорбления представителя знати. Общество могло быть жестоким, но оно предоставляло прибежища от жесточайших проявлений этой жестокости тем немногим счастливчикам, кому удавалось их найти. А под защитой религии человек сохранял свое достоинство мусульманина, даже когда отчаяние заставляло его искать приюта у гробниц святых[215].
Глава III
Созревание и взаимодействие интеллектуальных традиций (ок. 945–1111 гг.)
Новый средневековый общественный строй отличался от общества высокого халифата не только в политическом, но и во всех остальных аспектах — в культуре, религии, литературе, искусстве и науке, а также в экономическом укладе и социальной структуре общества. Культура высокого халифата постепенно стала классикой, наследием, прекрасным примером из прошлого. Великие школы фикха, сформировавшиеся в это время, считались единственно возможными; шариат также был уже не экспериментом, а наследием. Каноны арабской литературной критики и грамматики, о которых спорили ученые Куфы, Басры и Багдада, были возведены почти в культ: их следовало знать наизусть и принимать как данность. А лучшая литература того времени осталась непревзойденной, единственной в своем роде, особенно в тех странах, где основным языком культуры был арабский. Официальная политическая теория всегда выказывала лояльность халифу, даже когда халифат рухнул, но ведь после краха и титула-то такого в Багдаде не существовало. Творческие люди в своих исканиях и все общество приспосабливались к новым условиям и находили новые направления деятельности, отталкиваясь от этого наследия.
Стремление мусульман к общему интеллектуальному единообразию росло по мере созревания исламской культуры и введения норм в различных сферах. Стремление же к более конкретному социальному единообразию внутри доминирующей элиты совсем утратило актуальность в жизни мусульман. У толкователей хадисов были свои представления о том, что считать правомерным в интеллектуальной деятельности общества, но и у других групп были свои мысли на этот счет, и эти группы не всегда настолько различались, чтобы исключать существование друг друга. Даже файлясуфы внушали уважение к великим мастерам своим ученикам, явно не таким зрелым, чтобы направлять свою деятельность самостоятельно, — ученикам, которые по достижении достаточной зрелости могли приобрести привычку к интеллектуальному приспособленчеству. Но в век шиитов какие-либо внешние причины, побуждающие к подобному приспособленчеству, частично нейтрализовались. Различные шиитские правители, разумеется, не жаждали устанавливать единые стандарты, которые у многих ассоциировались с суннитскими улемами. Не заинтересованы они были и в навязывании точки зрения шиитских улемов в вопросах, которые были преимущественно суннитскими. Сохраняя нейтралитет и довольно размытые контуры своих патронажных отношений с подданными, они способствовали развитию интеллектуальных исканий. Суннитские правители тоже в основном придерживались старой привычки и сохраняли общую терпимость. Таким образом, при довольно мирной обстановке и административной преемственности в крупных областях, внешние условия интеллектуальной деятельности не слишком отличались от условий в период высокого халифата.
В век шиитов и сразу после него наблюдалась череда интеллектуальных противостояний. В период высокого халифата гуманитарные и точные науки ислама стали развиваться в нескольких довольно независимых друг от друга направлениях. Знаток шариата, адиб и файлясуф ни в коей мере не жили в параллельных мирах; они поддерживали важное интеллектуальное общение, которое со временем только активизировалось. Но основные вехи истории интеллектуального развития каждой группы имеет смысл изложить отдельно от остальных. Применительно к Средним векам это было не совсем так. В X и XI вв. все разнообразные интеллектуальные традиции уже полностью сформировались — традиция адибов, шариатских улемов и греко-сирийская философская и научная традиция, долгое время зависевшая от активной работы над переводом и адаптацией. Каждая из традиций была готова выйти за рамки, обусловленные своими корнями.
Теперь, в частности, эллинисты и улемы вступили в оппозицию по отношению друг к другу, и это стимулировало интеллектуальную деятельность в той же мере, в какой конфронтация улемов с их строгой поддержкой шариата и адибов с их абсолютизмом вносила сумятицу в социальной сфере.
Из таких диалогов между зрелыми традициями, при принятии ими за отправную точку основной линии шариата, и из относительно децентрализованного и свободного социального контекста выкристаллизовались две формы интеллектуальной самостоятельности, которые, временами пересекаясь, являлись особенно характерными для данного периода. В художественной литературе мы обнаруживаем довольно светскую манеру изображать человека — в том смысле, что авторы не были чрезмерно озабочены соотношением своих образов с проблемами ислама. Затем, в трудах ярко выраженного умозрительного характера, где непосредственно довлела аксиома шариата, мы обнаруживаем нарастающую тенденцию к свободной эзотерической формулировке истин.
К концу XI в. в политической обстановке уже не доминировали шииты. (И меньше интеллектуалов принадлежало к старым шиитским родам.) Более того, правительство все активнее давило на необходимость единообразия на основе суннизма. Но конфронтация принесла свои плоды. Так же, как разнообразные элементы городского сообщества вырабатывали эффективные модели поведения, подчиненные господству системы икта и эмиров, в социальной и политической сферах, в интеллектуальной сфере к тому времени были найдены способы встроить почти во все области мыслительной деятельности определенную господствующую модель, при которой было необходимо одобрение улемов медресе. Так начался средневековый период интеллектуальной жизни, традиции в которой демонстрировали определенную взаимозависимость. Выпускники медресе сами рано или поздно начинали стирать границы между каламом улемов, разнообразными науками файлясуфов и даже адабом старых придворных интеллектуалов. Файлясуфы, в свою очередь, приспосабливались (по меньшей мере, во второстепенных деталях) к общепринятому господству шариата. И повсюду ощущалось влияние суфийской теории.