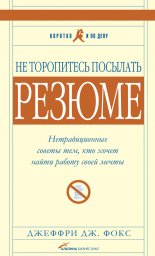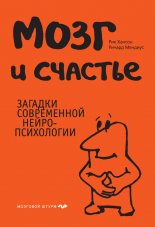История ислама: Исламская цивилизация от рождения до наших дней Ходжсон Маршалл
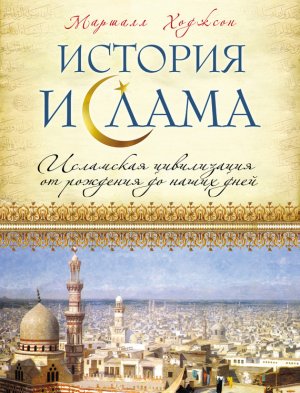
Официально задача Танзимата заключалась в том, чтобы установить в мусульманском обществе современные европейские стандарты права и государственного управления, ввести в повседневный обиход такие понятия, как «равенство перед законом», «гражданские права» и «свобода личности». Часть этих задач в принципе можно было бы решить, восстановив прежнюю эффективность правительства Османской империи: чиновникам той эпохи были совершенно несвойственны такие пороки, как коррупция и некомпетентность, эти люди ощущали себя важной частью государственной машины и добросовестно выполняли возложенные на них обязанности. Однако другие задачи Танзимата предусматривали прямой перенос (современных) европейских принципов. Главная цель Танзимата заключалась в том, чтобы внедрить в мусульманское общество систему европейских социальных ценностей. Часть министров-реформаторов надеялась ограничить власть султана как арбитра, вмешивающегося в работу правительства, в пользу безличной государственной машины. Все подданные, независимо от их вероисповедания, наделялись одинаковыми юридическими правами — это новшество европейской цивилизации было не поддержано мусульманами и с сомнением встречено немусульманами, которые привыкли к широкой автономии в рамках своего сообщества и не желали введения прямой правительственной юрисдикции. Правительство планировало открыть публичный светский университет по европейскому образцу в противовес улемам и общему мнению о том, что образование может быть только религиозным. Один из главных политиков Танзимата, министр Решид-паша попытался провести такую либеральную меру, как отмена барщины (принудительные общественные работы для крестьян, не способных заплатить налоги) и предоставление крестьянам права свободно покидать свои деревни, по крайней мере в Балканских провинциях. Этим нововведениям активно противились землевладельцы, а мусульманские крестьяне встретили их полностью индифферентно, а вот для христианских крестьян эти свободы дали дополнительный повод для восстаний, когда их начинали притеснять мусульманские землевладельцы.
Турецкая медаль за участие в Крымской войне
Казалось, реформы не смогли выполнить поставленные перед ними официальные задачи. Европейцы высмеивали проводившиеся в исламском мире реформы, считая их карикатурой на европейскую политическую систему; мусульманские чиновники, одетые в непривычные европейские костюмы, зачастую забывали застегнуть пуговицы в самых важных местах и становились всеобщим посмешищем, а коррупция достигла невиданных размеров. Принимаемые законы не смогли ни восстановить былую эффективность османской системы управления, ни трансформировать исламскую культуру в культуру христианскую. Проекты по организации университета так и остались на бумаге. Хотя (в соответствии с принципом равенства) специальные налоги, которыми облагались немусульмане, были отменены, и их начали призывать в армию наряду с мусульманами, армия по-прежнему оставалась в основном мусульманской. Немусульмане предпочитали заплатить специальный налог, который давал им право избежать призыва на военную службу. Таким образом, в обществе не произошло никаких реальных перемен, просто старые явления получили новые, европейские названия.
Зичи М. А. Насреддин-шах в Зимнем дворце
Тем не менее эти «реформы на бумаге» представляли собой лишь верхнюю часть айсберга, они являлись отражением тех глубинных социальных процессов, которые происходили в обществе на протяжении всего столетия. Проводимая Махмудом политика централизации постепенно набирала силу. Данный процесс оказывал кардинальное влияние на общество, но пока самым важным было изменение духовной основы. Это нашло свое отражение в появлении разнообразных частных школ, организованных по европейскому образцу, которые финансировались христианскими и иудейскими миссиями и пользовались покровительством зажиточных слоев населения. Дети из привилегированных классов знали французский язык и нормы поведения викторианской Англии лучше, чем историю собственной семьи. Дух модернизации и сотрудничества с Западом стал ощущаться с особенной силой, когда в городах появились всевозможные технические новинки XIX столетия.
Международное положение Османской империи служит наглядным примером того, насколько глубоко интегрировалась эта страна в новый международный порядок. Триполитания, расположенная на восточном побережье Магриба, являлась автономией, как и другие османские провинции, однако в 1835 г. центральное правительство посчитало возможным направить в эту страну войска и восстановить прямое османское правление. Примерно в то же самое время Франция установила сходный политический режим в Алжире. Османам не удалось повторить успех французов, но они попытались добиться сходных результатов: реорганизовали полицию, чтобы обеспечить полный контроль над исполнением законов, и установили централизованную местную администрацию, поощряли оливковые плантации и интеграцию как полную экономическую зависимость от международного рынка. В 1853–1856 гг. османы оказались втянутыми в Крымскую войну при поддержке союзных Франции и Великобритании, чьи войска вместе с османскими воевали с турецких баз против России. После победоносного окончания войны Османская империя вошла в христианскую дипломатическую систему «Европейского концерта», т. е. стала полноправным членом Еворопы, в чем и заключалась главная цель Танзимата.
Проще говоря, поколение, жившее в исламском мире в середине XIX века, по крайней мере его имущие классы и правительства, было ассимилировано в современную европейскую цивилизацию. Сопротивление этому процессу в то время было минимальным, а принятие западного лидерства и контроля, и даже вера в добрые намерения Запада, — максимальным. Большая часть населения не сопротивлялась этому процессу, приняв как неоспоримый факт безусловное главенство западных стран в международных делах. С точки зрения европейцев, мусульмане наряду с индусами и китайцами считались «восточными народами», и политический статус того или иного мусульманского государства определялся не его историческим прошлым, а тем, насколько успешно оно пошло по пути великих западных преобразований. Постепенно мусульмане начали ощущать даже некую солидарность с другими «восточными», с точки зрения европейцев, народами.
Именно в этот период каджарский шах Насред-дин (1848–1896 гг.) начал свое путешествие по Европе. Ему очень польстило, что высшее общество Европы принимает его на равных. Шах заверил своих европейских коллег, что готов не только принять финансовую поддержку от европейских государств, но и реформировать всю политическую систему страны в соответствии с европейскими стандартами. Шах полагал, что он сможет осуществить европеизацию, продавая европейским предпринимателям концессии на строительство железных дорог и телеграфных линий, и управлять всеми предприятиями, которые могут принести прибыли максимально эффективно (хотя, когда один из его соотечественников опубликовал в журнале призыв к европейцам помочь решить национальные проблемы, освещаемые в этим издании, Насреддин это жестко пресек). Однако Насреддину не удалось предложить Европе ни одного востребованного продукта, который смог бы кардинально изменить его страну, и Персия оставалась на задворках международной политики.
Султанат Занзибара принадлежал к числу тех стран, которым все же удалось найти свою нишу на мировом рынке. В 1832 году Саид Саид, правитель Маската в арабском Омане (1804–1856 гг.), перенес свою резиденцию в Занзибар, чтобы контролировать и расширить свои владения на Восточном побережье Африки, говорившем на суахили. В Маскате в ходе Наполеоновских войн его правительство уже установило достаточно тесные отношения с Великобританией и продолжало их развивать далее, в частности Саид подписал с англичанами соглашение, которое накладывало серьезные ограничения на работорговлю, являвшуюся одним из серьезных источников дохода торговцев по всему побережью. Но он хотел получить реальную экономическую выгоду от нового порядка и превратил большую часть острова Занзибар в плантации гвоздики, которые работали на экспорт. Помимо всего прочего, султан приложил немало усилий, чтобы сделать доступными из своих портов на Восточном побережье Африки внутренние области континента, создавая торговые фактории, которые превратились в оплот военной и политической власти султана. Европейцы не осмеливались появляться в этих областях, чем воспользовались торговцы-арабы, которые закупали там слоновую кость и шкуры для перепродажи на Запад. После смерти султана в его владения вторгся британский флот, который (под предлогом обеспечения законности наследования трона) разделил Занзибар и Маскат, ослабив обе страны.
Арабская женщина у очага. Фото XIX в.
Саид Саид жил в патриархальной простоте, но его сын и второй наследник Баргаш (1870–1888 гг.) задался целью перестроить свой двор на европейский манер и европеизировать столицу. Но как раз в этот момент европейские державы разделили территорию его страны между собой под предлогом, что Баргаш недостаточно эффективно управляет государством. Доходы казны резко сократились, и Занзибар уже не мог более похваляться той роскошью, которой он блистал при прежних правителях. Тем временем Великобритания требовала полного повсеместного запрета работорговли, но Баргаш не мог ничего сделать, поскольку вслед за своими современниками — Адбул-Азизом в Стамбуле и Исмаилом в Каире — переоценил свои силы, планируя «вестернизацию» и не имея для этого необходимой финансовой базы. Через два года после смерти Баргаша Британия сочла своим долгом вмешаться и установить режим прямого военного правления (султанат официально сохранился лишь на островах).
Несмотря на частое применение силы во имя получения дохода, в течение этого периода европейские страны тем не менее продемонстрировали свои лучшие качества. Как мы уже убедились, доминирование западных стран было очень разносторонним, во многих случаях это влияние носило опосредованный характер и проявлялось не только как политический и экономический контроль, но и как присутствие в культурной и интеллектуальной сферах. Но, хотя многочисленные последствия начала Технической эпохи проявлялись и без прямого сообщения с областями, где зародился современный образ жизни, развитие эффективной зависимой роли в техникализированном мировом порядке влекло за собой значительное увеличение подобных контактов. Полицию и армию необходимо было переоснастить так, чтобы они были способны поддерживать порядок в соответствии с европейскими требованиями. Финансы, торговля и в некоторой степени даже производство зерна и добыча минералов должны были соответствовать требованиям мирового рынка. И, наконец, следует иметь в виду, что ни военный, ни экономический техникализм не может функционировать без соответствия местной интеллектуальной жизни современным нормам. Вне зависимости от того, было ли установлено прямое правление Запада, все аспекты техникализации могли быть внедрены в общество только в рамках прямой или опосредованной европейской опеки.
Данный комплекс влияний, часто довольно размытых, постепенно получил название «империализм». Это понятие было намного шире, чем прямое военное вторжение, оно включало в себя практически все проявления доминирования, которые рассматривались в едином контексте и подвергались осуждению. Однако иногда «умеренные» могли одобрительно принимать некоторые из этих аспектов, такие как преподавание современных наук, достижения современной медицины, принцип равенства всех граждан перед законом. Главной движущей силой этого явления стало миссионерское движение, которое начало набирать силу в начале XIX в. и стало главным проводником западного влияния. В середине столетия большая часть мусульманского населения доброжелательно относилась к миссионерам.
Технически целью католических и протестантских миссионеров было обращение в христианство нехристианского населения, однако как минимум в мусульманских странах (в том числе и на территории Российской империи, где мусульманское население тесно контактировало с христианами) их реальная деятельность приобрела несколько иной характер. Очень скоро стало очевидно, что мусульмане не выражают никакого желания обращаться в христианство. Такое нежелание было связано главным образом с тем социальным давлением, которому подвергались сторонники ислама, поскольку во многих мусульманских сообществах за вероотступничество полагалась смертная казнь. Помимо всего прочего мусульмане полагали, что их собственный способ поклонения Богу является универсальным и более чистым, чем у христиан. На некоторых мусульманских территориях (в частности, в России и Индонезии) к христианству обращалась та часть населения, которая еще не успела принять ислам. Однако в центральных областях ислама миссионеры-католики в течение долгого времени проповедовали лишь в христианских общинах, и когда туда прибыли миссионеры-протестанты, они поступили точно так же. Такая политика приводила к расколу среди восточных христианских общин, но более важным было то, что в этих общинах сравнительно быстро внедрялись современные стандарты. Христианская часть населения получала новые научные и культурные навыки в миссионерских школах, и очень скоро мусульмане стали посещать те же учебные заведения и лечиться в тех же больницах, не принимая христианскую веру (за исключением временного перехода в России), но знакомясь с достижениями современной цивилизации в ее светских аспектах. Что же касается западных евреев, то в этом отношении они значительно уступали западным христианам — их миссионерская деятельность была гораздо скромнее.
Таким образом, миссионеры католической, протестантской и иудейской конфессий приносили в мусульманский мир дух современной цивилизации, создавая ту интеллектуальную среду, которую не под силу было создать торговцам и солдатам. Спустя некоторое время местные правительства начали открывать в своих странах школы и университеты нового типа, и эти учебные заведения были проникнуты духом миссионерских школ.
Консервация отставания в развитии
Тем не менее привнесения основных аспектов Технической эпохи в неевропейские страны вовсе не обязательно запускало постепенный переход от состояния зависимости к техникализированным социальным образцам, при которых разрыв в развитии исчезал и все страны выходили на уровень техникализированного Запада. На самом деле зависимость неевропейских стран вела к консервации сложившегося положения вещей: в условиях мирового рынка отставание в развитии не только сохранялось, но стало еще более заметным.
В принципе можно было бы ожидать, что мусульманское общество быстро адаптирует техникализированные социальные образцы. Мусульманская торговая и культурная сеть играла ведущую роль в истории аграрного периода афро-азиатского региона: ее относительно городской характер и высокая мобильность вкупе с выгодным географическим положением обеспечивали значительную гибкость и способность быстро адаптироваться. Однако теперь эти ценные качества стали не столько укрепляться, сколько исчезать. Исламский мир оказался раздробленным прежде всего с географической точки зрения. Область старого ислама, раскинувшаяся от Нила до Амударьи, где формировались основы империй, возникавших в европейском и индийском регионах, культурная независимость центрального евразийского торгового региона, тесные экономические и культурные связи со странами, расположенными на побережье Южных морей, — все эти главные линии контактов и развития исламского общества ослабли или даже вовсе исчезли, замененные на общие связи, возникшие в результате доминирования одной силы — Запада. В мире возникли новые центры экономического и политического влияния. Города европейского типа, такие как Казань, пришли на смену былому величию Бухары; Калькутта и Бомбей как центры книгопечатания соперничали с Дели и Лакнау. Следует, однако, отметить, что некоторые мусульманские земли в этот период обрели свое новое историческое значение, став своего рода центрами движения сопротивления, — например Надж в Аравии стал центром движения ваххабизма, а внутренняя Киренаика превратилась в оплот тариката Сенусийя.
Битва между персидскими и российскими войсками. Иранская картина нач. XIX в.
Следует отметить еще один значительный факт: Иран уже более не являлся хранителем культурных традиций Востока, эта роль постепенно перешла к странам Восточного Средиземноморья. Стамбул, столица сильного, остававшегося «независимым» государства, обрел настолько большое политическое влияние, что его правители к концу XIX в. претендовали на роль халифа и наследника всех древних исламских империй, а их тюркский язык получил столь широкое распространение, что практически стал официальным языком исламского мира. Каир, наиболее динамично развивавшийся центр восточных арабов-суннитов, вовлек в орбиту своей деловой активности Магриб, Западную Африку и государства, расположенные на побережье Южных морей. Арабский язык и его письменная традиция сохранили свое влияние практически во всех странах азиатского региона; вероятно, это объясняется тем интересом, который западные страны проявили к культуре исламского мира. Арабская молодежь стремилась забыть свое недавнее прошлое, о котором так уничижительно отзывались европейцы. Особой популярностью среди молодых людей пользовалась лишь история Древнего мира, ведь о древних исламских империях даже европейские историки отзывались с восхищением. Таким образом, на рубеже столетий в сознании мусульман понятия суфизм, иранизация и культурная дегенерация слились воедино. В качестве противовеса им выступали арабский национализм и древняя слава ислама.
Действительно, персидская традиция, которая ранее была движущей силой международного сотрудничества и мобильности, превратилась в пустое развлечение интеллектуальной элиты. Организации суфиев, сила которых в начале столетия была подорвана упадком гильдий и центральными правительствами, часто реквизировавшими вакфы, перестали быть движущей силой городской стабильности и космополитизма, превратившись в рассадник суеверий и консерватизма. Следует заметить, что и сам шариат, который, ранее подразумевал универсальную мобильность, теперь стал препятствием, которое мешало мусульманам воспринимать обычаи и традиции Европы. Исторически отрицание более поздней, ира-низированной исламской культуры в пользу идеалов досуфийской и доперсидской чистоты было ошибочным, однако этот выбор отражал историческую реальность: все очевидные выгоды, которые исламское интернациональное общество могло бы использовать в качестве основы для модернизации, большей частью исчезли, а остатки того, что могло бы принести пользу, обернулись недостатками. Этот феномен отражал более общий культурный аспект: экономическая и культурная пропасть, разделяющая Восток и Запад, оказалась слишком велика, она сама по себе оказывала разрушительное воздействие на все социальные «мостики», которые политики пытались через нее перебросить. Все усилия политиков зачастую приводили лишь к тому, что эта пропасть еще больше увеличивалась.
Как мы уже отметили, главный вопрос заключался не в том, почему мусульманские страны технически отставали от Запада, а почему они не смогли его догнать (несмотря на то, пытались они это сделать или нет). Здесь мы имеем дело не с чисто экономической, а прежде всего с общекультурной проблемой, в которой экономика является лишь одним из аспектов. Старые социальные институты, на которых веками основывалось общество, были разрушены, и даже новые, более или менее техникализированные институты, которые, казалось бы, могли стать основой для нового развития, страдали определенной слабостью. Чужеродные исламской культуре, они порождали разрыв в самом мусульманском обществе, реагируя на увеличивающийся разрыв во всем мире. Носители «новой культуры» — промышленники, коммерсанты, ученые зачастую являлись чужими для основной части мусульманского общества, таковыми были левантийцы в Восточном Средиземноморье, выходцы из Индии в Омане, арабы на Восточном побережье Африки, татары в Туркестане. Даже если это и было не так, то наследники старых семей становились чужими в своей культурной среде настолько, насколько они адаптировались к техникализированному обществу. Мусульмане, прошедшие обучение в новых школах, зачастую сталкивались с серьезной дилеммой, ведь та социальная среда, откуда они вышли, совершенно не соответствовала новым стандартам. Разочаровавшись в старых порядках, молодые люди так до конца и не освоились с новыми европейскими обычаями. Европейцы не доверяли им, а они не могли разобраться в себе и чувствовали себя игроками, которым приходится играть в чужую игру.
Этот внутренний психологический надлом формировался под влиянием того факта, что все технические новшества приходили в исламский мир из заграницы, были созданы чуждой культурой как результат изначального экономического неравенства. В дальнейшем это неравенство только стремительно увеличивалось, а не сокращалось. Чем скуднее были экономические ресурсы той или иной территории, тем меньше была вероятность того, что технические достижения современной цивилизации — железные дороги, нефтяные скважины, даже рационально спланированное сельское хозяйство — могут стать стимулом для иного, более сбалансированного экономического развития. За пределами специальных островков-«колоний» или зависимых экономик все попытки начать техническое развитие были заведомо обречены на провал из-за западной конкуренции, которая ранее погубила здесь ремесленное производство. Чем выше уровень технического развития, тем выше прибыль. Этот экономический закон невозможно было отменить. Соответственно, когда естественный прирост населения, которое стремительно увеличивалось в условиях наступившего относительного благополучия, превысил максимально уровень, допустимый при слабой зависимой экономике, дальнейший его рост только растворял все вторичные положительный эффекты данного типа хозяйствования.
Позднее ученые отметили в зависимых обществах следующую тенденцию: условия торговли между аграрными и промышленными странами с течением времени ухудшаются. Рынок монокультуры, на которой основана зависимая экономика, отличается непредсказуемостью и отсутствием всякой гибкости по сравнению с рынками более сбалансированных индустриальных экономик. Ухудшение условий торговли между промышленными и аграрными странами стало отличительной чертой международной жизни XIX столетия. «Всякому имеющему дано будет и приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что имеет». Эта библейская фраза прекрасно передает сущность происходящих в экономике процессов.
Фаза подъема национализма
Под воздействием подобных обстоятельств то, что было живой цивилизацией, обладавшей независимым социальным контекстом для раскрытия творческих способностей письменной традиции, трансформировалось в блок наций, разделяющих общее культурное наследие, но уже неспособных создать независимую цивилизацию на собственной основе. На обломках того, что некогда было живой духовной основой мировой цивилизации, молодое поколение, фрустрированное унижением и неразрешимыми дилеммами зависимого состояния, попыталось обрести новые духовные ценности. К концу XIX века практически все мусульманские общества вошли в фазу подъема национализма. Даже в тех обществах, которые вступали в новый мировой порядок относительно медленно, прохождение описанных нами этапов развития шло быстрее. Высшие слои уже прошли фазу начального сопротивления. Теперь же под давлением все ускоряющихся темпов мирового развития и углубляющейся фрустрации, которой ответило на них мировоззрение исламской цивилизации, фаза подъема национализма наступала в различных частях мусульманского мира почти одновременно: она началась в Восточном Средиземноморье в 1860-е гг. и к концу 1880-х гг. в той или иной форме распространилась повсеместно.
Тогда как часть высшего слоя общества осталась удовлетворена тем компромиссом, которого им удалось достичь с западным миром, более амбициозных представителей этого слоя и менее удовлетворенных членов чуть менее обеспеченных слоев создавшееся положение совершенно не устраивало. На этой фазе доброжелательное отношение к Западу сменилось неприязнью. Большинство населения, особенно в больших государствах, по-прежнему стремилось к модернизации, однако между народом и высшими слоями общества нарастал разрыв, причем его природа была полностью противоположна тому, который можно было наблюдать в начале XIX века. Более прогрессивные элементы и молодежь, закончившая новые школы, составили оппозицию местным правителям, требуя более фундаментальных реформ и, по сути, выступая против власти Запада. В конечном итоге весь комплекс доминирования Запада был заклеймен как «империализм», который противопоставлялся «национализму» — всеобщим реформам и подлинной модернизации исламского общества.
В Египете новый национализм проявился с особенной силой, и именно здесь он потерпел свое первое поражение от сил Запада. В XIX в. независимые тюркские правители Египта пытались создать образ прогрессивной мусульманской страны, которая идеально соответствует всем стандартам западной цивилизации. В государстве Мухаммада-Али разрушение традиционного патриархального уклада шло с невиданной в других странах скоростью, при этом следует отметить, что Египет, в отличие от многих других мусульманских стран, успешно развивал свою экономику и укрепил режим зависимости. Египетские крестьяне впервые за тысячелетие сформировали победоносные армии, а египетский хлопок приносил огромные доходы землевладельцам. Все это вело к росту численности арабских мусульман. Жители Каира, левантийцы и все остальные усваивали европейские традиции и обычаи в рамках исламского города. Благодаря своей процветающей экономике Египет (в частности Каир и Александрия) на долгое время стал экономическим и культурным центром арабского Востока, даже сирийцы приезжали сюда в поисках работы. Однако экономическое процветание и достижения технического прогресса в Египте лишь подчеркивали чувство фрустрации арабских мусульман, отмечая, сколь скромная роль отведена им в новом мировом порядке.
Хедив Исмаил. Фото XIX в.
Амбициозный правитель-хедив Исмаил (1863–1879 гг.) задался целью сделать Египет неотъемлемой частью Европы. Начало этой тенденции положил его предшественник Саид, но именно Исмаил стал образцовым правителем, успешно внедрявшим в своей стране европейский мировой порядок. Мухаммад-Али заложил основы зависимой экономики, а Исмаил с завидной последовательностью совершенствовал эту политическую модель. Кооперируясь с интересами западного капитала, Исмаил превратил Каир и Александрию в современные города, оснащенные всеми атрибутами европейских столиц: там были водопровод, газопровод и даже большой оперный театр, в котором выступали итальянские труппы. Его политика европеизации не была просто модным веянием: во время правления Исмаила вслед за экспериментами Мухаммада-Али правительство открыло большое количество современных школ, организованных по европейскому образцу и всячески способствовало распространению французского языка и культуры среди обеспеченных слоев населения. Таким образом, политика Исмаила органичным способом развивала ту политическую линию, которую начал Муххамад Али, — полноценное участие Египта (пусть даже на правах «младшего партнера») в европейской экономической и финансовой системах. Исмаил построил в стране фабрики для переработки сахара, но все же главным товаром страны стал хлопок. В период Гражданской войны в США цены на хлопок резко подскочили, Исмаил и другие крупные землевладельцы еще больше увеличили площади, занятые хлопком. Исмаил вложил крупные финансовые средства в развитие ирригационных систем в стране и даже продал египетский пакет акций Суэцкого канала, чтобы как можно больше вложить в выращивание хлопка.
Открытие Суэцкого канала в 1869 году стало величайшим триумфом Исмаила — на церемонии открытия присутствовали монархи европейских держав. Строительство, начатое Саидом, казалось возобновлением традиции каналов из Красного моря, которые в различное время соединяли Средиземное море с Южными морями через Египет и тем самым обеспечивали ему главенствующее положение в межрегиональной экономике. Однако в условиях Технической эпохи это не только укрепило Египет политически, но и сделало объектом политического соперничества европейских держав. (Именно это соображение удерживало предыдущих правителей, с меньшим доверием относившихся к Европе, от одобрения проекта.) В то же время следует отметить, что Исмаил проводил достаточно амбициозную политику в военной сфере: он добился от своего османского сюзерена предоставления Египту военной автономии и послал свои многочисленные войска на захват большей части Нильского Судана и горных районов Абиссинии (заметим, что египетские войска потерпели поражение от эфиопов). Среди египтян возродились мечты о былом величии Египта. Исмаил пытался увеличить торговлю Египта с Западом, выступая как посредник, и с этой целью старался доходы от неприемлемой для европейцев, но поощрявшейся Мухаммадом-Али работорговли, тратить на сырье и товары, произведенные на новых фабриках. Однако столь амбициозные проекты требовали значительных средств, которые он занимал в Европе, но и непредсказуемость хлопкового рынка лишила его доверия европейских финансовых кругов, и в конце концов он неожиданно для себя оказался обремененным огромными внешними долгами.
Следует заметить, что Исмаил не проявлял особого желания развивать народные политические институты в стране — такого рода институты могли затормозить процесс модернизации, что не приветствовалось европейцами в зависимых странах.
Исмаил прочно удерживал режим личной власти (несмотря на эксперименты с совещательной палатой натаблей) и опирался (как и все представители его династии) главным образом на турок и другие неарабские элементы. Но более удачливая часть арабского населения все же смогла поправить свое финансовое положение, став деревенскими старостами, или повысить свою самооценку, оказавшись в армии. Постепенно эти арабы начали осознавать свою новую социальную роль — роль крупных землевладельцев, образованных чиновников, военных, и в их среде стало нарастать сопротивление политике Исмаила. К 1878 г. непродуманная финансовая политика Исмаила привела к тому, что над страной нависла угроза не только банкротства, но и прямого военного вторжения со стороны ведущих европейских держав. Европейские правительства хотели контролировать всю финансовую систему страны, для этих целей был создан управлявшийся христианами национальный совет. Они даже сместили хедива, поставив на его место более покладистого наследника.
В это время арабские офицеры, опасавшиеся значительных сокращений военных расходов, начали требовать введения конституции, ограничивающей власть монарха, и удаления из правительства европейцев. Гражданское население, в частности малообеспеченные слои, растущий слой мелких арабских землевладельцев и молодые улемы поддержали требования военных. Хедив вынужден был отдать пост министра обороны Ахмеду Ораби, лидеру арабских офицеров. Однако, когда Ораби попытался покончить с доминирующим положением европейцев в политической системе Египта, Великобритания (единственная европейская держава, готовая к реальным действиям) устроила бомбардировку Александрии с моря. В 1882 году англичане оккупировали Египет от имени хедива, подавили сопротивление Ораби и выслали из страны главных участников восстания. Они восстановили в стране абсолютную монархию, которая оказалась под их контролем.
Во время английской оккупации британский генерал-губернатор обладал практически неограниченными полномочиями, он имел право вмешиваться в действия местного правительства и отменять распоряжения местных властей по собственному усмотрению. Самой значительной фигурой в этом отношении стал губернатор Эвелин Баринг, лорд Кромер (1883–1907 гг.). Этот высокообразованный человек, обладавший обширными познаниями в области современной западной культуры, представлял собой классический образец типично западного отношения к непрошедшим современные преобразования нациям, их месту в мире и их национализму. Он считал такие нации (в данном случае египтян) «низшими расами», которые нуждались в опеке со стороны европейцев. По его мнению, такая опека шла только на пользу как самим «низшим расам», так и европейцам. Кромер старался всячески избегать ситуаций, подобных восстанию Ораби, которые могли бы спровоцировать британскую военную оккупацию. Он полагал, что для защиты европейских интересов в регионе вполне достаточно лишь небольшого политического давления. Такая позиция, однако, объяснялась вовсе не беспокойством за местное население (поскольку британское правление было для них наилучшим вариантом), а интересами самой Великобритании, которая, вмешиваясь в дела Египта, взваливала бы на себя еще одно непосильное бремя. Кромер не допускал даже мысли о том, что египтяне, эти «младшие братья» по человеческой расе, овладеют европейской культурой в достаточной степени, чтобы самостоятельно управлять собственной страной на западный манер. По мнению Кромера, «быть цивилизованным» означало «быть европейцем», два эти понятия были для него неразрывны. Так называемые «восточные народы» нуждались в таких политических институтах, которые соответствовали бы их образу мышления, не вполне рациональному. По его мнению, ислам по самой своей природе являлся препятствием для прогресса. Отвечая тем, кто утверждал, что ислам может измениться, приспособившись к новым историческим условиям, Кромер полагал, что «реформированный ислам» просто перестанет быть исламом, так как ни одна составная часть этой религиозной доктрины не может измениться, не меняя при этом всю систему в целом[412].
Позиция Кромера отражала общую позицию европейцев того времени — европейцы плохо знали всемирную историю, поэтому им казалось, что именно Европа составляет своего рода «авангард человеческой цивилизации» и такое положение сохранится на неопределенно долгий срок. Но его мнение базировалось на печальном опыте. В финансовом крахе Исмаила Кромер увидел нечто большее, чем некомпетентность отдельно взятой личности; и, хотя его исторический и психологический анализ отличался удивительной наивностью, ему удалось разглядеть те самые «болевые точки», с которыми националистам рано или поздно пришлось бы столкнуться.
Александрия после бомбардировки. Фото XIX в.
Рассуждая о «злоупотреблениях, свойственных всем восточным правительствам, где бы они ни находились», Кромер при этом умалчивал о вопиющих инцидентах, связанных с некоторыми членами египетской династии, поскольку в отдельных случаях он просто не располагал достаточными доказательствами, но широко использовал менее шокирующие истории, чтобы проиллюстрировать свои доводы: «Стремление к духовной симметрии и точности — вот где проходит грань, разделяющая нелогичный, полыхающий яркими красками Восток и трезво мыслящий Запад»[413]. Пароход Саида, предшественника Исмаила, как-то раз совершал путешествие по Нилу во время низкой воды и застрял в грязи. Услышав об этом, Саид приказал дать рулевому сто ударов плетьми. Когда пароход снова застрял в грязи, Саид взревел: «Дайте ему две сотни!» Услышав это, рулевой прыгнул за борт. Когда его подняли на борт, он объяснил, что прыгнуть в воду его заставил страх — он хотел покончить с собой и избавиться от мучений. В ответ Саид лишь рассмеялся: «Дурак, я же имел в виду две сотни золотых монет, а не плетей!» — и рулевой получил в награду сумку, набитую золотыми монетами. На основании этого эпизода Кромер делает совершенно правильный вывод: восточные правители упивались собственной щедростью, награждая своих подданных, при этом совершенно забывая о тех, кто был подвергнут несправедливому наказанию. Таким образом, мы должны провести четкую грань между техникализированными европейскими и исламскими социальными нормами. Убийства, грабежи, самые изощренные пытки были обычным явлением среди правящих классов мусульманского общества, что приводило в ужас современных европейских наблюдателей, но также порицалось как несправедливость и зло самими мусульманами. Традиционным мусульманам, за исключением сторонников идеализированного шариата, в свою очередь, весьма необычным казалось стремление европейцев создать предсказуемое «правовое пространство» для каждого индивидуума, гарантировать каждому гражданину, независимо от его социального статуса, право на личную неприкосновенность.
Каирская цитадель. Фото XIX в.
Кромер рассматривал приведенный выше эпизод как типичное проявление восточного менталитета: непредсказуемое поведение Саида, по его мнению, отражало образ мышления восточного человека в целом. Здесь мы должны провести границу между тем, что действительно имело отношение к до-техникализированным образцам поведения, и тем, что было неправильно понято сторонним наблюдателем. Та алогичность и непоследовательность, о которой говорит Кромер, при более тщательном анализе распадается на целый ряд отдельных элементов, ни один из которых не является определяющим. Кромер приводит несколько типичных плачевных примеров неточности мыслей и действий. Однако такая неточность иногда может просто выражать чувство красивой формы, которая могла быть свойственна более интимной и неторопливой эпохе. Но оно также может быть ответом дотехнической эпохи на рационалистический посыл: причина могла заключаться во вполне рациональных страхах (когда крестьянин, который пытается скрыть свое имущество от незнакомых людей, которые вполне могли оказаться сборщиками налогов) или вполне здоровым чувством меры дотехникализированного общества (например, вольное обращение со временем, поскольку ошибка в несколько минут не имела для человека решающего значения). Большинство подобных проявлений неточности могло быть с легкость обнаружено и на Западе до начала эпохи Нового времени. Рассуждая о присущей людям Востока неточности, Кромер совершенно не принимал во внимание все эти культурно обусловленные различия. При таком подходе полностью исключалось какое-либо взаимодействие между различными культурами. Кромер не мог понять, почему человек Востока, указывая на какой-либо предмет, находящийся слева от него, пользуется правой рукой, ведь, с точки зрения европейца, это очень неудобно, гораздо логичнее использовать левую руку. Он не принял во внимание тот факт, что левая рука у мусульман была предназначена для совершенно иных целей.
Наконец, он связал с «нелогичностью» «восточного мышления» все моральные дефекты социальных моделей, которые проявились в анекдоте с рулевым и которые на самом деле проявляются в аграрных обществах всегда и везде, где защита группы перестает действовать под влиянием таких чрезвычайных событий, как, например, война или присутствие абсолютного монарха. Но моральный аспект этого в техникализированном обществе последующие поколения осознали намного более остро, чем могли себе представить Кромер и его современники.
Однако главной ошибкой Кромера стала его историческая оценка «восточного мышления», его способ мышления разделяло большинство европейцев, лучшие представители которых оценивали население и институты в мусульманских странах исходя из точно таких же предпосылок. В то же время эти предпосылки сформировались под влиянием существовавших реалий. Эти реалии давали удобные предлоги для военных интервенций с целью поддержания европейских стандартов везде, где жили и работали европейцы, а также создавали основные препятствия, которые сводили на нет любые попытки мусульман встать на путь техникализированного развития.
Англичане оккупировали Египет, чтобы защитить права британских граждан и граждан других европейских государств, права, которые трактовались как «цивилизованные», другими словами «современные западные» нормы. Соответственно, выплата долгов иностранным государствам являлась безусловным финансовым приоритетом. Непродуманная финансовая политика Исмаила привела к тому, что большая часть государственных доходов уходила на выплату долгов. Однако после разрешения ситуации с долгами Кромер и британское правительство попытались поднять уровень благосостояния египтян. Прежде всего были отменены законы, унижавшие достоинство крестьянина: право любого должностного лица бить крестьян плетьми (в особенности если речь шла о неуплате налогов) и барщина, на которой крестьян заставляли бесплатно работать на государство в дополнение к налогам. Британцы пытались создать в стране единое для всех граждан правовое пространство; в частности, они обязали всех землевладельцев зарегистрировать право собственности на землю. Введение единых юридических стандартов значительно упростило юридическую процедуру. Помимо всего прочего британцы отменили множество мелких налогов, которые никак не могли упразднить мусульманские правители-реформаторы. Однако введение усовершенствованной системы бухгалтерского учета (которая вызвала недовольство традиционных коптских бухгалтеров, лишившихся своей монополии) и современной системы судов и полиции вызвало недовольство. Наконец, они провели ряд важных техникализационных реформ, в частности выстроили первую Асуанскую плотину, которая завершила систему контроля вод Нила, начатую еще Саидом, построившим плотину в Каире. Дополнительные каналы постоянно обеспечивали поля водой, а ежегодные разливы ушли в прошлое.
Как мы скоро убедимся, большинство этих реформ имели негативные последствия: например, отмена традиционного права зачастую становилась бедствием для беднейших слоев населения, а суды, организованные по европейскому образцу, являлись для них еще одним символом социальной несправедливости. Но египетские националисты подвергали резкой критике другие аспекты проводимых реформ. Они требовали покончить с привилегированным положением иностранцев в стране, но правительство не могло решить эту задачу, ведь главная цель государственной власти заключалась именно в том, чтобы защищать юридические права иностранцев. Правительства ведущих европейских держав зачастую накладывали вето даже на те не слишком значительные преобразования, которые пытался проводить Кромер. Практически во всех сферах жизни египтяне сталкивались с социальной несправедливостью, их положение ничуть не улучшилось. Помимо всего прочего, в годы правления Кромера у Египта почти не осталось финансовых ресурсов. Кромер был убежден, что египтянам необходимо получить европейское образование, однако денег на то, чтобы поддерживать его на уровне, которого оно достигло при Исмаиле, не было. Что еще более важно, египтяне оказались лишены культурной основы в своей собственной стране. Старая цивилизация как оплот творческой мысли канула в прошлое. При британском правлении египтяне стали полностью зависимыми от ведущих европейских держав, в отличие от времен Исмаила, их окружал чуждый для них мир европейской культуры. Вступить в этот мир и обрести статус современной цивилизованной державы — эта задача так и осталась для Египта недостижимой мечтой.
Открытие Суэцкого канала. Западноевропейская гравюра XIX в.
Сходные явления наблюдались повсеместно. В 1881 г. в Тунисе Франция проводила практически ту же самую политику, что и Великобритания в Египте. Единственное отличие состояло том, что в Тунисе местная элита пыталась сама встать на путь модернизации. В Османской империи, которая была гораздо лучше Египта подготовлена к реформам, однако также пережила сходный период банкротства по внешнему долгу, в 1876 году реформаторы попыталась ввести конституцию. Однако Запад помог султану Абдул-Хамиду подавить их движение и использовал все современные достижения, чтобы утвердить репрессивный деспотизм, существовавший на западные деньги под западным финансовым контролем, но отрицавший любые либеральные реформы по образцу Кромера.
Таким образом, после поражения первых попыток реформ, которое в некоторой степени им нанесли «снизу», национализм начали рассматривать как способ собрать все доступные силы общества, чтобы создать нации, способные независимо встать в современном мире на один уровень с европейскими нациями. На Западе в своей наиболее развитой форме национализм возник в эпоху Французской революции, когда французы научились действовать как «вооруженный народ», почувствовали себя не нормандцами, гасконцами или бургундцами, первым, вторым или третьем сословием, но равными гражданами общей родины, которые разделяют все ее радости и горести. Именно благодаря такому национализму европейские страны смогли не только избавиться от французского империализма, но и создать современные техникализированные институты, которые были основаны во Франции во времена Наполеона и затем скопированы в остальных государствах. В мусульманских странах реформаторы постепенно начали сознавать, что патриотизма отдельно взятой личности недостаточно, необходимо было построить нацию, которая бы прониклась подлинно патриотическим духом. Только при этом условии безличные эффективные институты массового общества смогут пробить себе дорогу в запутанном лабиринте личной и племенной лояльности, которые разделяли население и становились главным препятствием на пути реформ. Люди должны научиться воспринимать себя в первую очередь как египтян, связанных общим египетским происхождением, или как османов, иранцев, индусов, а все другие социальные градации должны рассматриваться лишь в контексте нации как единого целого.
Однако здесь возникла еще одна проблема. Мы говорим о египтянах, иранцах, индусах, но как могут идентифицировать себя, например, жители Османской империи? Является ли египтянин или христианин османом? Может ли мусульманин быть еще кем-либо, кроме как мусульманином; и разве не копты являются единственными настоящими египтянами? Что такое Индия и кто такие «индусы»? Эти понятия ввели в обиход британцы, а для местных жителей они лишены всякого смысла. Что такое Иран? — результат завоевания Каджаров, но являются ли иранцами тюрки азери, и что делать с персами в Герате, которые подчиняются Кабулу? Таким образом, впервые на страницах этой книги мы имеем дело не с отдельными этническими группами, а с целыми нациями, и говорим не об этнических, а о национальных чувствах. Так что же такое нация? В основе нации как носителя современных институтов могут лежать любые факторы, определяющие историческую судьбу большой группы людей, — общая правящая династия (Османы?), религиозные верования (шииты?), язык (арабские диалекты?) и даже общий для всех завоеватель (англичане?). В нашем случае, однако, все эти критерии не срабатывают. Шииты, например, проживали не только в Каджарском Иране, но и в Османской империи и разговаривали на диалектах арабского. Исторически случайное объединение под властью одного правителя на независимой территории или даже под управлением европейцев могло дать толчок национальному самоопределению, но в таких случайностях сложно найти почву для требуемого всеобщего воодушевления, если только не возникает необходимости совместно вести борьбу. В последущие десятилетия именно поиски эффективной основы для национальной самоидентификации занимали ведущие умы на фоне развернувшейся борьбы за модернизацию: для того чтобы черты техникализированного строя пропитали всю ткань общества, национальная идентификация была жизненно необходима.
Модернизация в полном смысле этого слова включает в себя три взаимосвязанных аспекта. Требовалось провести вестернизацию: новые формы адаптируются в том виде, в котором они сформированы на Западе не потому, что нет времени разрабатывать новые, но из-за того, что техникализированное общество распространилось по всему миру, что предусматривало установление единообразия. Западным обществам были присущи сильные национальные чувства, поэтому «вестернизация» автоматически предусматривала развитие национализма. Модернизация не являлась просто «вестернизацией» и не предусматривала слепого копирования: в основе современного духа лежала жажда открытий, предпринимательская инициатива и авантюризм, без которых подобное копирование было бы шагом назад. Новые нации должны были изыскать ресурсы для создания собственного общества, что, однако, также требовало развития национальных чувств. Наконец, модернизация требовала своего рода революции, отрешения от власти тех правящих классов общества, которым были выгодны существующие отношения зависимости от Запада и которые бы сопротивлялись любым попыткам их изменить; кроме того, если революция хочет победить, она прежде всего призывает к национальной солидарности.
Завершение европейского завоевания мира
В последние десятилетия XIX столетия влияние национализма в главных мусульманских центрах постоянно росло, и после 1905 года он стал доминирующим фактором политического развития. Поначалу, однако, националистическое движение по своей мощи не могло сравниться с империализмом. После 1880 года ведущие европейские державы стремились включить в сферу своего влияния даже самые отдаленные регионы, в том числе и такие страны, которые не принимали участия в международной торговле до начала Технической эпохи. В частности, территории южнее Сахары, на которых проживало как мусульманское, так и немусульманское население и которые оставались относительно нетронутыми, теперь интенсивно делились на зоны влияния.
Здесь европейцы вошли в контакт с различными реформистскими движениями, которые появились в конце XVIII века и теперь набирали силу. Заметим, что среди реформаторов-мусульман не было единства, их точки зрения зачастую были диаметрально противоположны. Ваххабиты, например, ожесточенно сражались с Мухаммадом-Али. Подобные пуританские течения пытались поддерживать эгалитарную нетерпимость шариата к исламским правящим классам, которые поддались новым веяниям и погрязли в роскоши. Не понимая культурной и экономической сущности процесса, в который они были вовлечены, они огульно обвиняли высшие классы, сотрудничавшие с империалистическим Западом, в измене исламу. Поддерживая централизованный контроль и жесткую дисциплину, новые тарикаты смогли закрепиться в некоторых удаленных районах и эффективно управлять ими.
Когда Исмаил попытался оккупировать Нильский Судан, среди местного населения возникло движение махдистов, которое выступало не только за возрождение первозданной чистоты исламской организации и веры, но и за реформировние всего Дар-аль-Ислама и исламизации остального мира. Сам Махди и его преемник-халиф выгнали египтян и их покровителей-европейцев из Судана и начали проводить реформы, главная цель которых заключалась в распространении среди населения моральных норм ислама. Но вскоре они задумались о распространении своей власти прежде всего на Египет. Программа Махди, опубликованная во время паломничества в Мекку, вызвала большой интерес у мусульман всего мира. Некоторые консервативно настроенные мусульмане надеялись, что Махди очень скоро одержит победу и ислам вновь станет самой влиятельной мировой религией. В этот период внимание всего мира было приковано к Стамбулу, который после коллапса остальных мусульманских государств претендовал на роль панисламского халифата. Суданский Махди и его халиф заявили о себе как о возможной альтернативе османскому султану в качестве лидеров исламского мира, способных вновь его объединить. Даже модернистские мусульмане националистического типа проявили интерес к новому движению. Но более влиятельные реформистские движения, такие как Санусийа в пустыне к западу от Египта, остались к нему равнодушны.
Молодая арабская девушка. Фото нач. XX в.
К концу XIX столетия англичанам удалось взять реванш за поражение египтян и подавить движение Махди. Под натиском махдистов египтяне, оккупировавшие побережье Абиссинии и Сомали, вынуждены были отступить, их место заняли британцы, итальянцы и французы, которые поделили эти территории между собой и восстановили ахмарское христианское царство (Эфиопию) в абиссинских горах. Восстание сторонников другого Махди (ошибочно называемого Сумасшедший Мулла) на севере Сомалиленда было жестоко подавлено. В этот же период Великобритания и Германия поделили континентальные владения султана Занзибара, простиравшиеся в глубь материка от Восточного побережья Африки и говорившие на суахили, хотя здесь никаких восстаний не наблюдалось. В Чаде, Нигерском Судане и далее по Западному побережью Африки в течение трех десятилетий мусульманские территории были оккупированы Великобританией, Германией и Францией, которые проложили условные границы своих владений с учетом не столько интересов местного населения, сколько европейских торговых путей. В 1905 г. Великобритания и Франция заключили договор о разграничении сфер влияния на континенте, после чего раздел всех территорий южнее Сахары был завершен.
Глава III
Модернизм в Турции: вестернизация
Тюрки, проживающие на территории Османской империи (западные тюрки), оказались самыми удачливыми из всех мусульманских народов — им удавалось сохранять свою политическую независимость на протяжении всего XIX и в начале XX века, когда даже Иран стал объектом британской и русской интервенции. Также им удалось найти прочную основу для национального самоопределения. В конечном итоге это национальное самоопределение кристаллизовалось в форме европеизации: они ощущали себя европейской нацией. Ни в одной другой стране исламского мира европеизация не прошла так успешно. Таким образом, на примере Турции наиболее явно проявились все возможности и ограничения вестернизации как средства модернизации мусульманской страны.
Западные тюрки в Европе, но вне ее
В эпоху позднего Средневековья Османская империя и другие мусульманские государства, территория которых прилегала к Восточной Европе, ориентировались не на Запад. Западные европейцы вели оживленную торговлю с османами и поддерживали с ними тесные политические связи. Некоторые западноевропейские страны (например, Венгрия) сами оказались в составе Османской империи. Однако в культурном отношении османские правящие классы руководствовались юридическими, религиозными и литературными традициями ислама и с точки зрения культуры были чрезвычайно далеки от христианской Европы, как Восточной, так и Западной. Социальный строй империи был основан большей частью на наследии и социальных ожиданиях исламской цивилизации (и частично — на монголо-тюркской традиции), чем на нормах Европы, на территории которой она находилась. Тем не менее (в отличие от независимых индуистских земель, где с удовольствием перенимали исламские традиции) в эпоху позднего Средневековья на территории Западной Европы исламская культура уже не являлась сколько-нибудь значительной формирующей силой, как это было в предыдущий период. В XV веке Запад переживал период бурно
го расцвета, и консервативному исламскому миру нечего было ему предложить. Христиане и мусульмане отвернулись друг от друга. На уровне правящих классов образовался беспрецедентный разрыв между жизнью Западной Европы и той частью Восточной Европы, которая оказалась под властью мусульман. Однако среди христиан Восточной Европы, включая тех, кто находился под мусульманским правлением, подобного разрыва не существовало. Опять же, в отличие от индуистов в Тимуридской империи, османские христиане не были включены в жизнь высших политических и культурных слоев; исключение составляли новообращенные, которые приняли ислам, выучили тюркский язык и порвали связи с бывшими единоверцами. Восточные христиане по примеру независимой России все чаще обращали свои взоры в сторону Западной Европы, чей престиж возрастал по мере упадка Османской империи. Они не смогли принять участие в Просвещении, как все жители Западной Европы. Идеи Просвещения проникали к ним извне и воспринимались параллельно с процессом ассимиляции западных норм, которые ранее рассматривались как чуждые. Уже в XVIII веке данный процесс дистанцировал восточных христиан не только от независимых российских мусульман, но и от других субъектов Османской империи.
В отличие от поволжских татар, турки Османской империи поддерживали свою аграрную аристократию, которая сохранила политическую власть, хотя и утратила экономическое лидерство. Поэтому османские тюрки поколения 1789 года перед лицом Великих западных преобразований оказались в довольно сложной ситуации. Будучи в Европе, но не являясь ее частью, они оказались культурно отрезанными как от других народов своей империи, так и от независимых российских мусульман, которые уже ушли далеко вперед по пути модернизации.
Таким образом, процесс модернизации имел как позитивные, так и негативные стороны. Турки, что вполне естественно, воспринимали саму идею модернизации не как процесс конкуренции с Европой, а как способ стать ее частью. Приняв необходимость полной модернизации, они согласились и с формой, в которой она должна проходить: турки становятся европейцами. Но подобная ситуация создавала серьезные препятствия на выбранном пути. Принять западную систему ценностей для османских тюрков означало признать равноправие тех народов, которые вошли в их империю на правах побежденного. Кроме того, некоторые из этих народов установили своего рода полную монополию на вестернизацию, изолировав мусульманских турков от этого процесса. Таким образом, турецкие политики оказались на распутье: остаться «правоверными» мусульманами и быть при этом на обочине либо встать на путь радикальной вестернизации.
Либерализм «новых османов»
Успешная попытка Махмуда реставрировать абсолютизм сопровождалась многочисленными заимствованиями с Запада, причем не только в сфере военного дела (и предметов роскоши), но и структуры правительства, образовательных и юридических шаблонов общества. Эпоха Танзимата ускорила адаптацию страны к Западной Европе, и заимствование атрибутов современного государства и образцов западной социальной модели стало нормой. Целью правительства (насколько оно вообще учитывало мнение общественности) было усиление и повышение эффективности государственной власти, поддержка основных стандартов нового международного порядка. Однако все возрастающее число турок из высших слоев общества начинало интересоваться общечеловеческими ценностями современной Европы и рассматривать усиление или ослабление центральной государственной власти только как средство привить и укрепить данные моральные нормы. Они хотели жить как европейцы, потому что те жили лучше их. В конце XIX века инициатива в вестернизации перешла от правительства к нижним слоям привилегированного класса, которые стремились создать лучшее общество. Новых сторонников модернизации называли «либералами», поскольку они стремились утвердить свободу личности среди всех людей, но особенно среди тех, кто был образован и мог стать выразителем идеалов нового общества. Поэтому они поддерживали различного рода гуманистические и либеральные движения, возникшие в этот период в Европе. Очень скоро эти люди перестали доверять своему «вестернизированному» правительству и его могущественным европейским покровителям. Наконец они начали отрицать сам способ, которым страна пыталась стать частью Запада.
Впервые этот новый дух нашел свое выражение в турецкой литературе. В начале столетия турецкая поэзия (как и любая другая в исламском мире) переживала глубокий кризис. Проблема заключалась в том, что старые формы стихосложения полностью изжили себя, а новые еще не были выработаны. К середине столетия старая поэтическая традиция полностью сошла на нет. «Старая» поэзия отличалась утонченностью и изысканностью форм, однако в новую историческую эпоху у читателей были совершенно другие потребности. Классические каноны ушли в прошлое: даже самые незрелые с художественной точки зрения произведения высоко ценились читателями, если на их страницах содержались «новые идеи». Появилась целая плеяда писателей, которые создали новую турецкую литературу, источником вдохновения которой была уже не персидская, а французская литература и язык которой отказался от придворной утонченности в пользу разговорной простоты.
Создавая новую среду, писатели, например Шинаси, отстаивали в своих произведениях идеалы свободы и прогресса, настолько талантливо изображая все перипетии человеческой жизни, что читатель невольно идентифицировал себя с персонажами литературного произведения, жил их тревогами и надеждами. Шинаси ввел в османский язык и османский культурный контекст элементы западного романтизма. Теперь они могли затронуть турецкого читателя сильнее, чем если бы он читал о них на французском, английском и немецком языках или даже в переводе. Таким образом, Шинаси стал кумиром прогрессивной турецкой молодежи.
В 1860-х годах среди прогрессивной молодежи началось движение в поддержку либеральных реформ в рамках западного конституционного права. Сумасбродства султана Абдул-Азиза, некомпетентность правительства, находящегося в полной зависимости от ведущих западных держав, отсутствие нормальных по сравнению с крупными европейскими городами условий для жизни в Стамбуле и Салониках — все это переполнило чашу терпения молодых людей, которые называли себя «новыми османами». Далеко не все из них получили европейское образование, однако все без исключения были знакомы с идеями западного либерализма, в том числе и такой его разновидности, как либеральный национализм, получивший широкое распространение в Италии. Эти молодые люди были твердо убеждены: чтобы стать свободной, независимой, мыслящей личностью по западному образцу, нужно сбросить оковы деспотизма. Если османы примут идеи либерализма, ограничат власть монарха, примут конституцию и отбросят отжившие свой век предубеждения и предрассудки, они станут подлинно великой нацией. Выразителем этой национальной идеи стал выдающийся писатель Намык Кемаль, который создал совершенно новую концепцию национального патриотизма.
Мидхат-паша. Английская карикатура сер. XIX в.
«Новые османы» в большинстве исповедовали ислам, однако чувствовали, что его следует очистить от закостенелости улемов. Они полагали, что правильно понятый ислам содержит в себе основные принципы западного либерализма: культ свободы и справедливости, отрицание всяческих предрассудков и даже любовь к родине. В качестве доказательства они цитировали знаменитый хадис, в котором говорилось, что любовь к своей земле является неотъемлемой частью веры. Не вдаваясь в глубины критики иснадов и тонкости теологии, они убедили себя, что Коран и хадисы можно по своему желанию толковать с современной либеральной точки зрения. Более того, они полагали, что ислам является самой чистой религией на земле и намного более рациональной, чем, например, христианство с идеей Троицы, а следовательно, идеально подходит для человека современного общества. Некоторые даже желали создать патриотический союз всех мусульман.
«Новые османы» пытались публиковать статьи в печатных изданиях, они хотели сделать свои идеи достоянием широкой публики (по крайней мере образованной ее части), но поскольку они критиковали правительство, очень скоро эти публикации были запрещены. В большинстве своем они являлись государственными служащими и через некоторое время оказались задвинутыми на незначительные должности, где не могли причинить серьезного беспокойства власти. Их лидеры эмигрировали в Париж, где продолжили свое дело, переправляя печатные издания на родину контрабандой.
Между тем в самом правительстве находились люди, которые пришли к сходным выводам. Абсолютизм постепенно переставал справляться со своими задачами. Чтобы эффективно управлять страной, правительство должно быть современным, то есть тесно сотрудничать с передовым слоем населения страны. Без этого коррупция и безразличие уничтожат самые лучшие планы верхушки бюрократической системы. Но сотрудничество с той частью общества означает поддержку и защиту их интересов. Так всегда было в теории абсолютистского государства, и теперь это должно было означать модернизацию и либерализацию.
Один из таких политиков, Мидхат-паша, смог провести административные реформы в подчиненном ему Дунайском вилайете, который стал образцом процветания и эффективного управления, свободным от коррупции и прочих пороков, за которые Запад традиционно критиковал империю. Помимо всего прочего Мидхат-паше удалось наладить сотрудничество с местным населением, причем он использовал такие методы и формы сотрудничества, которые ранее считались исключительной привилегией абсолютизма. Когда Мидхат-пашу послали в Багдад, ему удалось успешно повторить подобный опыт. Несмотря на интриги, он был переведен в Стамбул и занялся разработкой либеральной конституции для всей империи. Такая конституция, основанная на идеях Танзимата, должна была защищать права и свободы личности, оградить общество от деспотизма и своеволия местных правителей.
Деспотизм в современном стиле: Абдул-Хамид и панисламизм
Возвышение Мидхат-паши повлекло за собой низложение и смерть безответственного Абдул-Ази-за, но новый султан, на которого либералы также возлагали определенные надежды, был очень скоро свергнут с престола, на который взошел его брат Абдул-Хамид II. Абдул-Хамид разработал собственную концепцию прогресса, основанную на традициях абсолютизма. Он арестовал Мидхат-пашу и отменил конституцию. Все его правление являет собой наглядный пример деспотизма, оснащенного новейшими достижениями технического прогресса. С либерализмом было покончено, а Танзимат окончательно забыт. Голоса независимой критики, указывавшие на коррупцию, неэффективность управления, вопиющие беззакония, смолкли. Гонениям подверглись и христианские националисты.
Такого молчания удалось добиться, с одной стороны, при помощи современных полицейских методов: централизованной жандармерии, обученной по западному образцу, сменившей старые военные ополчения и местную охрану и исполнявшей свои обязанности намного более эффективнее своих предшественников, кроме того, она действовала как в столице, так и в провинции. Такие технические новшества, как железная дорога и телеграф, позволяли Абдул-Хамиду практически мгновенно дотянуться до любого населенного пункта своей империи.
Абдул-Хамид нуждался не только в современных технических устройствах, в первую очередь ему необходима была соответствующая идеология. Такую идеологию можно было разработать, лишь опираясь на тех консервативно настроенных «правоверных», которые мечтали о единении мусульман всего мира (это политическое течение вошло в историю под названием «панисламизм»). Абдул-Хамид окружил почтением улемов, которые в период Танзимата утратили свой авторитет, но теперь былая слава возвращалась к ним. Однако он не предпринял сколько-нибудь серьезных попыток возродить шариат в тех сферах общественной жизни, где его нормы игнорировались. Вместо этого он разработал новую доктрину (несовместимую со старыми нормами шариата), в соответствии с которой утверждал, что является халифом, обладающим духовной властью над мусульманами всего мира, и эта духовная власть представлялась ему гораздо более важной, чем власть политическая. Таким образом, он воспользовался идеологической концепцией «новых османов» (которые также возлагали на панисламизм большие надежды) для укрепления своей политической власти.
Султан Абдул-Хамид. Рисунок нач. XX в.
В этом ему помогло благоприятное стечение исторических обстоятельств. В конце XVIII века султанам было удобно запутывать в ходе переговоров европейские державы при помощи статуса халифа. Уступив России часть территории своей империи, султан, однако, настаивал на том, что, лишившись светской власти, он по-прежнему является единым духовным лидером всех мусульман и потому имеет право на религиозное руководство в мечетях. Султаны Османской империи, как и другие великие мусульманские правители, толковали титул «халиф» в его позднем смысле как правителя, который правит по законам шариата. Европейцы воспринимали этот титул в его первоначальном значении как повелителя всех мусульман и, проводя аналогии с католическим Папой, готовы были принять требования, значившие для мусульман нечто другое, сходное разве что с автономией христиан под исламским правлением. Но теперь с упадком исламского образования и появлением класса мусульман, получивших европейское образование, у Абдул-Хамида появилась возможность стать халифом именно в том смысле, который вкладывали в это понятие европейцы. Особенно благоприятная ситуация в этом отношении сложилась в Индии, когда в 1858 году англичане низложили последнего Тимуридского императора из-за проблем с реформистскими движениями ваххабитского типа. Как может мусульманин жить в государстве, которым управляют неверные, а шариат, этот универсальный закон человеческого бытия, низведен до уровня личных норм поведения? Сторонники панисламизма отвечали на этот вопрос следующим образом: если во всем мире останется хотя бы одно государство истинных, «правоверных» мусульман, то этого вполне достаточно — такое государство станет образцом истинной веры для мусульман всего мира. Таким образом, слово «халифат» обретало новое значение, и Абдул-Хамид как правитель самого сильного мусульманского государства, на территории которого находились главные святыни ислама, охотно принял этот титул. Символическим жестом «нового халифа» стало строительство железной дороги для паломников в Хиджазе, которая соединила Дамаск и Медину. Мусульмане всего мира принимали участие в этом грандиозном проекте.
Английская карикатура на начало русско-турецкой войны 1877–1878 гг.
В самом начале своего правления Абдул-Хамид потерпел несколько сокрушительных поражений. Восстание болгар на территориях, расположенных к югу от Дуная, которое началось еще до вступления Абдул-Хамида на престол, вызвало жестокий ответ со стороны турок, беспощадно подавивших это выступление, устроив кровавую резню. Россия воспользовалась случаем вмешаться в этот конфликт, надеясь взять под свой контроль Босфорский пролив. Франция и Великобритания на этот раз воздержались от прямого военного вмешательства, что дало России возможность продемонстрировать высокое качество проведенной в стране вестернизации. Только давление ведущих европейских держав остановило русских, которые практически дошли до Стамбула. Мирный договор, по которому Османская империя теряла весь Балканский полуостров, также был пересмотрен. Тем не менее в 1878 году империя все же лишилась всех своих балканских провинций, за исключением небольшой полоски земли, которая шла от Албании через Македонию к проливам. Многие мусульмане переселились на эти земли с северных территорий, присоединившись к своим и без того многочисленным единоверцам. Таким образом, отныне мусульмане составляли большинство во всех провинциях империи, и наименее развитой из них, но наиболее тюркской Анатолии суждено было сыграть решающую роль в исторической судьбе Османской империи. Абдул-Хамид использовал военное поражение в качестве предлога для отмены конституции. Его последующая панисламская политика воспринималась населением намного более спокойнее из-за утраты большинства христианских провинций.
Военное поражение, однако, не решало стоящих перед империей проблем. Во время Крымской войны страна задолжала крупные суммы европейским банкам, при Абдул-Азизе долг вырос еще больше, и теперь Абдул-Хамиду пришлось согласиться на полный контроль европейцев над финансовой системой страны, чтобы обеспечить выплату задолженности (альтернативой была европейская военная оккупация). Правительства ведущих европейских держав, в свою очередь, обеспечивали поддержку его деспотического режима. Когда даже на небольшой полоске балканской территории, которая еще оставалась у Османской империи, начались восстания христианского населения (поводом для восстания послужила угроза оккупации этих территорий соседними христианскими странами) и турки не смогли обеспечить общественный порядок, европейские державы установили полный контроль даже над местными органами власти.
Тем временем процесс модернизации продолжался во всех областях жизни, кроме конституционных свобод, несмотря на неэффективную политику правительства, игнорировавшего интересы все сильнее вестернизирующегося городского населения и стремившегося сохранить старые привилегии. «Новый деспотизм» Абдул-Хамида зависел не только от технологий, бесперебойную работу которых могли обеспечить лишь люди с европейским образованием, но и от более серьезных институциональных перемен. Разрушались старые автономные социальные институты, основанные на локальной солидарности, такие как гильдии и местные школы при мечетях, им на смену пришли намного более анонимные, безличные социальные институты, например, новая армия (в ней служили офицеры практически из всех регионов страны) и новые общенациональные школы, в которых уже не было места старым семейным связям и которые намного лучше контролировались со стороны ориентированного на карьеру и относительно безличного правительства.
Даже «новый халифат» Абдул-Хамида и его панисламская идеология зависели от современных средств коммуникации. Железная дорога в Хиджаз стала продолжением Багдадской железной дороги, которую в коммерческих целях строили немцы, продлевая европейскую систему железных дорог (которая уже доходила до Стамбула) через Анатолию в Багдад. Абдул-Хамид прекрасно сознавал, что его империя находится в полной зависимости от европейских держав, поэтому он искал себе опору среди таких людей, которые, с одной стороны, находились в «зоне влияния» европейской культуры, а с другой стороны, являлись убежденными сторонниками идеологии «панисламизма». Он пригласил блестящего политика-реформатора из Туниса и вызвал в Стамбул (где держал под мягким контролем) наиболее знаменитого интеллектуального реформатора ислама того времени Джамаляддина Афгани, который сочетал идеи панисламизма, категорическое неприятие фанатизма улема и стремление распространять в исламском мире европейское научное знание. При Абдул-Хамиде в стране резко возросло количество современных школ, организованных по европейскому образцу. Несмотря на определенное реакционерство в литературе, она процветала, прежде всего за счет переводов западных художественных книг. Наконец, несмотря на тотальную цензуру, либеральные идеи широко распространились среди образованных турок настолько, что в конце своего правления Абуд-Хамид перестал доверять высокопоставленным турецким чиновникам, предпочитая им выходцев из арабской и албанской элиты, которые были менее затронуты подобными веяниями.
Османизм и тюркизм: революция младотурок
Специфическая модернизация Абдул-Хамида не могла длиться вечно. Тайное общество офицеров планировало восстановить конституцию, и, хотя шпионы сообщили султану об этом, он не мог предпринять какие-либо решительные меры против них без того, чтобы вызвать огромное недовольство в армии, а этого он себе позволить никак не мог. В 1908 г. после восстания в Салониках он восстановил конституцию. Все городское население Османской империи с радостью встретило эту новость, мусульмане и христиане братались прямо на улицах. В созванном вслед за этим парламенте власть перешла к партии «Единения и прогресса», которую сформировали победившие офицеры. Теперь просвещенным «молодым туркам», как они себя называли, предстояло принять серьезные решения, касающиеся дальнейшей судьбы Турции.
Цонаро Ф. Османская кавалерия
Все идеи реформ, которые долгое время беспощадно подавлялись Абдул-Хамидом, вышли из подполья, но вместе с тем обнажились и все противоречия между надеждами и фрустрирующей их реальностью. Конституция, разработанная по западному образцу, могла успешно функционировать лишь в рамках западной социальной модели. Поэтому сразу же возник вполне естественный вопрос: какую именно нацию представляет эта конституция? Эта проблема приобретала особое значение для османских христиан. Османы были сильно озабочены тем, что у все более «вестернизированного» христианского населения нарастают сепаратистские настроения. Эти люди считали себя европейцами в полном смысле этого слова, и с этой точки зрения они ощущали свое превосходство над своими отсталыми правителями. Кроме того, они были торговцами (защищенными «капитуляциями»), а еще чаще — ремесленниками, являясь своего рода экономическими артериями империи, а следовательно, с ними нельзя было не считаться. Кооперации с ними (и уважения со стороны европейских держав, чьей поддержкой эти люди могли воспользоваться в случае восстания) можно было добиться, только реформировав общество в целом и армию в частности. Еще в период Танзимата была сформирована теория многоконфессиональной османской национальной принадлежности, которая защищала бы интересы как христиан, так и мусульман. На Балканском полуострове эта теория оказалась нежизнеспособной, но среди христианских меньшинств Македонии и Армении она по-прежнему оставалась популярной. К концу XIX столетия ситуация еще больше осложнилась, ведь непреодолимые противоречия разделяли не только христиан и мусульман. Среди народов, исповедующих ислам, также не было единства: противоречия между албанцами, тюрками и арабами только нарастали.
Османские войска в Иерусалиме. Фото нач. XX в.
После свержения Абдул-Хамида перед османскими тюрками особенно остро возникла проблема общего отношения к современному Западу. Кто же такие турки? Являются ли они мусульманами, европейцами, или могут являться и теми, и другими одновременно? Христиане Османской империи уже решили для себя этот вопрос: они считали себя прежде всего европейцами, а потом уже христианами. Как христиане, эти люди должны были бы считать западных европейцев еретиками, однако, будучи прежде всего европейцами, они жили с ними в одном сообществе. Для османских турок адаптация к современности означала пойти по тому же пути, который уже прошли их христиане и русские, и стать европейцами, стать западными людьми. Чтобы модернизироваться, нужно было пройти «вестернизацию» и войти в Европу. И это означало подчинить свои религиозные различия, в их случае — православие, общим законам европейской жизни. Для турок это означало перейти от исламской цивилизации прошлого к современной европейской цивилизации: они должны были сменить свое старое культурное наследие на новое.
Многие традиционно настроенные турки, осознав неизбежность европеизации, пришли в растерянность. Новая цивилизация в Викторианскую эпоху не всегда могла похвастаться красотой и высокоморальным духовным поведением. Поначалу ситуация представлялась не столь драматичной, как ее видели многие реформистски настроенные турки, ведь стать европейцем не означало отказаться от ислама так же, как грекам не потребовалось отказываться от православия. Что же касается всего остального, многие турки надеялись, что изменения будут минимальны. Теперь же стало ясно, что этим надеждам не суждено сбыться.
После того как от панисламизма отказались, оставались две возможности. Нация могла быть османской, разделенной по языковому и религиозному принципу, примером чему служило династическое государство Австро-Венгрия, в которой многие народы жили под властью одного монарха. Либо нация могла быть турецкой, что толковали как «туранской», поскольку османские тюрки надеялись на воссоединение с тюркоговорящими народами Российской империи (позднее исчезнувшей в пламени революции) от Крыма до китайской границы (и за ней), в результате на свет появится новое могучее государство, объединенное общей национальной идеей. Официально младотурки пытались сохранить Османскую империю. Но они толковали понятия «османский» прежде всего как «тюркский», что вызывало растущую озабоченность не только греков, армян и македонцев, но также албанцев и арабов, которые отмечали, что в парламенте наблюдается явное преобладание выходцев из тюркоязычных провинций.
Политика младотурок не стала более стабильной, чем у Адбул-Хамида. Их цели очевидно требовали сильной централизованной государственной власти и гомогенности османской нации под властью турок, которые бы заставили всех остальных принять турецкий язык и культуру как культурную основу империи. Такая политическая доктрина вызывала протесты, которых ранее не было, и эти протесты стали подавлять цензурой и грубой силой.
В период правления Абдул-Хамида христианские крестьяне часто подвергались жестокому обращению. Начиная с 1905 г. курды регулярно устраивали резню своих врагов армян, которые слишком серьезно восприняли новые свободы, дарованные им конституцией. Но к мусульманам, особенно к представителям высшего слоя, самым жестким наказанием, которое применялось при Абдул-Хамиде, был арест и ссылка. Младотурки стремились гарантировать безопасность всем без исключения подданным Османской империи и были шокированы резней армянского населения (которая повторилась в результате восстания против их политики модернизации), но сами применяли к своим политическим оппонентам достаточно суровые меры, вплоть до смертной казни. Эта тенденция еще больше усилилась после 1911 г., когда Турция вступила в бесконечную войну, пытаясь отстоять те территории, которые у нее еще оставались.
Действительно низложение Абдул-Хамида спровоцировало нападение внешних врагов, которые не хотели упустить удобный шанс, поэтому младотурки не смогли показать, на что они были бы способны в мирное время. Австро-Венгрия оккупировала ту часть Балканского полуострова, которая находилась под ее управлением, а в 1911 г. Италия напала на остатки османских владений на Средиземноморском побережье западнее Египта. Турки были вынуждены быстро отступить, лишь отдельные группы мусульман, принадлежащих к тарикату Сенусийя, укрылись в пустыне и начали партизанскую войну. Наконец все балканские государства объединили усилия, поставив перед собой цель полностью изгнать турок с полуострова. К 1913 г. у Османской империи осталась лишь небольшая полоска земли за Стамбулом (албанцы воспользовались этой благоприятной возможностью и провозгласили независимость). Затем в 1914 г. младотурки позволили немцам, которые превратились в их главного экономического партнера, втянуть свою страну в войну с Россией, а следовательно, с Великобританией и Францией. Для реформ уже не оставалось ни времени, ни финансовых ресурсов.
Но даже в такой непростой ситуации находилось место и время для размышлений о дальнейшей судьбе страны. Знаменитый политический писатель Зия Гёкальп считал саму идею османской нации несостоятельной. Он находился под сильным влиянием французской социологии и на ее основе разработал свою собственную интерпретацию ситуации в Турции. Человечество состоит из отдельных наций, вне которых человек существовать не может. Каждая нация имеет свою собственную народную культуру: свои общие воспоминания и обычаи, свои стремления и порывы, выраженные в народных сказках и песнях. Они неразрывно связаны с языком, а следовательно, люди, говорящие на одном языке (как правило, они проживают на строго определенной территории), могут сформировать нацию. Каждая такая нация связана с другими нациями в цивилизацию на уровне техники и разнообразных искусств, на уровне придворной литературы, политических форм, правовых институциональных структур. Но такие цивилизации вторичны по отношению к нациям, которые могут принимать их, а затем менять одну на другую. Тюркская нация много веков назад приняла персидско-арабскую или исламскую цивилизацию, в то время самую прогрессивную в мире, теперь же она может изменить свой выбор и предпочесть европейскую цивилизацию; это никоим образом не повлияет на сущность ее национального характера. Нация может полностью выразить себя лишь в рамках наиболее передовой и прогрессивной цивилизации, и, если турки изберут для себя западную цивилизацию, это будет означать, что они действительно стали единой нацией со своей собственной национальной культурой.
Молодой Ататюрк на войне в Ливии. Фото 1912 г.
Зия Гёкальп много размышлял о проблемах религии и, как другие либералы, был убежден, что правильно интерпретированный ислам не принадлежит исключительно персидско-арабской культурной традиции, и тюрки могут взять его в новую цивилизацию как еще одну веру наряду с католицизмом и протестантизмом в Европе. На волне возрождения литературы в конце XIX в. он пытался выразить поэтическим языком тот национальный дух, который является самой сущностью турецкой нации, причем сделать это в такой форме, которая была бы доступна простому человеку.
Зия Гёкальп. Фото нач. XX в.
Таким образом, в противовес османизму и панисламизму Зия Гёкальп сформулировал и сделал достоянием общественного мнения идею исключительно турецкого «вестернизированного» национализма, которая апеллировала не ко всем тюркским народам, а только к тем, кто проживал в Анатолии и Фракии и был связан тесными историческими и культурными узами. Однако его идеи отличались излишней академичностью. Среди тех мусульман, к которым был обращен его призыв, гораздо большей популярностью пользовались идеи панисламизма, насколько вообще они могли принять какую-либо программу современного национального сознания. Правящие классы считали единственной практически выполнимой программой османизм. В отличие от греков и армян, представители турецкого правящего класса воспринимали себя не как самостоятельную нацию, но как некую привилегированную социальную группу среди мусульманской общности Османской империи. Образованные тюрки не идентифицировали себя с турецкими пастухами и крестьянами, даже если это были их соотечественники. (Само слово «турок», превратившееся затем в название нации, звучало для них как оскорбление.)[414] Таким образом, проповедуемая Гёкальпом идея турецкого национализма, принятая правящим классом Турции после окончания Первой мировой войны, в то время казалась не более чем утопической мечтой.
Формирование нации западных тюрок
Во время Первой мировой войны Россия была занята боями на германском и австро-венгерском фронтах, и, поскольку Болгария примкнула к Австро-Венгрии и Османской империи, казалось, что повторение событий 1878 г., когда противник грозил Стамбулу с суши, невозможно. За исключением северной границы, самым серьезным противником турок оказалась Великобритания, чей военно-морской флот базировался в Египте. Младотурки надеялись освободить Египет, пройдя через Синайский полуостров, пока англичане были заняты на западе, однако, несмотря на немецкую помощь, для такой военной операции им не хватило ресурсов. Зато британский флот смог высадить в Дарданеллах морской десант, который собирался захватить Стамбул. Защитой береговых укреплений руководил офицер Мустафа Кемаль (будущий Ататюрк), который оборонялся при поддержке немецкого флота. Мустафа Кемаль стал национальным героем, он заставил англичан отступить. Завистливый лидер младотурок Энвер-паша принял решение послать его на второстепенный северо-восточный фронт, где он вел боевые действия против русских. (В 1917 г., когда в России грянула революция, именно на северо-восточном фронте туркам удалось вернуть себе те территории, которые были некогда захвачены русскими.) В течение всей войны империи удавалось избегать существенных территориальных потерь, но в 1918 г. британские войска пересекли Синайский полуостров и при поддержке восставших арабов отбросили турецкую армию на север Сирии. Положение становилось угрожающим, и во главе терпящей поражение армии встал Кемаль. Он смог сохранить армию, которая после подписания мирного договора оставалась вполне боеспособной. К концу войны османские турки получили новый общий исторический опыт, который могли разделить солдаты из анатолийских крестьян, и у них появился общий национальный герой.
Тем не менее к концу 1918 г., когда османы прекратили боевые действия, их столица была оккупирована французскими и британскими войсками, а территорию империи поделили между собой французы, британцы, греки, армяне, курды, итальянцы и восставшие арабы. Только часть северной Анатолии и Стамбул, на который не смогла предъявить претензий революционная Россия, остались во власти султана. Аидеры младотурок покинули страну (Энвер-паша, например, эмигрировал в тюркские регионы России и предпринял там безуспешную попытку создать пантуранское государство).
Греки воспользовались создавшейся ситуацией и восстановили свою власть на всем побережье Эгейского моря и прилегающих к нему областях, которые издревле принадлежали не только грекам, но и многочисленным греческим племенам, включая Македонию и Фракию на севере, а также западное побережье Анатолии. Когда греческая армия высадилась в Измире, чтобы оккупировать Западное побережье Анатолии, местное греческое население подняло восстание и начало резать турок. Многие знатные турки бежали под защиту британцев и американцев, бедняки, которым нечего было терять, начали партизанскую войну. В этот критический момент Мустафа Кемаль бросил вызов султану и в сердце Анатолии принял на себя командование теми турками, которые еще сопротивлялись объединенным силам союзников. Кемаль созвал Великое национальное собрание, которое заменило парламент в Стамбуле. Национальное собрание выражало интересы правящих слоев общества. Кемалю с его твердостью и решительностью без труда удалось взять под контроль этот политический институт.
Ататюрк и Иненю. Фото 1922 г.
Султан объявил Кемаля мятежником и (несмотря на греческую угрозу) направил против него все войска, которые у него еще оставались (они состояли из тех мусульман, которые продолжали хранить верность султану как своему халифу). Тем временем армяне с помощью союзников попытались создать свое собственное независимое государство на территории бывшей Российской империи. Французы оккупировали север и северо-восток Сирии. Курды безуспешно пытались создать собственную республику. Арабы вышли из состава империи, и Кемаль поддержал это решение. Итальянцы еще не успели высадить свои войска на той территории, которая отошла к ним (на юго-западе), и Кемаль еще не начал наступление на британцев, находившихся в Ираке, Палестине и в столице. В любом случае Кемалю пришлось вести войну сразу на четыре фронта. «Армию халифата», несмотря на первоначальные успехи, смел патриотический подъем в сельских районах страны. Армяне (которые стали жертвой геноцида во время войны 1914 года) были вытеснены к границам бывшей Российской империи, где и создали свою миниатюрную республику. Французы, столкнувшись с ожесточенным сопротивлением арабов, полагали, что самое большее, на что они могут претендовать, — это северная часть Сирии. Но самым опасным противником оставались греки, сражаться с которыми могла лишь сильная, хорошо вооруженная армия. Вооружение и амуниция изготавливались из любых подручных материалов, крестьянки переносили оружие через горы на руках, и даже аристократы в Стамбуле выражали свою солидарность с общенациональным движением: они сквозь пальцы смотрели на многочисленные кражи с продовольственных складов, принадлежащих союзникам. Наконец, военачальник Кемаля Иненю перешел в наступление. К концу 1922 г. греческая армия была оттеснена к Измиру (турки, в свою очередь, начали массовые кровавые расправы над греками), а затем сброшена в море. Турецкие войска победоносно вступили в столицу, британцы ушли, и султан уехал в изгнание. Кемаль объявил, что Восточная Фракия вновь принадлежит Турции, но не смог продвинуться далее границы 1913 г. Новый мирный договор не только очистил оставшиеся территории от иностранных войск, но и покончил с той системой привилегий для европейцев, которая складывалась в этом регионе на протяжении всего XIX столетия. Национальное собрание наградило Кемаля титулом «гази» — воина ислама. Кемаль, по крайней мере на время, принял этот титул, но настаивал, что победу удалось одержать при помощи не столько религиозного, сколько национального чувства. Когда Кемаль вернулся в Анкару после победы над греками, религиозные лидеры города попросили его пойти вместе с ними к гробнице местного святого. Это было само собой разумеющимся для прежних османских военачальников, более того, националисты нуждались в помощи религиозных авторитетов, учитывая обвинения султана в Стамбуле. Но он отказался, заявив, что победу одержали солдаты, а не их святой, от поклонения которому нет никакого прока.
Акбулут А. Турецкие войска входят в Измир
Частично из-за авторитета, полученного им во время войны 1914 года, но главным образом благодаря своей победе над греческими христианами, победоносный Кемаль так эффектно заменил проигравшего на всех фронтах султана, что стал безусловным вождем нации, которую сам создал. Во время войны турки научились чувствовать себя в первую очередь турками. Кемаль бескомпромиссно воплотил в жизнь турецкую национальную идею, разработанную Зия Гёкальпом. Его успех в значительной степени был обусловлен тем, что он сознательно отказался от всех притязаний на арабские территории и воевал только за те земли, где турецкое население составляло значительную часть, а в лучшем случае — большинство. Он апеллировал к чувствам общности судьбы западных тюрков, которые разделяли простые тюркоязычные люди, это был тот самый западный тюркский народ, о котором говорил Гёкальп. Кемалю удалось заключить мир с союзниками исходя из того, что турки являются западной нацией, хотя он пытался включить в свое государство как можно больше курдских территорий (в турецком окружении курдские семьи быстро усваивали турецкий язык). В принципе новые государственные границы были проведены на основе языковых различий, а религиозные отступали на второй план. В частности, турки и греки жили на всем побережье Эгейского моря и претендовали на эту спорную территорию; они разделили эти земли между собой и сформировали свои национальные государства. После подписания мирного договора началась массовая миграция населения: греки (т. е. христиане, принадлежавшие к греческой церкви и, как правило, но не всегда, говорившие по-гречески), проживающие на турецкой территории (за исключением Стамбула), начали переселяться на те земли, которые должны были отойти к Греции. Турки (т. е. мусульмане, как правило говорившие на турецком языке), проживающие на «греческой территории» (за исключением Восточной Фракии), начали переселяться на те земли, которые должны были отойти к Турции. Родной город Кемаля, Салоники, отошел к Греции, а Измир, в котором проживало преимущественно греческое население, стал чисто турецким городом.
Кемалистская республика: секуляризм и западничество
Создав независимое турецкое государство на ограниченной территории, Кемаль начал последовательно проводить интеграцию нации в западную цивилизацию. Великое национальное собрание было таким же продуктом борьбы, как и турецкое национальное самосознание; Кемаль подчеркивал тот факт, что при провозглашении суверенитета была объявлена республика и не возникло даже речи о том, чтобы поставить на престол очередного султана. Еще какое-то время за Турцией оставались панисламистские функции халифата, отделенные от уничтоженного султаната, но в 1924 г они были также упразднены. Ислам постепенно утрачивал свое государственное значение и переходил в плоскость личных религиозных убеждений. Все суфийские тарикаты были запрещены, а их собственность конфискована. Многие ханаки превратись в музеи, музеями стали и некоторые мечети (хотя большинство мечетей продолжали функционировать, в них по-прежнему собиралось большое число верующих), медресе были закрыты, прекратилось обучение улемов за государственный счет, контролируемая государством система вакфов была секуляризована. Более того, все законы, основанные на нормах шариата, были заменены европейскими кодексами, в частности за основу было взято швейцарское гражданское право, которое слегка модифицировали.
Конечно, ислам по-прежнему играл заметную роль в жизни турецкого народа. Даже такой антиклерикал, как Кемаль, вынужден был считаться с этим обстоятельством и сохранять лояльность к мусульманскому сообществу. Так, он не разрешил урожденной мусульманке выйти замуж за неверного. Особенно в первые годы существования турецкого государства быть турком означало прежде всего быть мусульманином и уж потом говорить на турецком языке (что наглядно проиллюстрировало переселение турок с территорий, отошедших к Греции): грекоязычные мусульмане считали себя турками (и писали по-гречески турецкими буквами), а туркоязычные христиане — греками (и писали по-турецки греческими буквами). Хотя язык являлся главнейшим критерием общества, народная религия была важна настолько, что при определении базовой культурной принадлежности, учитывая местные особенности, могла перевесить даже языковую принадлежность.
Мустафа Кемаль использовал все юридические и экономические рычаги, чтобы сделать турок европейской нацией. Его главным инструментом стала Республиканская народная партия, которую он основал, контролировал рост численности членов и которая была единственным способом попасть в Национальное собрание. Она стала не просто политическим институтом, но сообществом для пропаганды реформ. Для того чтобы делать это наиболее эффективно, по всей стране были открыты «народные дома» (хальк эвлери), которые являлись одновременно социальными центрами, библиотеками, школами для взрослых, в которых население знакомилось с достижениями европейской культуры.
Основные принципы партии, прописанные в конституции республики, можно было свести к шести ключевым словам. Республиканство — наличие выборного, конституционного правительства; национализм — этот принцип подразумевает, что правительство всячески способствует развитию определенной национальной культуры и лояльности; популизм — главной заботой правительства являются нужды и чаяния простых людей; этатизм — ответственность государства за экономическое процветание страны; лаицизм — представители всех религиозных конфессий пользуются равными правами; и наконец, революционность (или реформизм), предусматривающая постоянную замену старых традиций новыми и более прогрессивными.
Ататюрк демонстрирует новый латинский турецкий алфавит. Фото 1928 г.
Популизм подразумевал не только всеобщее избирательное право, но и равные экономические и политические права для женщин, а также всеобщее образование, которое должна была обеспечить (правда, не всегда успешно) создаваемая широкая сеть деревенских школ. Вся государственная политика отныне была направлена на улучшение положения крестьянства. Самой важной реформой стала отмена старого налога на зерно, который зачастую становился непосильной ношей для крестьян, хотя его размер уже был уменьшен в XIX веке. (Поскольку данный налог был частью шариатских норм, Кемалю пришлось проводить разъяснительную работу среди крестьянства, объясняя, что отмена этого налога не противоречит воле Господа; когда они поняли, что это никоим образом не затрагивает их религиозные убеждения, они стали считать Кемаля своим благодетелем, что помогло ему сгладить негативное впечатление от других реформ.) Отныне государство получало доходы только от государственной монополии и косвенных налогов, которые куда меньше обременяли беднейшие слои крестьянства. Однако партия не предпринимала серьезных мер против концентрации большей части сельскохозяйственных земель в руках небольшого числа крупных землевладельцев, поскольку в Анатолии они были главной ее опорой. Что же касается рабочего класса в городах, то его было мало и никаких привилегий от Кемаля он не получил.
Принцип этатизма был принят в качестве основополагающего принципа партии несколько позднее, чем все остальные, хотя он естественным образом вытекал из турецких реалий, поскольку контроль почти над всем капиталом в стране находился в руках немусульман. Младотурки успешно увеличивали количество предприятий, принадлежавших туркам, и, хотя Стамбул оставался городом, наполовину населенным иностранцами, кемалисты смогли еще больше увеличить число подобных фирм. Однако для этого потребовались большие инвестиции со стороны государства, и государство, таким образом, вынуждено было взять все инвестиции под свой контроль.
Попытки кемалистов сделать Турцию современной проявились в программах народного образования, включая школы для взрослых, в создании и применении новой правовой системы, в равных правах для представителей всех религий, в механизации сельского хозяйства, в создании промышленности. В их понимании современность основывалась на традициях, которые Кемаль характеризовал как нормы «всего цивилизованного мира», а под «цивилизованным миром» он подразумевал Запад. Турецкая нация должна была отказаться от персидско-арабского наследия и принять европейскую цивилизацию. Это было совершенно ясно изложено в первых двух пунктах партийной программы.
В 1925 г. сразу после того, как кемалисты подавили восстание курдов в восточных провинциях, которое проходило под знаменем ислама (при этом Кемаль воспользовался возможностью уничтожить часть тех турецких лидеров, которые сопротивлялись его политике), Кемаль провел свои наиболее кардинальные реформы, в том числе ликвидировал суфийские тарикаты. Однако наибольшее недовольство и протесты населения вызывал закон, согласно которому мужчины должны были носить шляпу с полями европейского образца. Мужчинам было запрещено носить фески и другие головные уборы без полей. По мусульманским обычаям во время молитвы мужчины не снимали свои головные уборы, а лоб молящегося обязательно должен был коснуться земли, поэтому отличительной особенностью исламских головных уборов являлось отсутствие полей — широкие поля закрывали лоб и мешали совершать молитву. Таким образом, вне закона сразу же оказались тюрбаны, шапочки и многие другие головные уборы, являвшиеся своего рода отличительным знаком многочисленных социальных групп Османской империи, главным образом улемов и членов различных тарикатов; феску в этот период, кроме правительственных чиновников, носили лишь отдельные представители городского населения.
Таким образом, этот закон выполнял сразу несколько функций. Он символизировал отказ от персидско-арабской культурной традиции и переход к западному культурному наследию (сама по себе шляпа с полями не была современным явлением и не всегда была удобна, но являлась самым ярким воплощением Запада). Помимо всего прочего, в продолжение реформы Махмуда европейские шляпы уничтожали ту сложную социальную иерархию, символом которой были старые головные уборы и которая была несовместима с социальной однородностью современного общества. Кроме того, это убирало внешние отличия тех религиозных сословий, с которыми Кемаль, убежденный сторонник секулярного государства, вел непримиримую борьбу. Кроме того, это произвело переворот в психологии людей. По-турецки «человек в шляпе» означало «европеец», а выражение «надеть шляпу» стало фразеологическим оборотом, который означал «стать европейцем», то есть «предать ислам и свое государство». Теперь же Кемаль заставил каждого турка предать все, что составляло основу Османской империи. Он насильно поставил людей перед дилеммой: протестовать, встать в оппозицию к новой власти, либо признать свое поражение и молча отойти в сторону. Многие пытались протестовать и потерпели поражение, остальные признали если не мудрость, то авторитет Кемаля и тем самым согласились со всем, что делало правительство для «вестернизации» страны.
Соответственно, когда в 1928 г. правительство провело даже более кардинальную реформу, она не встретила сопротивления. Был принят закон, согласно которому восточная графика, которой пользовались в турецком языке, была запрещена. Новый алфавит был действительно фонетически намного более удобен и более соответствовал строю турецкого языка, чем старая персидско-арабская графика. Турецкая орфография к тому времени стала очень сложной и запутанной, что мешало сделать образование всеобщим. В принципе персидско-арабский алфавит можно было адаптировать к требованиям современной промышленной цивилизации, стоило лишь немного изменить начертания букв, и он мало бы чем отличался от современных западных систем письма. По своей сложности английская орфография ничуть не уступала османской, и реформа правописания (наподобие тех, которые были проведены в некоторых западных странах) могла бы привести к тем же результатам, что и новый алфавит. Однако введение нового алфавита преследовало двоякую цель: во-первых, население психологически свыкалось с тем, что реформы окончательны и бесповоротны, во-вторых, молодое поколение сразу же оказалось «отрезанным» от культурного наследия прошлого, ведь все литературные произведения бывшей Османской империи были напечатаны арабским алфавитом.
Ататюрк посещает институт для женщин в Анкаре. Фото 1934 г.
В этот же период были проведены и некоторые другие изменения, касающиеся турецкого языка. В конце XIX века турецкие либеральные писатели пытались упростить придворный османский язык и писать не на персинизированном тюркском, а на живом народном разговорном языке. Теперь эта тенденция превратилась в систему. Языком новой Турецкой Республики стал не османский, но турецкий язык простого народа, который постепенно возвращал себе свой утраченный облик, освобождаясь от заимствований персидско-арабской культурной традиции. Изысканный персианизм, который во много раз превосходил европейский латинизм, уступил место живым разговорным формам. Турки сделали еще один решительный шаг и отказались от персидско-арабской технической терминологии, особенно там, где она не была понятна малограмотным людям, заменив ее турецкими аналогами по примеру немцев, которые полностью германизировали все термины. Они искали подходящие слова и выражения во всех современных и древних тюркских диалектах. Хотя реформу нельзя было назвать полностью удачной, она серьезно изменила словарный запас языка.
Таким образом, насколько это было возможно, даже технические термины цивилизации, которые являлись принадлежностью скорее интернационального сообщества, чем культуры какого-либо народа, отныне передавались средствами турецкого языка, что как минимум облегчало их понимание и запоминание простыми людьми. Согласно стандартам, созданным Гёкальпом, язык нового цивилизационного наследства естественным образом вытесняет язык старого, следовательно, нет ничего удивительного в том, что на смену персидскому и персинизированному арабскому приходят французский и франконизированный латинский. В конечном итоге реформа дала свои результаты: население убедилось, что смена алфавита — это не просто временная мера нового правительства, но закономерное следствие всего процесса «вестернизации». Молодое поколение турок не могло больше оставаться в рамках старой письменной традиции, даже если она использовала новый алфавит.
Ататюрк посещает народный дом. Фото 1937 г.
В период всемирной депрессии, начавшийся в 1929 году, Кемаль прилагал особые усилия для индустриализации страны, частично, чтобы сделать ее менее экономически зависимой от импорта, частично для того, чтобы создать в Турции те же социальные институты, что и в странах Запада, что означало (вне зависимости от того, понимали это или нет) появление тех же экономических классов с такими же интересами, взглядами и образом жизни, что и в Европе. Ему как минимум удалось создать современную промышленность, которая изменила весь образ жизни турок. В абсолютных величинах рост промышленного производства в период правления Кемаля был относительно невелик, но по относительным показателям темпов роста Турция занимала третье место в мире после России и Японии. Значительно сложнее обстояло дело с другими институтами европейской социальной модели: гарантией прав личности, свободой критики действий правительства, которые связаны с наличием признаваемой независимой, но разумной политической оппозиции. Кемаль неоднократно утверждал, что Республиканская народная партия не претендует на роль единственной политической партии в стране, однако как только в обществе возникало какое-нибудь оппозиционное движение, его сразу же подавляли. Дело в том, что стремление народа восстановить старые османские порядки было слишком сильно, и любая оппозиционная партия в этих условиях стала бы орудием в руках тех, кто стремился уничтожить саму республику.
Однако к моменту смерти Кемаля в 1938 г. его принципы «кемализма» были широко популярны среди большей части образованной молодежи, которой и предстояло развивать и укреплять в турецком обществе современные социальные институты. В период его правления Турция дала четкий и недвусмысленный ответ на вопрос, что значит стать современными. В турецком случае это означало пройти весь процесс модернизации и вестернизации, чтобы стать частью Запада как любая другая европейская нация, разделяя все преимущества и недостатки такого положения. Характерно, что молодые турки, полностью ощущая себя европейцами, одно время даже задавались вопросом: а может ли Британия, будучи островным государством, претендовать на место в общеевропейском сообществе? После Второй мировой войны турки с готовностью присоединились к только что созданным европейским организациям (в частности к НАТО), и мы полагаем, что они сделали это не только для того, чтобы получить определенные преимущества в экономической и военной сфере, но также и для того, чтобы окончательно утвердить свой статус европейской державы.
Выживание ислама
Религиозное сознание как таковое почти не принимало участия в процессах модернизации. В период правления Ататюрка официальная позиция государства заключалась в том, что религия должна быть вестернизирована, как и все другие сферы общественной жизни. Государство должно стать фундаментом общества, а религия — частным делом каждого гражданина. Эта цель была достигнула отделением ислама от государства. Реформаторы надеялись, что современные граждане будут относиться к исламу по-европейски: другими словами, религия займет в обществе некую отведенную ей социальную и эмоциональную нишу, как это сделали современное католичество, протестантизм и иудейский реформизм. Правительство Кемаля предпринимало определенные шаги в этом направлении. Государство по-прежнему назначало имамов и муэдзинов в мечети, однако требовало, чтобы призывы на молитву были не на арабском, а на турецком языке. Этот закон, с одной стороны, призван был подчеркнуть освобождение от «чужеродных» религиозных традиций и отдавал дань современному рационализму, а с другой — указывал на явный разрыв с шариатом, даже в религиозной сфере, в пользу большей понятности службы для широкой публики. Данное требование исполнялось как минимум в присутствии представителей государственной власти, но для очень малого числа мусульман турецкие слова стали полноценной заменой арабским. (Много позднее, когда запрет был отменен, на смену турецкому языку вновь пришел арабский). Некоторые реформаторы предлагали видоизменить внешние формы религиозной жизни, надеясь, что такие внешние изменения повлекут за собой и более глубинные изменения в сознании верующих. В частности, они предлагали поставить в мечетях скамьи, сидя на которых верующие могли бы слушать проповедь муллы и не совершать ритуальных поклонов. Однако все эти проекты никогда не рассматривались всерьез. Ислам пошел по своему собственному пути: он полностью дистанцировался от государства и его политики, он не принимал никакого участия в процессах «вестернизации» и не подвергся сколько-нибудь существенному влиянию западной культуры.
Ислам должен был пройти тест на то, что случится, когда все традиционное наследие будет вестернизировано. Вестернизированный класс проводил реформы и менял основы общественной жизни. Модернизированный сектор повседневной жизни был представлен современными школами. Публичные школы стали оплотом тотального модернизма, жесткого национализма и отводили исламу минимальную роль в турецком культурном наследии. Преподававшие там учителя, как правило, выходцы из низших слоев и сельской местности, стали главными пропагандистами новых стандартов. Именно они, а также современные врачи и частично чиновники, с их связями с большими городами и правительством, стали той силой, которую нельзя было игнорировать. Однако, как правило, они оказывались в социальной изоляции. Спустя десятилетия после реформ, особенно в небольших деревнях, учитель часто испытывал конкуренцию со стороны имама и вел борьбу за то, чтобы деревенские дети в соответствии с законом ходили в его школу и получали современное образование вместо того, чтобы учиться в коранической школе, усваивая традиционные антигосударственные взгляды.
Кемаль Ататюрк
В процессе модернизации ислам заметно изменился, однако совсем не так, как хотели бы реформаторы. Общественная деятельность суфийских тарикатов была запрещена, как и открытая идентификация с ними, молитвы в мечетях продолжали совершаться, как и раньше, под патронажем государства. Оно всячески поощряло те формы религиозной жизни, которые оставались в рамках умеренного шариата (который имел долгую традицию сосуществования с государством), тогда как более непредсказуемые и личные аспекты ислама подвергались гонениям; имам в мечети должен был больше походить на лютеранского пастора, чем на странствующего дервиша, который в век, когда даже католические нищенствующие монахи перестали бродить по дорогам, скандализировал современную Турцию. Но даже шариатский ислам не внушал доверия людям, которые хотели перестроить страну на светской основе западных правовых и социальных образцов. Реформаторы закрывали школы медресе, полагая, что, когда существующее поколение вымрет, исчезнет необходимость в шариатском обучении, поскольку следующему поколению его нормы будут чужды. Хорошему проповеднику необязательно разбираться во всех тонкостях фикха или древних спорах о каламе. Однако население уважало имамов не за их государственный статус и способность запугать грешников муками ада, а за обширные, фундаментальные знания в области исламской теологии, которые можно было получить только в результате длительной и трудной учебы в медресе. В итоге доктрина умеренного шариата постепенно начинала терять свои позиции, поскольку имамы старого поколения не находили себе достойных преемников. Тем временем жесткие меры, принятые против суфийских тарикатов, оказались недостаточно эффективны. Запрет на их деятельность носил формальный характер, поскольку никто не мог помешать пиру общаться со своими друзьями и их детьми, а это означало, что мистическая традиция полностью сохранилась. Среди тех, кто относился к религии серьезно, суфизм по-преж-нему оставался достаточно влиятельным течением.
Мавзолей Ататюрка в Анкаре, Турция. Современное фото
Большинство населения, по-видимому, полагало, что реформы Ататюрка не направлены против ислама как такового. Закрытие медресе напрямую коснулось лишь представителей привилегированного сословия, а эти люди в любом случае предпочитали современные школы. Запрещение суфийских тарикатов было направлено не против суфизма как философского учения, но главным образом против тех коррумпированных представителей орденов, которые на публике всячески демонстрировали свою набожность, руководствуясь при этом сугубо корыстными интересами. Даже глубоко набожные люди, как показывает опыт, проявляли известный скептицизм, когда речь заходила о «святых», применительно к какому-либо дервишу или пиру. Мусульмане, хотя и считали несправедливостью гонения на все без исключения тарикаты, однако не могли не признать, что государство имело все основания принимать самые решительные меры против своих оппонентов. Некоторые мусульмане рассматривали гонения на ордены как попытку очистить ислам, хотя очищение они понимали несколько иначе, чем это представлялось Ататюрку. Сам Ататюрк, выигравший священный джихад против неверных греков, продолжал носить титул гази. Поэтому религиозные люди хоть и воспринимали его реформы болезненно, все же не рассматривали их как непосредственную угрозу религии (исключение составило лишь введение шляп с полями, в которых мусульмане не могли совершать молитву) и заняли выжидательную позицию, надеясь на наступление лучших времен.
В такой атмосфере шариатский ислам стал неуклонно терять своих последователей, а суфизм, напротив, все больше набирал силу. Один из членов радикального тариката Бекташийя написал книгу, ставшую популярной, в которой утверждал, что идеалы революции — равноправие и свободомыслие — являются главными целями ордена, поэтому в настоящее время Бекташийя уже не нужно создавать свою самостоятельную организацию. Однако большинство членов данного тариката не были согласны с этим утверждением. Мевлевийя объединял представителей высших классов, которые не выступали против модернизации и не стремились следовать нормам шариата, поэтому у ордена не было повода для разногласий с государственной властью. Его главный религиозный центр, гробница Руми и его учеников в городе Конья, была превращена в музей, где посетители под наздором представителей власти могли осмотреть реликвии дервишей. Но члены ордена, несмотря на технический запрет властей, продолжали совершать свои обряды (в том числе и ритуальные танцы) в частном порядке и распространяли свое учение среди ограниченного числа молодежи (спустя годы после смерти Ататюрка служители музея захотели воспроизвести церемонию Мевлевийя для привлечения туристов, нашлось множество молодых людей-добровольцев, которые прекрасно исполнили этот сложнейший танец). Таким образом, музей в Конья по-прежнему оставался священным местом не только для местного населения и многочисленных паломников, но и для самих смотрителей музея — нашивки с эмблемой Республики вовсе не мешали им проявлять свои религиозные чувства. Что же касается тарикатов Кадирийя и Накшбандийя, более тесно связанных с закостенелыми традициями шариата и старыми исламскими традициями, государство относилось к ним гораздо менее толерантно, но они полностью сохранили свои традиции. Когда после Второй мировой войны была объявлена свобода вероисповедания, оказалось, что живое исламское учение сохранилось главным образом в форме суфизма. Старые тарикаты пользовались большой популярностью среди тех классов мусульманского общества, которые безоговорочно принимали реформы Ататюрка, быстро появились новые тарикаты, которые успешно развивались, хотя и оставались нелегальными.
Но пир не может стать единственной основой ислама и заменить публичный медресе. Когда в стране вымерли все прошедшие обучение улемы, народный ислам лишился своей духовной опоры. Полностью стерлась грань между подлинно религиозными убеждениями и различного рода суевериями и предрассудками. Обычные люди вешали в автобусах и такси талисманы со священными изречениями на арабском, демонстрируя таким образом свое уважение к арабскому языку. Хотя с юридической точки зрения законным считался лишь тот брак, который зарегистрирован в официальных государственных учреждениях (заметим, что на востоке страны жители отдаленных горных районов в большинстве случаев игнорировали это требование властей), однако практически все считали настоящей свадьбой церемонию, проведенную имамом вне зависимости от того, насколько он разбирался в шариате. После Второй мировой войны даже самые преданные последователи Ататюр-ка поняли, что в стране необходимо возобновить официальное шариатское обучение, чтобы поставить религиозную жизнь под более рациональный контроль.
После окончания войны перед турецким обществом со всей остротой встал вопрос: а что же будет с исламом? Если в Магрибе тарикат оставался на консервативных и даже профранцузских позициях, то в Турции суфии возглавили религиозное движение, которое грозило отменить реформы Ататюрка. Это религиозное течение было слабее, чем некоторые, но все же являлось наиболее эмоционально обсуждаемой политическими партиями проблемой, хотя все стороны в теории поддерживали секуляризм Ататюрка. В любом случае секуляризм, предусматривавший полное отделение религии от государства, ни в коем случае не имел ничего общего с современной западной концепцией свободы вероисповедания, по которой все формы религиозных верований имели равные права. Как только в стране возобновилось официальное шариатское образование, стало понятно, что сторонники шариата могут ожидать той же степени толерантности со стороны правительства, которая была в Османской империи. Если тарикаты с уважением относились к шариату, то их запрет был вопросом исключительно государственной политики. Но некоторые шииты и сунниты требовали наложить запрет на шиитов, принадлежащих к батинизму (и не признававших нормы шариата), не потому, что эти люди представляли какую-то опасность для государства, а потому, что их доктрина не соответствовала шариату. В итоге наиболее обсуждаемым в обществе стал вопрос свободы вероисповедания, но с этой проблемой широкие слои общества не смогли познакомить ни государство Ататюрка, ни суфийские лидеры, хотя религиозная свобода является одним из обязательных элементов духовного роста, обуславливающего новую культуру модернизированных классов; духовные потребности, признанные большей частью модернизированного класса, являлись фундаментальными для основной части населения.
Переход от одного культурного наследия к другому не был настолько полным, как это может показаться. Например, даже в сознании убежденного националиста западное аграрное прошлое не могло затмить исламскую аграрную эпоху, которая была основой исторического величия Турции. Точно так же сложно было отказаться от ислама как личного религиозного опыта, поскольку на его основе была создана великая цивилизация. Все великие шедевры мусульманской духовности одновременно являлись шедеврами персидско-арабской литературной традиции. Часто случалось, что люди, которые более серьезно относились к духовной практике, оказывались сознательными противниками как минимум культурной политики кемализма. Многие кемалисты надеялись на подлинно турецкую «реформацию» ислама и на то, что это религиозное учение, освободившись от наиболее неприемлемых элементов старой традиции, станет не только современной, но и полностью западной религией. Подобные вопросы, связанные с религией, напрямую затрагивают самые сокровенные чувства людей, именно в человеческом сердце проходят проверку все религиозные и философские доктрины.
Временами решения Ататюрка могут показаться излишне осторожными. Многие кемалисты приходили в ужас, когда узнавали об очередной жестокой реакции народа на попытку вестернизации: так, в 1930 г. предводитель толпы застрелил и обезглавил офицера, пытавшегося остановить антиправительственную демонстрацию, а потом носил его отрубленную голову по улицам города. Но и сторонники Кемаля сами неоднократно проявляли нетерпимость во время войны, когда нацистская Германия оказалась на пике могущества: тогда был введен налог на капитал, вся тяжесть которого легла исключительно на предпринимателей-немусульман (но включая только тех иностранцев, которые были евреями и являлись подданными Германии или ее союзников). Не допускалось никаких отступлений от этого закона, никаких исключений для кого бы то ни было. Практически все подобные бизнесмены разорились, часто их арестовывали и отправляли на тяжелые работы, наказывая за то, что они были христианами или иудеями. Когда Германия начала проигрывать войну, все заключенные были освобождены.
Глава IV
Египет и страны арабского Востока: возрождение культурного наследия
В то время, когда в Западной Европе проходили Великие преобразования, арабы переживали наиболее глубокий культурный упадок по сравнению с другими значительными народами исламского мира. Более того, хотя власть в самых важных арабских странах, Сирии и Египте, перешла к людям, которые считали культуру османских турков на персидской основе своей, сами арабы не принимали активного участия в этом культурном процессе. Сформировалась тенденция, по которой чисто арабское образование ограничивалось исключительно религиозной культурой улемов или суфийских пиров. Во времена великих империй пороха творческая активность на арабских землях была довольно низка. Даже арабский язык, на котором ранее писали все серьезные научные работы, отныне использовался лишь в узких теологических целях. Над ним нависла угроза превратиться в мертвый язык, как это уже случилось в остальных мусульманских странах, где население уже давно не пользовалось им как главным носителем культуры. Любая письменная традиция с течением времени теряет свое былое значение, но в период позднего Средневековья большая часть научных и художественных произведений классического арабского периода (соответствовавшего эпохе высокого халифата) оказались недоступны и утрачены, как это случилось с классическим греческим наследием. Многие произведения гораздо легче можно было найти в Стамбуле, чем в Каире или Багдаде.
В то же время рост торговли на протяжении всего XVIII столетия был связан с христианами Средиземноморья, жившими в турецкой Османской империи, и эти христиане, как арабского, так и неарабского происхождения, развивали тесные связи с бурно развивавшейся западной культурой. Но арабы-мусульмане, в отличие от турок, не являлись для этих христиан правителями, скорее, наоборот: иностранцы (в том числе иудеи и арабы-христиане) занимали привилегированное положение. Таким образом, арабы-мусульмане оказались на задворках как исламского культурного процесса, так и процесса формирования современного общества. В то же время развитие или возрождение местной культуры в ответ на европейские вызовы сталкивались здесь с гораздо большими сложностями, чем в Турции и других мусульманских странах.
Несмотря на это, крупным центрам арабского Востока (за исключением Аравии и Магриба) удалось интегрироваться в международную европейскую систему гораздо сильнее, чем другим мусульманским регионам. В период правления Исмаила Каир превратился в современный европейский город, а восстание Ораби было проникнуто западным идеализмом. Тот Египет, о котором рассказывал Кромер, фактически являлся не просто колониальной экономикой, но вместе с Сирией стал авангардом модернизации. Отбросив свое прошлое и не черпая из него вдохновения, Египет стремился стать лидером модернизированного мусульманского сообщества. Но нигде больше настоятельная потребность отыскать исторические корни, на которых можно было построить современное национальное самосознание, не ощущалась так остро, как в Египте и Сирии.
Возрождение арабского мусульманского наследия: Мухаммад Абдо
У египтских арабов политическая власть европейцев вызывала гораздо больше негативных эмоций, чем у турок: они находились под прямой европейской оккупацией, унижаемые британским чувством превосходства, не всегда выраженного так деликатно, как это сделал лорд Кромер, и проявлявшегося ежедневно, по крайней мере у образованных классов. Кроме того, они ощущали угрозу оказаться в подчиненном положении даже среди других мусульман. В то же время египтяне, как и турки, с тревогой понимали необходимость принятия западной культуры. Одним из плодов британской заботы о свободе личности было то, что арабы в Египте могли намного более свободно обсуждать свои проблемы в печати, чем арабы под властью Абдул-Хамида. В конце XIX столетия в Египте, как и в Турции, резко увеличилось количество журналистов и прессы, но здесь они могли более свободно обсуждать проблемы мусульман в условиях модернизации.
В этих обстоятельствах предлагалось множество вариантов решения этих проблем, но наибольшей популярностью пользовались идеи возрождения в том или ином виде особого арабского наследия. Эта идея была популярна в Сирии, в частности в горах Ливана, где наряду с процветающим портом Бейрут проживало большое количество крестьян, исповедовавших христианство, и многие арабы-христиане получили образование в миссионерских школах. Эти люди были заинтересованы в сохранении арабского языка и изучении арабской истории.
Несмотря на то что это наследие было тесно связано с исламом, в указанный период оно полностью дистанцировалось от его турецкой разновидности. Арабский язык возрождался во всех без исключения мусульманских странах и вызывал большой интерес у западных ученых. Христиане, сохраняя экономическое лидерство среди арабов, с удовольствием принимали часть арабского наследия. В конце XIX века некоторые из них пытались, правда, без особого успеха, писать на арабском книги в строго западном стиле. Другие добились больших успехов, сознательно возрождая классический стиль эпохи Аббасидов, Насифа аль-Язиджи, который писал макамы в чистой манере, прямо подражая аль-Харири. Он стал образцом стиля для последующих литераторов. Таким образом, маленькая сирийская провинция Ливан стала центром арабского культурного возрождения.
За неимением достаточно подготовленных местных египетских арабов сирийские христиане, от всего сердца желавшие возродить арабскую литературу ради славы своего народа, заняли лидирующие позиции в арабской журналистике в Египте. Таким образом, чувство арабской самоидентичности получило строго литературную и классическую форму, выразившись в попытках возродить древнюю славу арабов, особенно классического периода Аббасидов, и противопоставив ее превалирующему турецко-персидскому окружению. Подобная ориентация встречала самую теплую поддержку у арабских мусульман Египта.
Однако среди мусульман тенденция к духовному возрождению включала не только литературное, но и религиозное величие арабского прошлого — раннюю историю ислама. Именно на арабском Востоке с особенной силой звучал призыв очистить и укрепить ислам как живое вероучение. Даже языковые формы мусульманского литературного возрождения в значительной мере были обусловлены желанием очистить ислам. В арабских странах уже существовали ваххабиты и некоторые другие политические движения, которые провозгласили своей главной целью очищение ислама от поздних наслоений. В такой обстановке короткий визит во время восстания Ораби в Египет персидского проповедника Афгани, выступавшего за возрождение исламского мира, вызвал бурную интеллектуальную и даже политическую реакцию. Самым влиятельным последователем Афгани в арабском мире был египетский ученый Мухаммад Абдо (1849–1905 гг.), который сотрудничал с ним в журнале «Аль-ур-ват аль-вуска»[415]. Афгани утверждал, что духовное возрождение каждой мусульманской нации есть неотъемлемая часть общего панисламского движения, в котором эти нации должны объединиться. Шейх Абдо, после того как получил прощение властей за участие в восстании Ораби и смог вернуться к своей деятельности в Египте, придерживался точно такой же политической доктрины, но целиком сосредоточился на египетских проблемах, подчеркивая необходимость народного просвещения и бережного пересмотра религиозной доктрины.
Прежде всего Мухаммад Абдо выступал против таклида (в том значении, которое это слово приобрело в XIX веке). По своему эффекту это было равноценно закрытию ворот иджтихада в шариате, которое произошло в позднем Средневековье. Под все возрастающим внешним напором на протяжении XVIII и XIX веков таклид (как духовное состояние, а не теологическая категория) превратился в сознательное отрицание любых чужеродных для мусульманской культуры элементов европейской цивилизации. Однако старый путь весьма сомнительно оправдывал себя исключительно святостью обычаев и традиций предков. Абдо категорически отверг такой подход. Некоторые египтяне, отвергнув таклид, пытались стать точной копией современных французов, но их отчаянные усилия вызывали лишь насмешку сторонних наблюдателей вроде Кромера. Сам Мухаммад Абдо с удовольствием посещал Европу, чтобы вернуть себе веру в человечество. Однако он категорически отвергал все западные нормы, которые не соответствовали его собственным жестким стандартам. Отвергая таклид и традицию, Абдо делал это в пользу не «вестернизации» ad libitum, но мусульманского иджтихада в самом широком смысле этого слова — свободы исследования в рамках первоначально установленных справедливых правил и нравственных норм ислама того, что является наилучшим здесь и сейчас. Абдо находился под сильным влиянием европейских философов и мыслителей, в особенности Конта, чей позитивизм возвысил научную объективность даже в анализе человеческой культуры и кто призывал создать новую религиозную систему, которая была бы основана на достижениях современной науки и отвечала бы всем потребностям человека. Но Абдо полагал, что именно ислам вполне может стать такой религиозной системой.
Мухаммад Абдо. Фото нач. XX в.
Его влияние во многом объяснялось личными моральными качествами: он яростно сражался со всякого рода предрассудками и коррупцией во имя честности и эффективности. Благодаря его усилиям в тех правительственных учреждениях, которыми он руководил, установилась атмосфера честности и личной ответственности. Он помог возродить традицию институциональной благотворительности, уничтоженной после того, как правительство секуляризировало вакфы, но на современной добровольной основе. Но даже подобные реформы Абдо стремился проводить не на британский, а на собственный мусульманский лад. Он вернул принципы иджтихада в мусульманское право, используя маслаха (соображение общего блага) как критерий для применения кияса, как это было разработано Ибн-Таймийя. Это был не просто отказ от адаптации европейских стандартов, но живое применение ислама; он настаивал на использовании этого принципа даже в судах, применяющих европейское право, утверждая право иджтихада и правомерности маслаха, несмотря на технические прецеденты. Таким образом, он даже европейскому праву придал дух ислама. Благодаря усилиям Абдо получившие европейское образование арабы вновь ощутили интерес к классическому ара-бомусульманскому наследию как законной альтернативной основе современного общества.
Он стремился раскрыть духовные ценности ислама мусульманам, получившим современное образование. Возможно, под влиянием своего персидского наставника Афгани Абдо рассматривал политику с позиций фальсафы, как это делал Ибн-Хальдун, но придавал исламу гораздо больше значения. Он разделял отношение Газали к Откровению и мусульманской общине, отвергая не только таклид, но и старый калам, опираясь на открытое свидетельство духовной чувствительности человека. Современную науку (уподобленную фальсафе) Абдо также трактовал в духе Газали, но он пошел гораздо дальше своего наставника: если газалиты утверждали, что человеческий разум может познать законы окружающего мира, то Абдо придерживался концепции мутазилитов, полагавших, что человеческий разум a priori способен отличать добро, то есть ту благодать, которая ниспослана ему Богом. Комментарии к Корану, написанные Абдо, представляют собой интерпретацию сакральных текстов в духе требований современной цивилизации. Он использовал старый метод би-ля кайф[416] по которому некоторые антропоморфные или другие сомнительные термины можно просто принять как данность, не размышляя об их значении. Вслед за аль-Шафии Абдо считал, что в любом случае значение слов является функцией современной ему арабской культуры. Это позволило ему достаточно смело утверждать, что арабское слово «джинны» могло на самом деле означать «микробы», и он не видел необходимости вводить некие радикально новые принципы, такие как общий принцип историко-культурной относительности, который может поставить под вопрос всю совокупность художественных приемов текстов. Таким образом, он допускал, что в классический период арабской культуры было создано все необходимое для адаптации современной науки и техники. Наконец, став главным муфтием Египта, как последняя инстанция в толковании шариата он аккуратно исполнял свои обязанности в рамках исторической традиции, стремясь укрепить те моральные устои, которые отличали мусульманское право в период его формирования.
В вопросах веры возвращение к традициям классического периода арабского ислама означало для него возврат к тому же периоду литературной традиции. Как и сирийские христиане, он стремился оживить старые, позабытые книги и вернуть арабскому языку его роль носителя культуры. Одним из главных достижений Абдо стала реформа исламского университета аль-Азхар, где готовили главных улемов арабского Востока. Эти реформы включали (что, пожалуй, было наиболее важно) изучение светской классической арабской литературы, а также некоторых современных западных научных дисциплин. Аодо поощрял развитие высококачественной современной журналистики, но настаивал на использовании классического арабского языка, сам подавая пример доступной арабской прозы, которая учитывала все древние грамматические и лексические формы.
Египетский и арабский национализм
Мухаммад Абдо (как и более ранние египетские реформаторы до него) горячо любил Египет как таковой. Его любовь к классическому арабскому наследию была большей частью выражением любви к арабскому Египту, как, вероятно, и его возрастающий под влиянием Афгани интерес к Дар-аль-Исламу. Однако в сфере практического национального строительства данные интересы не могли гармонично сочетаться. Дилемма заключалась в том, что преданность Египту, арабизму и исламу вступали в противоречие друг с другом. Это наглядно проявилось уже в первые десятилетия XX в., когда мировая гегемония Европы, воспетая Кромером, впервые оказалась под сомнением.
В отличие от осторожного Мухаммада Абдо, который признавал временную пользу британских реформаторов, группа, собравшаяся вокруг Мустафы Камиля, считала необходимым продолжить дело Ораби, изгнать англичан и создать конституционное правительство, основанное на сотрудничестве мусульман и арабов-христиан. После поражения в 1905 г. России в войне с Японией (которую расценили как победу «Востока» над «Европой») во многих мусульманских странах начал набирать силу национализм. Затем в 1906 г. произошел инцидент, который обеспечил группе Мустафы Камиля широкую популярность в Египте. Несколько британских офицеров начали стрелять по голубям, в результате произошла стычка с крестьянами, которым принадлежали эти птицы, один крестьянин и офицер погибли. В ответ правительство повесило нескольких крестьян, а всех остальных подвергло жестокому наказанию. Египтяне были шокированы тем, что британцы ведут себя ничуть не лучше любого восточного деспота, и многие пришли к выводу, что способны самостоятельно провести реформы без надзора со стороны Великобритании. Дело кончилось тем, что была сформирована национальная партия. Одновременно кризис на международном рынке, включая и рынок хлопка, серьезно ударил по экономическому положению страны. К 1913 г. Совещательная палата Египта превратилась в место жарких политических споров, где политические партии обсуждали и принимали решения, востребованные обществом.
Саад Загхолул. Фото 1926 г.
В войне 1914 года Великобритания использовала Египет как бастион в борьбе с Османской империей. Египтяне больше сочувствовали мусульманской империи, частью которой они номинально являлись, чем христианской империи, которая имела над ними реальную власть. С другой стороны, многие арабы в османских провинциях после революции младотурок в 1908 г. стали беспокоиться за свое будущее. К тому времени литературное возрождение, которое начали сирийские христиане, уже встретило широкую поддержку среди образованных мусульман, особенно в Сирии, которые по примеру Египта подхватили идею арабского величия, связанного с эпохой Аббасидов. Поскольку образованные классы состояли главным образом из семей улемов, они сохраняли лояльность Османской империи. Они выступали за такую форму децентрализации империи, которая предусматривала бы равные права для арабского и турецкого языков как языков образования и управления; возможно, в виде арабо-турецкой федерации по примеру Австро-Венгрии. Но младотурки жестоко подавляли подобные дискуссии, что заставило активистов создавать тайные общества как в армии, так и вне ее, целью которых стала независимость арабского народа. Война предоставила им такую возможность: в 1916 г. они уговорили шерифа Мекки, главу арабского клана, который правил Святыми городами как представитель султана, но был от него независим, заключить союз с Великобританией, которая пообещала предоставить арабам независимость, и поднять арабское восстание против османов в Хиджазе.
Король Фейсал. Почтовая открытка 1920 г.
Война оказалась тяжелым испытанием для всех. В Египте концентрация на выращивании хлопка для британского рынка из-за перебоев с поставками продовольствия поставила страну на грань голода. В Сирии война также привела к голоду, отягощенному жестокими репрессиями младотурок против арабов. Восстание арабов в Хиджазе в 1917–1918 гг. серьезно повысило доверие сирийцев к британцам, что позволило им оккупировать Дамаск, где сын шерифа Фейсал, к огромной радости всех сирийцев, был провозглашен королем. Окончание войны с ее жертвами и разрушениями повсюду воспринималось как начало новой эры освобождения. В Западной Европе население с большим воодушевлением ожидало демократизации и свободы, сходные настроения стали распространяться и среди арабов. Однако британское правительство имело более консервативные планы. После распада системы Европейского концерта, когда европейские страны стали сражаться друг с другом, развалилась и система совместного европейского контроля, которая наиболее ярко проявилась в Османской империи. Но державы-победительницы не желали положить конец европейской гегемонии, они просто хотели изменить ее в свою пользу. Они договорились, что все важные территории, по крайней мере косвенно, будут находиться под контролем той или иной державы-победительницы, и разделили завоеванные области на сферы влияния. Государства арабов, если таковые появятся, должны были стать частью этой схемы.
Победители решили, что на арабском Востоке Великобритания сохранит за собой Египет и Нильский Судан. Египет с Суэцким каналом являлся главной транспортной артерией, которая связывала британцев с их владениями в Индии. К Франции отошла центральная и северная части Сирии, где они ранее создали растущую сеть католических миссий (особенно в Айване), которые в эпоху Османской империи находились под французским протекторатом. Британцы взяли себе Ирак, так как Персидский залив имел важное стратегическое значение для защиты Индии, кроме того, в этом регионе имелись большие запасы нефти. Британия и Франция поделили между собой Джазиру. Англичане уже контролировали города-государства на восточном и южном побережьях Аравийского полуострова и вели переговоры с шерифом Мекки относительно включения в сферу их влияния всей Аравии, за исключением Йеменского побережья Красного моря, где имели интересы итальянцы. Было заранее решено, что Южная Сирия (Палестина) переходит под международный контроль. Однако, после того как во время войны Россия рухнула под ударами революции, британцы пообещали передать Палестину сионистам (еврейскому национальному движению) для создания еврейского государства на библейской земле, куда могли бы переселиться евреи-иммигранты, желавшие покинуть христианскую Европу
Раскрытие этих планов по разделу территорий, которые хранились в строгом секрете, шокировало не только арабов, но и американцев, которые, вступая в войну на стороне Великобритании и Франции, предполагали, что их победа будет означать триумф демократии и установление долгожданного мира на основе права наций на самоопределение. Однако американцы были удовлетворены, когда на Парижской мирной конференции система Европейского концерта была заменена на Лигу Наций, в которую все независимые неевропейские государства могли вступить на равных с европейскими державами условиях; и когда сферы влияния в завоеванных странах были объявлены временной мерой покровительства под мандатом Лиги Наций, которое Великобритания и Франция будут осуществлять с целью предоставления ранее угнетенным народам независимости. (Многие американцы полагали, что существует множество наций, которые пока не готовы самостоятельно управлять своими государствами, но после периода патронажа со стороны более развитых стран они смогут стать полноправными членами западной международной системы.) Американцы были уверены, что такое положение вещей — временное явление в международной жизни.
Большинство арабов надеялись на поддержку американцев. Король Сирии Фейсал приехал в Париж, чтобы обратиться к мировому сообществу с требованием избавить страну от французской оккупации в соответствии с правом наций на самоопределение; население Сирии, особенно в Палестине, четко заявило представителям американской миссии, что не только не отдаст свою страну ни англичанам, ни французам, но и не позволит превратить какую-либо часть Сирии в еврейское государство, где арабское население окажется иностранцами. Однако британские и французские войска продолжали оккупировать земли Плодородного полумесяца, французы подавили активное сопротивление арабов в Дамаске, а англичане столкнулись с открытым восстанием в Ираке, которое смогли усмирить с большим трудом. В Египте Мустафа Камиль умер еще до начала войны, и созданная им партия распалась, но уже в ходе войны сторонники Мухаммада Абдо, который не стал возглавлять их партию, перешли на позиции национализма и после окончания войны также выступили с требованием предоставить Египту независимость. Официальное египетское правительство было бессильно, и Саад Загхолул, близкий ученик Мухаммада Абдо и самого Афгани, прославившийся как главный реформатор в правительстве, сформировал неофициальную делегацию Египта, которая представляла страну на Парижской конференции, названную Вафд («Делегация»). В 1919 г. британцы арестовали всех членов делегации, что вызвало волну протеста и забастовок по всем городам и деревням Египта, и англичане оказались отрезанными в Каире. В Египте началось открытое восстание. Чтобы восстановить в стране порядок, власти освободили делегатов и разрешили им отбыть в Париж, однако они ничего там не добились.
Затем последовал период мирного урегулирования, в ходе которого англичане и французы попытались установить в арабских странах некое подобие независимости или хотя бы частичного самоуправления. В 1921 г. британцы сделали изгнанного из Сирии Фейсала королем Ирака на условиях, что он сохраняет британский контроль над страной. Это не успокоило иракцев, и в 1932 г. после окончания мандата Ирак получил независимость и стал членом Лиги Наций, но за это пришлось заплатить договором, по которому Великобритания оставляла в стране свои гарнизоны и в расплывчатых формулировках сохраняла здесь свою высшую власть. В Египте перед лицом требований Вафда оставить Египет и Нильский Судан, который они считали египетским, англичане отказались отдать Судан египтянам и в 1922 г. попытались уладить этот вопрос, предоставив Египту ограниченный суверенитет в виде султаната династии Мухаммада-Али под британской оккупацией. Но египтяне продолжали поддерживать Вафд, который с большим перевесом побеждал на всех выборах, проводившихся на основе всеобщего избирательного права, хотя британское вмешательство и королевские интриги, как правило, не давали партии сформировать парламентское правительство. Только в 1936 г. был подписан аналогичный иракскому договор, по которому Великобритания оставляла войска в зоне Суэцкого канала, Судан переходил под совместное управление, а Египет вступал в Лигу Наций. Франция пыталась проводить сходную политику в своей части Сирии, разделив страну на несколько государств, которые воевали друг с другом, и столкнулась с несколькими кровавыми восстаниями. Французы отделили развитый Ливан (рассчитывая, что христианское большинство будет сохранять лояльность Франции) от остальной части Северной Сирии, и в 1936 г. также подписали соглашения с этими новыми государствами, которые вступили в силу только в 1939 году. Но тут началась Вторая мировая война. Только после ее окончания Великобритания заставила Францию предоставить независимость Великому Ливану и «усеченному» Сирийскому государству. Палестина, за исключением территории к востоку от Иордана (которая стала независимым эмиратом), несмотря на возражения арабов, оставалась под прямым британским правлением.
Король Фарук. Фото 1930 г.
На Аравийском полуострове Великобритания по-прежнему удерживала в своих руках контроль над расположенными на побережье городами-государствами, но разорвала отношения с шерифом Мекки, когда он отказался подписать мирный договор на ее условиях; другой британский протеже, Абдаль Азиз Ибн-Сауд, стремившийся возродить государство ваххабитов на землях Саудитов в Центральной Аравии, с их согласия занял святые города и создал новое Саудитское государство, которое занимало большую часть полуострова. Правление ваххабитов, несмотря на жестокие преследования шиитов в Восточной Аравии, в целом было намного умереннее, чем его предшественников в Хиджазе столетия назад, и потому очень скоро было признано как законное и уважаемое мусульманское правительство всеми суннитами. В Йемене шиитская секта зейдитов, неоднократно поднимавшая восстания против Османской империи, создала в горах собственное государство, во главе которого стоял имам.
Моральные последствия описанных выше конфликтов были двоякими. С одной стороны, Плодородный полумесяц был поделен европейцами на искусственные политические образования; арабские территории Османской империи, не считая Египта, были разбиты на несколько частей, границы между которыми были очерчены весьма произвольно, за исключением деления Сирии на четыре части, в большинстве случаев они имели под собой хотя бы естественную природную основу. С другой стороны, те нелегкие испытания, которые выпали на долю арабов, пробудили их национальное самосознание: мусульмане и христиане ощущали себя единой нацией и вместе ненавидели англичан и французов. В Ираке, и особенно в Египте, подъем арабского патриотизма был связан с созданием королевств (хотя это не распространялось на правившие там династии); но во многих странах, включая Ирак, и особенно в сирийских государствах, за исключением христиан в Айване, огромная масса арабоязычного населения не могла совместить свое национальное самосознание с возникшими государственными образованиями, особенно в результате англо-французского разделения Сирии. В любом случае после окончательного разрыва с Турцией и сплочения различных сект на почве ненависти к иностранному правлению широкие исламские настроения, распространенные среди мусульман, стали тормозом на пути к общей цели.
Трансформация сельского хозяйства
Политическая жизнь между войнами находилась в застойном, за исключением отдельных вспышек насилия, и патовом состоянии. Политическая власть была преимущественно в руках крупных землевладельцев. Несмотря на общее мнение, что все основополагающие решения принимают англичане и французы, невзирая на мнения арабов, различия между политическими партиями сводились главным образом не к программам, а к лидерам. В атмосфере фрустрации среди большей части политиков расцвела коррупция. Так произошло в Египте с партией Вафд после смерти Загхолула. В 1928 г. его преемник на посту лидера Вафд оказался замешанным в скандале из-за связей с двором, и, поскольку до подписания договора 1936 года главной опорой партии были крестьяне, на следующих выборах она потеряла большое число голосов. Но коррупция процветала и в рядах политических конкурентов. В Ираке все большей популярностью пользовался Нури Саид, руководитель восстания против турок, друг Великобритании и апостол реформ «сверху», который отличался личной неподкупностью, что позволило ему пережить многих более могущественных политических оппонентов. Его личное влияние, которое он мог оказывать в течение всей Второй мировой войны и вплоть до 1958 года, помогло несколько ограничить коррупцию, но он опирался главным образом на привилегированные сословия, и это обстоятельство делало его весьма непопулярным в среде крайних националистов. Люди горячо интересовались политикой, но деятельность самих политиков не приносила сколько-нибудь ощутимых результатов.
Многие арабские реформаторы понимали, что современная экономика является важнейшей составляющей государства европейского образца и (как младотурки и Ататюрк) стремились развивать в своих странах современную промышленность. В межвоенный период в Сирии, и особенно в Египте, значительно увеличилось количество подобных предприятий; особенно бурно развивалась текстильная промышленность и переработка сырья. В Египте новую промышленность и новые египетские банки развивали главным образом последователи Мухаммада Абдо, сознательно помогая национальному возрождению. Новые предприятия увеличивали долю промышленности в национальном продукте, частично компенсируя развал ремесленного производства в XIX веке. Однако количество семей, напрямую вовлеченных в этот процесс, было очень мало, рост численности промышленных рабочих шел медленнее, чем общий рост населения. Это население стекалось в города, где занималось неквалифицированным трудом, уличной торговлей либо (после мирового финансового кризиса в 1930 г.) вовсе оказалось безработным и жило случайными заработками либо за счет родственников.
Таким образом, сельское население, обрабатывавшее землю, и сельские торговцы составляли основную массу населения страны, даже те, кто уходил в город в поисках работы, сохраняли свои корни, не теряли связь с родной деревней и возвращались туда по праздникам или в старости. Эта тенденция сильнее ощущалась в Египте, где различия между городом и деревней проступали особенно ярко. В отличие от космополитичного, левантийского характера египетских городов, наполовину греческих, наполовину итальянских и турецких, сельское население оставалось относительно гомогенным, и даже когда деревенские жители переселялись в город, они не чувствовали там себя дома. Эффективность модернизации Египта зависела от модернизации деревни, поскольку только сельские жители могли превратить египтян в современную нацию. Реформаторам пришлось обратить внимание на деревню и попытаться понять, каково ее место в современном обществе.
Еще до начала XIX в. жизнь египетских крестьян претерпела изменения. Новые культуры, например маис, новые радости, такие как кофе, и прежде всего новые религиозные образцы, не только ислам как таковой, но в первую очередь суфийские тарикаты с их популярными зирками и рост народного уважения к знатокам шариата, получившим образование в медресе аль-Азхар, коренным образом психически и морально переменили сельскую жизнь[417]. Но в начале XIX столетия изменения затронули основу отношения крестьян к земле. Произвол и насилие Мухаммада-Али запомнились больше, чем осуществленные им фундаментальные перемены — коммерциализация сельского хозяйства и развитие ирригационных систем. Однако именно он начал процесс индивидуализации крестьянского труда и распада деревенской автономии, которая выразилась в установлении прямых отношений между деревней и финансовыми органами, несмотря на проявившуюся уже в его время тенденцию возродить систему икта, что позволило во время правления Саида юридически закрепить право частной собственности на землю[418]. В период правления Исмаила основной сельскохозяйственной культурой стал хлопок, и цена на него в Европе в значительной степени определяла благосостояние Египта. Переход от разливов на систему постоянной ирригации был серьезным прогрессом. В конце концов свободной земли не осталось: старая проблема нехватки рабочих рук исчезла с ростом численности населения, которое заняло все пригодные территории. Под «вестернизированным» правлением эти перемены привели к введению частной собственности, а это означало, что все вопросы, связанные с землевладением, отныне решались в ходе индивидуального юридического процесса в гражданском суде, а не как внутреннее дело каждой деревни. Начиная с 1858 года в этих судах стали рассматривать землю как объект собственности. Таким образом, была окончательно уничтожена коллективная ответственность деревни (за исключением барщины, на которую теперь могли отправить только англичане), и каждый крестьянин отныне нес ответственность за свой участок земли и свои налоги напрямую перед правительством. В таких обстоятельствах уже по времена Исмаила начал расти класс крупных собственников, живших в городах и получивших землю не от правительства (как это было раньше), а приобретших ее у других собственников, и, что даже более важно, новый класс промежуточных собственников, состоявший из зажиточных крестьянских семей, которые отличались от остальных крестьян не только степенью своего материального благосостояния; из их среды правительство назначало умда — сельских старост, их дети, как правило, уезжали в город и становились государственными служащими. Однако в городах влияние современной цивилизации ощущалось гораздо сильнее, и традиционный культурный разрыв между городом и деревней стал еще более ощутимым.
В период правления Исмаила в обществе стали нарастать социальные противоречия. Ранее из-за дефицита рабочей силы власти старались привязать крестьян к земле, теперь же численность населения резко возросла, и в стране стала ощущаться нехватка земли, которая стала самым драгоценным достоянием крестьянина. Благодаря массовому строительству ирригационных сооружений во времена Саида эта проблема временно смягчилась, поскольку в конце столетия орошение увеличило урожайность земель в два-три раза. Но возможности ирригации были не безграничны, и когда население вновь выросло, она не могла увеличить урожайность еще в два раза. Кроме того, постоянное орошение изменило распределение плодородного нильского ила и не давала земле достаточно времени на восстановление, в результате знаменитые своим плодородием пашни Египта постепенно теряли свои ценные свойства. Чтобы сохранить плодородие почвы, крестьяне удобряли ее навозом, но ничего не могли сделать с паразитическими заболеваниями, которыми страдали прежде всего мужчины, постоянно работавшие, стоя в воде. Относительное процветание деревни, ставшее результатом новой аграрной политики и постоянно отмечавшееся во время британского правления, пошло на спад.
В XX столетии нагрузка на сельскохозяйственные угодья многократно возросла; древняя проблема бедности вновь встала с чрезвычайной остротой. Одновременно те же силы, которые вызвали дисбаланс в деревне, начали ликвидировать ее отставание от города, но в иной форме. Даже возросшая нагрузка на землю стала еще одним побудительным мотивом. Чтобы содержать семью, необходимо было иметь в среднем не менее двух акров земли. Когда земля стала сосредотачиваться в руках крупных землевладельцев, большая часть крестьян стали безземельными батраками в их хозяйствах, иногда создавая временные поселения, на которые не распространялись социальные гарантии и связи деревни, или время от времени нанимаясь к мелким хозяевам. Многие имели настолько маленький участок земли, что не могли с него прокормиться. Даже вне зависимости от концентрации земли, в межвоенный период население увеличилось настолько, что земля уже не могла прокормить всех. Многие крестьяне оказались «лишним ртом» в своей семье, вынуждены были уехать в города и занялись неквалифицированным трудом. Но они сохраняли контакты с деревней и иногда возвращались домой.
Внедрением в деревне новых технических образцов, которые вели к распаду ее гомогенности и изоляции от города, иногда занимались разбогатевшие бедняки, вернувшиеся из городов, но, как правило, этим занимались богатые крестьяне из прослойки умда. Уже перед началом Первой мировой войны система круглогодичной ирригации разрушила старые общинные образцы водопользования. Каждая семья старалась установить на оросительных каналах, которые не бывали переполнены, свои собственные помпы. У богатых семей была возможность поставить их в самых удобных с точки зрения ирригации местах. В межвоенный период на рынке появились новые, более совершенные помпы, которые стоили дороже, и пропасть между богатыми и бедными стала еще шире. В то же время кооперация с целью помола зерна, для которого на равных соседских началах объединялись несколько семей и семейных групп, позволила создать относительно механизированные частные пекарни, которые выпускали дешевую продукцию и способствовали формированию класса сельскохозяйственных предпринимателей.
Начало распада сельской общины
В результате подобных изменений те формы общественных отношений, которые были характерны для сельской общины, постепенно уступали место образцам, заимствованным из города, в которых главное место занимала нуклеарная семья, а свойственная деревенской жизни солидарность не имела решающего значения. Еще в XIX веке в меню крестьянина появились новые виды овощей. Широкое распространение получили картофель и помидоры, увеличилось потребление риса, зерновых культур, мяса, в то же время многие традиционные рецепты деревенской кухни оказались практически забытыми. Сельские жители стали одеваться гораздо элегантнее, хотя покрой одежды не претерпел существенных изменений. С пятидесятых годов мужчины начали чаще носить нижнее белье, платья женщин стали плотнее прилегать к телу, практически все стали носить обувь (как защиту от инфекционных заболеваний). Состоятельные крестьяне строили себе хорошие дома, часто такие дома имели второй этаж. Мебель стала играть очень важную роль и при формировании приданого девушек приобрела даже большее значение, чем ювелирные украшения.
Большинство сельских жителей сохраняли верность исламу и связанным с ним деревенским предрассудкам, но их религиозные предпочтения изменились. Интерес к суфийским тарикатам упал. Местные святые по-прежнему оставались объектом ревностного поклонения, но функционирующие братства, совершавшие зикры, почти исчезли. Подобные изменения отражали не только рост популярности религиозных братств на пуританской основе, но и общее настроение выпускников аль-Азхара, которые для деревенских жителей оставались непререкаемым интеллектуальным авторитетом. На протяжении XIX века они целенаправленно боролись с тарикатами, подчеркивая шариатскую сторону ислама. Сначала в городах, а потом и в деревнях стали исчезать все обряды, отступающие от норм шариата, например ритуальные оплакивания умерших. Это означало отход от коллективных выражений чувств, а когда эмоции вытесняют из религии, они находят себе выход в политике. Со времен националистического движения Мустафы Камиля крестьяне понимали, что политические действия городских лидеров могут быть направлены на удовлетворение их крестьянских нужд. В 1919 г. крестьяне принимали активное участие в противостоянии англичанам, в 20-е годы поддержка партии Вафд была повсеместной, а после того, как в 1936 г. она дискредитировала себя в их глазах, свой шанс получили менее крупные политические партии. Таким образом, национальные политические партии, частично связанные с местными межклановыми противоречиями, поглощали бурные страсти фрустрированных крестьян, даже если против этого выступали улемы.
Возможно, самым серьезным последствием все возрастающей коммерциализации сельской жизни стало исчезновение всего, что давало крестьянину персональное чувство сопричасности к большой общине. Рост численности населения приводил не к строительству новых деревень, а к чрезмерному расширению старых (появились селения, в которых на прежних сельхозугодиях проживали 15 тыс. и более человек). Более того, изменилась и планировка улиц: на смену узеньким улочкам и маленьким тупичкам пришли прямые, широкие улицы, и у каждой семьи появилось свое личное пространство. В то же время в сельской местности практически не осталось пустующих земель. Традиционные сельские обряды, для проведения которых требовалось открытое пространство, отныне проводились не за пределами деревни, а на ее улицах. Тесно сплоченные группы соседних семей начали распадаться: построенные на городской лад широкие улицы разрубили эти связи, и старые влиятельные семьи (как правило, разорившиеся в 20-е годы) больше не обладали прежним влиянием и властью. Раньше мужчины, входившие в эти семейные группы, часто собирались на совместные трапезы, теперь они предпочитали есть дома в кругу собственной нуклеарной семьи, любуясь своей новой мебелью. Для более амбициозных аль-Азхар со своими связями со старыми деревенскими кланами давал возможность карьеры во многих светских областях, причем профессиональные достижения отныне рассматривались не как семейный, но как личный успех. Даже сельский поэт, который пел (причем часто очень хорошо) на всех значимых событиях, включая свадьбы, похороны или военное сражение, был заменен безличным, универсальным и часто политизированным радио.
В межвоенный период резко увеличилось потребление очень крепко заваренного чая[419] по сравнению с менее сильным кофе. Эксперты утверждают, что неумеренное потребление чая самыми бедными слоями не только подрывало семейный бюджет, но и имело серьезные последствия для здоровья; появились нравоучительные истории о тех бедняках, которые из-за пагубного пристрастия лишились своего клочка земли. В то же время намного более опасный гашиш, который долгое время употреблял только весьма ограниченный круг горожан, теперь, несмотря на все попытки правительства, получил самое широкое распространение в деревне, без него не обходилось ни одно застолье зажиточных мужчин.
Перед началом Второй мировой войны интеллигенция начала искать те методы, при помощи которых можно было бы коренным образом преобразовать весь жизненный уклад деревни. В XIX веке реформаторы ввели в стране французскую правовую систему, в частности и гарантии прав личности, однако они не распространялись на крестьян, которые часто становились жертвами несправедливости. Реальные улучшения должны были изменить деревенскую жизнь. На столе крестьянина появились новые блюда (картофель, помидоры, зерновые культуры), но основы его жизни практически не изменились. Улучшения должны были стать более фундаментальными. Требовалось нечто большее, чем начальные школы, в которых крестьяне изучали алфавит, чтобы вскоре забыть его за ненадобностью. Нужна была комплексная программа, сочетавшая школьную программу с нуждами крестьян, создание больниц и профилактические мероприятия, такие как обеспечение чистой водой, обучение новым методам земледелия, создание центра для обучения взрослых и совместные действия по изменению взглядов скептически настроенных и пассивных крестьян. Деревня сопротивлялась любым переменам, поскольку веками привыкла обоснованно видеть в государстве своего главного врага, который хочет увеличить производительность труда только для того, чтобы забрать все себе. Чтобы подобная комплексная программа была эффективной, необходимо было привлечь к ней молодежь, получившую достаточное городское образование, чтобы понять все потребности, и обладавшую энтузиазмом, способным победить предрассудки. Люди с подобными качествами были достаточно редки: очень часто посылаемые правительством в деревню судьи, врачи и учителя сталкивались с молчаливым сопротивлением крестьянства и, избавившись от идеализма, начинали исполнять свои обязанности, как можно меньше утруждаясь и извлекая как можно больший доход[420]. Результатом стала общая фрустрация среди тех, на кого были возложены надежды по улучшению жизни крестьян.
Реформы и национальная культура
Чтобы решить эту нелегкую задачу, требовалась подлинная одержимость, которую можно было встретить в среде христианских миссионеров и коммунистических пропагандистов: требовалось чувство миссии, основанной на четкой идее о том, как должна выглядеть нация, некий вид идеологии, которая бы выработала определенное отношение, позитивное или негативное, к культурному наследию прошлого и его идеалам. Подобная культурная ориентация была равно необходима и тем молодым людям, которые приезжали работать в деревню, и самим крестьянам, чья местная основа миропонимания была подорвана. В сложившейся исторической ситуации на первый план должна была выйти некая националистическая идея, которая бы обеспечила национализму культурную составляющую.
Ататюрк предложил туркам самое простое и очевидное решение проблемы. Турки считали, что для эффективнй интеграции в современный мир нужно целиком и полностью принять образцы людей, его создавших, и воплотить их наилучшим образом. Народ должен был вестернизироваться так, чтобы стать частью Запада. Но было не совсем понятно, является ли это решение полностью адекватным для самой Турции. Население Турции было бедно, но, в отличие от Египта, не возникало проблемы перенаселенности, к тому же население было значительно более однородным по своему составу. В более напряженной ситуации в Египте трудности полной вестернизации проявились намного быстрее. Тем не менее даже сельские жители прекрасно осознавали невозможность культурного строительства на старой основе. Крестьяне расстались с прежними обычаями и ничуть об этом не жалели.
Во времена Мухаммада Абдо интеллигенция разделилась на два лагеря. Увенчанные тюрбанами традиционные улемы, типичным образчиком которых стали шейхи аль-Азхара, олицетворяли культурную традицию прошлого. Те, кто носил феску, которою Махмуд II превратил в символ «вестернизированной» элиты — журналисты и выпускники современных школ, — являли собой образец «вестернизации». Как правило, последователи Мухаммада Абдо относились преимущественно ко второму лагерю, но они видели свою задачу не столько в «вестернизации», сколько в строительстве современного общества на основе традиционных ценностей: они желали реформировать арабомусульманское общество на основе идеалов эпохи Аббасидов. Но даже среди них не было единства.
Часть последователей Мухаммада Абдо возглавила общественное движение, которое очень быстро завоевало популярность во всех арабских странах, и даже в Малайзии (мы имеем в виду салафизм). В движении салафитов принимали участие те улемы, которые хотели очистить шариатский ислам от традиций суфизма и других местных предрассудков. Для пропаганды своего учения они пользовались всеми достижениями современной цивилизации; в частности, они активно использовали прессу, у них были свои первичные организации, которые выполняли всю необходимую техническую работу. Многие салафиты полагали, что единственной по-настоящему эффективной формой социального устройства является единое исламское государство, при этом арабов они рассматривали как наследников самого пророка Мухаммада, своего рода элиту всего мусульманского сообщества. Арабский язык, полагали салафиты, должен стать официальным языком панарабистского национализма на мусульманской основе. Однако они отрицали любые радикальные действия. Салафиты были близки движению ваххабитов в Аравии, в его более мягкой форме XX века, призывавших возродить чистые нормы шариата при помощи современных технологий, но с минимальным проникновением современных идей в человеческие взаимоотношения. Под влиянием потребностей межконфессионального арабизма и социальной напряженности в Египте в межвоенный период подобные идеи теряли свою популярность.
Религиозная процессия в Каире. Фото нач. XX в.
С другой стороны, многие последователи Мухаммада Абдо были настолько поглощены идеей социальных реформ в современном западном понимании этого слова и европеизации, что свели до минимума значение древней арабской культуры, и даже ислама. Касим Амин возглавил политическое движение за равноправие женщин из высшего сословия, утверждая, что женщины могут играть в обществе такую же важную роль, как и мужчины.
Когда его первые достаточно мягкие критические высказывания были восприняты как неслыханная ересь, он написал намного более радикальную книгу, в которой утверждал, что уровень культурного развития той или иной нации напрямую зависит от того, насколько высок уровень культурного развития ее женщин, которые учат детей и делают человечными мужчин. Он зашел настолько далеко, что заявил о превосходстве современной западной культуры над арабской культурой классического периода, хотя бы в этом отношении. Книга подверглась ожесточенным нападкам со стороны оппонентов. Тем не менее в межвоенный период феминизм обретал все большую популярность в Западной Европе, и некоторые египтянки, в том числе принимавшие участие в европейских конференциях феминисток, вернувшись домой, стали появляться в обществе с открытым лицом. Некоторые женщины из высших слоев общества стали приобретать профессии, которые ранее считались «мужскими», и принимали активное участие в общественной жизни.
В сельской местности, где женщины и так ходили с открытым лицом, идеи феминизма не получили столь широкого распространения. В данной исторической ситуации главный вопрос заключался в следующем: какие именно культурные традиции станут основой общественной жизни Египта, причем Египта аграрного? Решающее слово при этом все же оставалось за крупными городами. В условиях политического застоя все общественные дискуссии проходили главным образом в литературных произведениях. В литературе, как и в обществе в целом, происходило противостояние старого и нового: старые художественные формы уже не отвечали потребностям современной цивилизации, а новые еще не успели сформироваться, так как ни писатели, ни читатели не готовы были принять их. Если реформа и возрождение старого наследия рассматривались как приемлемое видение будущего, необходимо было договориться об общей культурной среде. Если возрождение арабской общности должно было избавить их сознание от деления на секты и по конфессиональному признаку, возрождение литературной традиции в самом широком смысле этого слова имело для всего арабского мира гораздо более важное значение, чем даже возрождение ислама как религиозного учения: посредством литературы арабы-христиане и арабы-иудеи участвовали в процессе национального возрождения наряду с мусульманами. Следует, однако, заметить, что классическая арабская литература едва ли могла стать фундаментом культурной жизни нового общества — непреодолимые противоречия возникали уже на уровне языка, не говоря уже о таких глубинных уровнях, как жанр и литературная форма.
Модернизация фусха
Даже в странах Западной Европы в XIX веке, когда участие широких масс в высокой урбанистической культуре стало требованием нового индустриального образа жизни, язык стал подвергаться сознательному упрощению и очищаться от иностранных заимствований (например, латинизмов в английском языке). Каждой нации, живущей независимой государственной жизнью, требовался стандартный литературный язык, который был бы максимально приближен к простому разговорному языку. Литературный язык аграрной эпохи отличался невероятно сложными, изысканными формами; чтобы овладеть этим языком даже привилегированному меньшинству требовались долгие годы. Теперь же литература должна была использовать простой разговорный язык народа. Не только крупные национальные языки, которые давно использовались для общих целей, вытеснили латынь из системы образования, некоторые писатели-патриоты пытались возвести в ранг литературного языка даже некоторые местные диалекты.
На Западе языки прошли длительный путь развития, и их реформа не вызывала каких-либо серьезных проблем. Но в большинстве незападных стран стандартные литературные языки, существовавшие в 1800-е годы, кристаллизировались в течение столетий и имели мало общего с живыми разговорными языками, даже если относились к диалектам, на которых разговаривали те, кто использовал их в литературных целях. Более того, в них полностью отсутствовал целый пласт лексики, описывающей реалии современной жизни, не было в этих языках и тех художественных форм, которые могли бы отразить ее явления. В Турции полностью отказались от старых стандартных форм языка, и одной из задач модернизации стала выработка соответствующего литературного стиля, отвечающего всем требованиям современной массовой культуры.
Для арабов, чьи разговорные диалекты уходили корнями в древнеарабский и были достаточно близки, чтобы они могли понимать друг друга лучше, чем остальных, задача формирования литературного стиля оказалась гораздо труднее, чем для любой другой мусульманской нации. Фактически арабы оказались почти в такой же ситуации, как и целый ряд других мусульманских народов, которые вообще не имели своего письменного литературного языка. Например, в Сомали единственным письменным литературным языком был арабский, который не имел ничего общего с разговорным языком. Для арабов, в отличие от турок и персов, единственным литературным языком являлся арабский язык улемов. Литературный арабский язык отличался от разговорных диалектов намного сильнее, чем литературный персидский или литературный османский от разговорных языков этих народов. В основу стандартного литературного арабского языка как языка образованных людей (мудари или фусха) легли диалекты, на которых арабы разговаривали в VI веке. С этого времени все разговорные арабские диалекты (аммийя) очень сильно изменились, и эти изменения были сравнимы с различиями между итальянским или испанским языками позднего Средневековья и поздней, так называемой вульгарной, латынью. Например, существительное, которое в фусхе (как и в латинском) склонялось, в разговорных диалектах (как и в романских языках) стало несклоняемым, соответственно, многие синтаксические связи стали выражаться при помощи грамматики, в частности особое значение приобрел фиксированный порядок слов и некоторые другие грамматические приемы. Что касается лексики, то этот пласт языка претерпел еще более значительные изменения — менялось произношение, на смену старым словам приходили новые. Иногда разница возникала на письме из-за несовершенного характера арабской системы письма, в которой слова kilma и Ralimatun пишутся одинаково. Даже самый неискушенный слушатель сразу же ощутил бы разницу между народным аммийя и классическим фусха. Уже в эпоху позднего Средневековья аммийя звучал, например, в народных сказках, однако у разговорного арабского языка, к сожалению, не нашлось своего Данте, который смог бы придать ему соответствующую литературную форму
В XIX столетии в Египте была предпринята попытка разработать письменную форму разговорного арабского языка, чтобы заменить им фусху и дать возможность простым людям читать, не получая образование улема. Эта попытка отличалась от параллельных попыток языковой реформы турецкого, поскольку необходимо было не просто очистить язык от архаизмов и литературных излишеств, но и разработать новые языковые структуры. Фактически предстояло не столько реформировать старый язык, сколько облечь в письменную форму новый. При разработке новой литературной среды необходимо было выбрать какой-то один базовый диалект (в данном случае — каирский) и придать ему соответствующую форму, разработать весь комплекс тех стилистических приемов, которые придают языку необходимую гибкость и являются неотъемлемой принадлежностью художественной литературы. Здесь, конечно, возникал вопрос, стоит ли прилагать такие усилия, чтобы сделать аммийя полноценным литературным языком, когда уже есть фусха. Почему бы арабам просто не выучить его?
Фактически попытки создать литературный аммийя шли одновременно с возрождением литературного стиля классического периода, а это означало возрождение активного использования фусхи. Ливанские христиане объединились с теми мусульманами, кто ратовал за очищение ислама в деле возрождении фусхи, так как считали возрождение классического наследия важнее удовлетворения сиюминутных практических нужд народа. Они пытались придать этому языку современную форму, в частности семантика вокабуляра была приведена в соответствие с нормами современных европейских языков (английского и французского), были изобретены новые слова, описывающие те явления и предметы, которых не знал язык древних арабов. Поэты и писатели доказали, что такой адаптированный фусха можно использовать для создания современных художественных произведений, а журналисты для своих целей создали его упрощенную версию. Такой журналистский фусха использовал аналитические грамматические формы аммийя, отказавшись при этом от его других отличительных особенностей. В результате он не обладал особой гибкостью, но его было относительно легко выучить, и написанные на нем статьи можно было без труда перевести на современный французский язык. Таким образом, возрожденный фусха с успехом выполнял в обществе ту роль, которая изначально предназначалась литературному аммийя, поэтому реформаторы отказались от дальнейших экспериментов с разговорными диалектами.
Кроме того что фусха был тесно связан с классическим арабским наследием, существовало еще несколько практических причин его применения. Те писатели, которые получили классическое образование, предпочитали пользоваться именно классическим арабским языком, но самое главное достоинство этого языка заключалось в его универсальности. Диалекты арабского сильно отличались друг от друга, и фактически аммийя разделил арабов на несколько небольших наций. Это изначальное разделение было несовместимо с возрождением общеарабского сознания. Если бы это произошло, под угрозой оказалась бы сама идея национального возрождения, и арабы не могли не считаться с этим. Конечно, национальное единство можно было бы создать и на основе аммийя. Арабские диалекты отличались друг от друга так же, как различаются диалекты итальянского или испанского языка, и в их основе лежит общая основа фусхи. Стандартизированный каирский диалект без особого труда понимали в Дамаске и Багдаде, точно так же, как флорентийский диалект понимают неаполитанцы, что вполне достаточно для создания общего литературного языка. Однако здесь возникало одно весьма существенное препятствие: представители многочисленных этнических групп едва ли согласились бы принять какой-либо чужой диалект, и в этом отношении фусха был географически универсален среди всех тех, кто считал себя арабами.
В конечном итоге культурные связи обеспечили окончательную победу фусхи. Как и в Греции, где консерваторы настаивали на использовании классического греческого вместо разговорных диалектов, фусха ассоциировался с культурной славой и религиозной святостью, которыми нельзя было пожертвовать. Если бы обучение в школах велось на аммийя, вся классическая арабская литература стала бы для молодежи антикварной редкостью, исключительной прерогативой ученых-филологов. Но самое главное — фусха по определению являлся языком Корана. Классический арабский настолько прочно ассоциировался с исламом, что многие христиане отказывались изучать арабский язык в школах под тем предлогом, что Коран не является для них священной книгой. Арабы-мусульмане с гордостью ощущали себя избранной нацией — в отличие от всех других мусульман они разговаривали на священном языке (хотя и несколько искаженном) и поэтому были наиболее компетентны в интерпретации сакральных текстов. Соответственно, модернизация фусхи более соответствовала стремлениям арабов, чем развитие аммийя.
Однако многие писатели не могли свободно писать на фусхе, и к середине XX столетия некоторые молодые левые писатели подняли своего рода восстание против классического арабского. Помимо всего прочего классический арабский оказался непригоден как для документооборота, так и для повседневного общения. Если в аммийя не было соответствующего литературного стиля, то в фусхе отсутствовали стилистические средства, необходимые для повседневного общения. Фактически один стал разговорным языком, а второй — исключительно литературным[421].