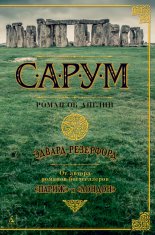Они. Воспоминания о родителях дю Плесси Грей Франсин

Еще в памяти всплывает белая зеркальная ванная комната. Это была настоящая зала для отправления гигиенических ритуалов. Главным образом мне вспоминаются металлические предметы – щипчики, пилочки и бесконечное количество разнообразно изогнутых ножниц, которые лежат на зеркальной полке строго параллельно друг другу. С того дня, как мы переехали в дом на Семидесятой улице, в котором прожили еще полвека, нам строго воспрещалось касаться этих инструментов. У матери все происходило в спальне, за туалетным столиком, стоявшим ровно посередине между двумя кроватями – его и ее. Для Алекса уход за собой был интимным, священным обрядом. Пару раз в год я или мама всё же брали у него что-нибудь для своих целей, шептали друг другу: “J’ai emprunt ses scisseaux pour une seconde” (“Я стащила у него ножницы на секундочку”) и старались как можно скорее вернуть украденное. Раз в несколько лет он обнаруживал пропажу и издавал два вопля: один был направлен в их с мамой спальню, другой – в мою: “Qui a emprunt mes scisseaux?” (“Кто стащил мои ножницы?”) Если мы возвращали пропажу с достаточным раскаянием на лице, он насмешливо тряс пальцем и грозил неминуемой карой.
Эти металлические инструменты (металл вообще был важной частью его натуры – много лет спустя он с безжалостностью хирурга вырезая из своей жизни мою семью после маминой смерти) были центральным элементом его туалета, так как предназначались для объектов, вызывавших у него особое беспокойство: усов и волос в ушах и крючковатом носу. Как и многие мужчины, озабоченные борьбой с расовыми стереотипами, он одержимо следил за растительностью на лице. Несколько раз в год, когда мама заходила за чем-нибудь в ванную, мне удавалось увидеть его перед раковиной: голова склонена, и он осторожно орудует ножничками в ноздрях, или каким-либо другим инструментом подстригает волосы в ушах, или подравнивает густые брови, которые так красиво нависали над его огромными зелеными глазами. Брови были единственным элементом его внешности, в котором допускался легкий беспорядок: в противном случае он выглядел бы слишком уж холено.
Уход за усами держался в особой тайне, и мне так и не удалось стать свидетельницей этого ритуала. В течение полувека Алекс одинаково стригся, носил одну и ту же кальвинистскую форму: темные костюмы, вязаные галстуки, мокасины на резиновой подошве, – но в усах допускал некоторый полет фантазии. Сейчас я понимаю, что усы Алекса отражали его внутренние перемены. На фотографиях 1930-х годов, за несколько лет до нашего приезда в Штаты, усики подстрижены тонко, как у официантов, и смотрятся нелепо. В моем детстве, в 1940-е, когда он увлекся ролью главы семейства, усы загустели и прибавили в ширине. К концу 1950-х – началу 1960-х, когда я вышла замуж и стала матерью, а Алекс превратился в трогательно любящего дедушку и прославился в Нью-Йорке, усы поседели и стали его фирменным знаком. Они упоминались всякий раз при описании его внешности: “элегантный усатый арт-директор Vogue” или “усатый аристократ, директор Cond Nast” (когда он стал во главе всей компании).
Однако усы были не только символом его космополитической утонченности – для нас они также были полны самых разных смыслов. Усы служили своеобразным барометром: “Алекс шевельнул усом” или “Дедушка шевелит усами” (когда мои дети начали разгадывать его настроения) – это были семейные кодовые словечки для обозначения тех моментов, когда мы пытались понять, что же он имеет в виду. Если дедушка шевелил усами, это значило, что он недоволен чем-то, что мы сказали или сделали, но не хотел, чтобы его недовольство было замечено. Усы были одновременно и своего рода флагом, и барьером между закрытым Алексом и внешним миром: любое движение этого флага/барьера помогало нам решить, что делать дальше (как правило, мы стремились как-нибудь перехитрить его). Все мы наверняка воспринимали усы по-разному. Мне казалось, что они слишком уж идеальны, как у фигурки жениха со свадебного торта. А поскольку за усами он прятал свои истинные чувства, то они стали для меня символом его асексуальности и византийской уклончивости.
Но вернемся в ванную. Это была небольшая простая ванная комната с белой плиткой на полу, которая часто встречалась в нью-йоркских домах 1920-1930-х годов. Все полвека там висели голубые полотенца. С тех пор, как он стал делить ванную с матерью, на стенах появилось множество зеркал, а освещение стало чрезвычайно ярким. В воздухе стоял аромат чистоты – меня воспитывали в католической вере, и этот запах ассоциировался у меня с протестантизмом. К нему иногда примешивался аромат лавандового мыла “Ярдли”, которое Алекс держал на раковине. Я не знала человека чистоплотнее, и вместе с тем он не переносил ни душ, ни ванну – вместо этого он, стоя перед зеркалом, осторожно намыливал себя, практически не брызгая водой. Позже я узнала, что цыгане ненавидят погружаться в воду и моются именно так. Кровь матери, видимо, сказалась и здесь.
В шкафу справа от раковины (вверху – полки, внизу – ящики) хранились десятки неотличимых друг от друга белых рубашек, стопка белых носовых платков и ряд серых шерстяных носков. Порядок в шкафу и во всём доме поддерживала Мейбл Мозес – она служила нам больше сорока лет. (Когда я спрашивала маму, что дарить Алексу на Рождество, она неизменно отвечала: “Носки и носовые платки” – ее также смущала аскетичность его гардероба.) Наконец, напротив раковины стоял аптечный шкаф – Алекс вынужден был принимать множество лекарств, но предпочитал скрывать это. В общем, ванная Алекса была холодным, безличным, аскетичным пространством, вызывавшим у меня ассоциации с его слабым здоровьем. Ничто в ванной не намекало на возможность сексуальной жизни – только раз, уже подростком, я увидела там маленький желтый презерватив, очевидно неиспользованный. Видимо, мама в очередной раз сказала, что у нее болит голова, или у Алекса случилась изжога.
Ничто в образе Алекса не ассоциировалось с сексом. Тот неиспользованный презерватив выглядел как-то символически: возможно, в юности я намеренно отрицала его телесность, чтобы возвести между нами некий барьер – в конце концов, он был всего на восемнадцать лет меня старше. Но полвека спустя, когда я расспрашивала его друзей, их рассказы подтвердили то, что я чувствовала и ребенком, и подростком, и взрослой женщиной – некую его асексуальность. “У него была аура кокетливого евнуха”, – сказала Зозо де Равенель, которая знала Алекса с 1940-х годов. (Она также рассказала, что когда Николя де Гинзбура, старого друга и коллегу Алекса по журналу Vogue, спросили, не гомосексуалист ли тот, он ответил: “Да он бы на такое не осмелился”.) “У него практически не было либидо, – вспоминал Франсуа Катру, который знал Алекса с 1950-х. – Его знаменитая любовь к Татьяне была частью образа”. “Он слишком холодный человек для подобных переживаний”, – говорил Бернар д’Англжан, еще один старый друг Алекса. Так что, пока другие дети переживали из-за того, что отец ругается или выпивает, я размышляла об асексуальности отчима – хотя, конечно, куда менее напряженно.
Нельзя, впрочем, говорить о его либидо (подорванном пуританским образованием и болезнями), не упомянув болезненную смесь отвращения и нежности, которую он испытывал к своей матери. Немногочисленные сексуальные наклонности Алекса сформировались в пику ей – настоящей сладострастнице. Генриетта была по-восточному чувственной женщиной, а Алекс почти всю жизнь влюблялся в скандинавского вида блондинок – рассказывая о своих похождениях, он не раз упоминал “белокурый нимб”. Генриетта, бесстыдная эксгибиционистка, находила мужчин всюду – в кафе, на корридах, в Булонском лесу. Алекс же с юных лет полюил легенду о короле Артуре и имел самые идеалистические представления об ухаживаниях – женщины для него были нимфами, практически не имеющими плоти. Генриетта с гордостью предъявляла своих любовников всему миру, Алекс же щеголял своим целомудрием и верностью, и со временем эта тактика оказалась полезной в карьерном плане. Генриетта была тяжеловесно женственна – кружевное белье, кричащий макияж, чрезмерное до вульгарности качание бедрами и трепет ресниц. Алекса всегда влекло к девушкам с мальчишеской, спортивной фигурой.
Теперь мне хотелось бы рассказать о личной жизни Алекса в 1930-е.
Алекс всегда говорил, что первый его “настоящий роман” случился с Ирен Лидовой, русской эмигранткой, коллегой по отделу искусств журнала Vu. Дело осложнялось тем, что Алекс очевидно больше подходил на должность начальника отдела, чем Ирен, а ещё она была замужем за невероятно ревнивым фотографом, и вдобавок – панически боялась забеременеть. На этом примере отчетливо видно, какие комплексы обуревали Алекса в двадцать с небольшим лет – первый его “настоящий роман”, да еще и в обществе, известном своей распущенностью, за два года так и не перешел от страстных ласк к чему-то более серьезному.
Таким же целомудренным оказался роман с другой его “возлюбленной”, дочерью его начальника – умной, прелестной, радикально настроенной Мари-Клод Вожель. Она стала одной из важнейших женщин в его жизни, и они наверняка поженились бы, если бы не ее политические взгляды. (Вскоре после романа с Алексом она вышла за знаменитого французского коммуниста Поля Вайяна-Кутюрье и стала ярой партийной проповедницей.) Зимой 1935–1936 года Алекс и Мари-Клод катались на лыжах в Межев[63] под присмотром ее дяди по материнской линии Жана де Брюноффа. К тому моменту их отношения уже шли на убыль. Сбежав от дяди, они прятались в номере Алекса и страстно целовались и обнимались. По не вполне понятным причинам (французские левые были известны своей распущенностью) и в этом романе влюбленные ограничились ласками. На следующий месяц Алекс вернулся в Межев в одиночестве, решив, что это отличное место для знакомства с девушками. Там он встретил красавицу, которая стала его первой женой, – Хильдегарду (Хильду) Штурм, манекенщицу и лыжницу. Алекс с первого взгляда влюбился в тот самый “белокурый нимб”.
Как Ирен, Мари-Клод и практически все женщины в жизни Алекса, Хильда была старше него – хотя и всего на два года. Предыдущие связи она не скрывала – незадолго до их знакомства она как раз рассталась с богатым издателем газет и сошлась с американским спортивным организатором Чарльзом Микаэлисом. Алекса это не смутило, и через три месяца он предложил ей руку и сердце, несмотря на бурный протест родителей. В августе 1936 года они поженились – это была гражданская свадьба в Париже, на которую не пришли ни друзья, ни родственники. Хильда, добродушная и непритязательная девушка, была дочерью школьного учителя из Бонна – можно было предположить, что ее воспитали в почтении к брачным узам. К немалому смущению Алекса, она твердо вознамерилась “сделать из него мужчину” и научить всем постельным премудростям: каждую ночь она сдирала с кровати простыни и одеяла и, по выражению Алекса, устраивала там “стадион”. От медового месяца в Анси осталось множество ее обнаженных фотографий – Алекс краснел, разглядывая их, но чувственности в нем не прибавлялось ни на грамм. И хотя Хильда была первой женщиной, с которой двадцатичетырехлетний юноша достиг определенных успехов, его очевидно тяготила собственная неспособность продвинуться дальше. Через несколько месяцев после свадебного путешествия он вернулся домой с работы и обнаружил, что Хильда играет с белым пуделем. Собачку ей подарил американец Микаэлис, и с тех пор Алекса терзали подозрения, что жена возобновила роман с хозяином пуделя.
Осень 1936 года была непростым временем для всей Франции. Политические события трех прошлых лет – приход к власти Гитлера и перевооружение Германии – успели встревожить нацию. Весной 1936-го, в первые же месяцы пребывания Леона Блюма[64] на посту премьер-министра, начались массовые забастовки, изрядно подорвавшие французскую экономику – производительность уменьшилась вдвое, началась безработица. К осени поддержка Народного фронта[65] ослабла. Еще одним поводом для беспокойства стала гражданская война в Испании – фашистские правительства Германии и Италии стали посылать войска и припасы в поддержку генералиссимуса Франко. Повторная немецкая оккупация Рейнской области и подписание пакта Гитлера – Муссолини заставили французских центристов стремиться к укреплению связей с СССР и восстановлению отношений с Германией, пропагандировать “мир любой ценой”.
Эти политические кризисы не могли не отразиться на изданиях вроде журнала Vu. Его консервативные швейцарские спонсоры были недовольны тем, что Вожель поддерживает Народный фронт, а в журнале открыто нападают на нацизм. Разногласия достигли пика, когда 16 сентября 1936 года Вожель решился на неслыханную смелость: публикацию карты Германии с отмеченными на ней первыми нацистскими концлагерями. Под заголовком “Rpartition des camps de concentration, maisons de correction et prisons en Allemagne”[66] значились места, включая Дахау, где в следующие десять лет погибло более двадцати миллионов человек.
Через две недели после публикации карты Вожелю пришло письмо, что Vu продан правому предпринимателю (который оказался близким другом Пьера Лаваля, будущего активного деятеля коллаборационного режима Виши). Чтобы сохранить лицо, Вожель подал в отставку, а новый хозяин повысил Алекса до должности шеф-редактора. Алексу вечно не хватало денег, он мечтал продвинуться по службе и мало заботился о политике, поэтому остался в журнале еще на несколько месяцев. Он продолжал рисовать обложки, следить за оформлением журнала и писать обзоры фильмов. Чтобы умилостивить мать, которая вечно просила у него порекламировать ее новый детский театр, он даже написал ироническое ревю одного из спектаклей, не забыв похвалить “восхитительные костюмы и декорации работы Александра”. Но к началу 1937 года его стала сильнее прежнего беспокоить язва, а политика журнала настолько сместилась вправо, что даже ему стало некомфортно там находиться, – и он уволился в надежде, что уговорит отца назначить ему какое-нибудь содержание и наконец посвятит всё время рисованию.
Той же зимой Алекс с Хильдой отправились в Кицбюэль[67], надеясь заново пережить очарование прошлого февраля, когда они только познакомились, но поездка не удалась: она почти не обращала на мужа внимания и общалась только с загорелыми красавцами-инструкторами, которые куда быстрее Алекса съезжали по склонам. По возвращении в Париж Алекс, пользуясь перерывом в работе, несколько месяцев снимал фильм о женщинах во французском искусстве. Он отделал для Хильды большую квартиру в районе Виллы Монморанси. Выходные супруги проводили в загородном доме в пригороде Парижа, который недавно купили родители Алекса. Генриетта пользовалась всякой возможностью саботировать брак сына: она наняла детективов, чтобы следить за невесткой, и те доложили, что Хильда снова встречается с американцем.
Язва и тревоги по поводу брака довели Алекса до физического и нервного срыва – такого же, какой был у его отца десятилетием раньше. Он провел три месяца в швейцарском санатории, спал, читал Толстого, Бальзака и “Унесенных ветром”. В конце декабря к нему приехала Хильда, и, пытаясь начать всё заново, они отправились на приморскую виллу Либерманов в местечке Сент-Максим, вблизи Сен-Тропе. Пока Алекс приходил в себя в Швейцарии, желание стать художником в нем только укрепилось. Мать горячо поддержала эту идею, а отец, хотя у него и уходили все деньги на обеспечение ненасытной Генриетты, назначил ему небольшое содержание.
Последние пять лет, во время службы в Vu, Алекс почти не писал картин. Авангардное искусство, как ни странно, прошло мимо его – Пикассо, Брак и Матисс оставались ему неизвестны. Несколько недель он брал с собой палитру и мольберт и писал природу сельской местности вокруг Сен-Тропе, подражая единственному “современному” художнику, которого любил – Сезанну. Его до сих пор терзало чувство собственной неполноценности перед гением Яковлева, и он мучился мыслями, что никогда не сравнится с учителем. Через несколько недель он понял, что Хильда заскучала, и, чтобы занять ее, попросил позировать с пуделем. Портрет вышел очень реалистичный и абсолютно неживой – на нем не было белокурой богини, которая так поразила его двумя годами раньше. После завершения работы Алекс всеми силами пытался развеселить жену. Она любила собирать пазлы, и он покупал ей самые крупные головоломки, которые только можно было найти на юге Франции. Наконец, отчаявшись, он позвонил в книжный магазин “Брентано” в Париже, и они отправили ему самый большой пазл из всех, что у них были, – он состоял из нескольких тысяч кусочков и занял большую часть пола в гостиной.
Как рассказывал Алекс, Хильда исчезла на следующее утро после того, как положила на место последний кусочек самого большого во Франции пазла. Она поднялась до рассвета, посадила собаку и уложила вещи в “Пежо” и уехала, не сказав ни слова. Она так ничего и не потребовала, и расставание во многом принесло Алексу облегчение. Хотя официально они развелись только летом 1937-го, больше им встретиться не довелось. Вскоре после развода Хильда вышла за своего американца, родила от него сына и прожила долгую счастливую жизнь.
Весной 1938-го Алекс руководил перестройкой садового домика рядом с виллой отца в Сент-Максим – он хотел устроить там мастерскую. Потом он отправился в Лондон, чтобы снять фильм о британском искусстве, и там встретил одну из подруг детства – Любу Красину, младшую из трех дочерей дипломата. Живая, веселая девушка с “дикой грацией и поразительными лавандовыми глазами” (как вспоминал Алекс) недавно развелась с Гастоном Бержери, левым депутатом французского парламента. Чтобы быть поближе к овдовевшей матери, она переехала с восьмилетним сыном Лало в Лондон и теперь работала манекенщицей у Скиапарелли. Алексу с детства нравились все сестры Красины, особенно нежно относился к Любе – еще с тех пор, когда ему было девять лет, а ей одиннадцать, она командовала им и связывала его простынями. “Подожди, вот я вырасту!” – грозил он. Пятнадцать лет спустя их квазиэротическая игра продолжилась. Много лет она не принимала его всерьез и звала Шуриком, но теперь, казалось, была готова ему отдаться.
Итак, Люба и Алекс стали жить вместе, но любовниками так и не стали. Алекс снова не смог проявить инициативу. Когда они по пути на юг Франции остановились в Париже, он ночевал у себя в квартире, а Люба – в гостинице. Оказалось, что в это время она принимала у себя бывших любовников, и это открытие еще больше его парализовало. Когда они добрались до юга, ситуация усложнилась.
Дом Алекса в Сент-Максим был практически не обставлен. Пока они с Любой бродили в поисках мебели, Алексу приглянулась пара кресел, но антиквар ему отказал – кресла были оставлены для графини дю Плесси, которая переезжает в новую квартиру в Париже. “Это же Тата! – воскликнула Люба. – Надо ей позвонить”. Алекс вспомнил, как встретил Татьяну в мастерской Яковлева – высокую, величественную блондинку, образец парижской элегантности. После этого они несколько раз сталкивались на коктейлях у его матери. Расспросив антиквара, Люба с Алексом выяснили, что Татьяна остановилась неподалеку от Сент-Максим в компании американского пластического хирурга русского происхождения, Евгения де Савича. Они созвонились, и на следующий день Татьяна и де Савич пришли к ним на ужин.
Де Савич появился в жизни Татьяны двумя годами раньше. Как-то раз она ехала в автомобиле друга на ужин к Олдосу Хаксли. Друг, который потерял в Первую мировую войну ноги, слишком резко повернул, машина опрокинулась, и сиденье пережало Татьяне горло. Ее спасло только то, что протез друга оторвался, упал рядом с ее шеей и принял часть веса сиденья на себя. От недостатка воздуха она посинела, и никудышные местные полицейские, решив, что она мертва, отвезли ее в морг в Хиер, после чего связались с моим отцом. Он нанял самолет и через два часа прилетел вместе со своим другом, де Савичем. Они нашли у Татьяны пульс и перевезли ее в тулонскую больницу. Де Савич сделал операцию, чтобы спасти ей руку, обожженную кислотой из автомобильной батареи. Через две недели ее перевели в Американский госпиталь в Париже. За следующий год он сделал ей восемнадцать операций и в процессе влюбился в нее.
Так Татьяна вновь появилась в жизни Любы с Алексом. После аварии она охрипла, стала бояться замкнутых помещений, а рука осталась изуродованной – она кутала ее в шелковый шарф. Но по натуре Тата оставалась всё такой же энергичной и жизнерадостной – она мастерила шляпки и поддерживала прекрасные отношения с мужем, Бертраном дю Плесси. К де Савичу она была очень привязана, но ясно дала понять – отношения их могут быть только платоническими (их дружба продолжалась еще два десятилетия, до самой его смерти). Следующие две недели все четверо часто встречались, ходили вместе на пляж, в рестораны и ночные клубы. Татьяне нравился Алекс – элегантный космополит с “аристократичными манерами”, как она выразилась впоследствии. Алекса, скорее всего, поразила величественная белокурая красавица, которая к тому же состояла в родстве с кумиром его юности Яковлевым. Как-то раз, возвращаясь из ресторана, они оказались вдвоем на заднем сиденье автомобиля. Алекс коснулся ее руки и сказал: “У вас чудесная кожа”. Татьяна, видимо, ответила просто улыбкой – тогда он впервые почувствовал, что его к ней тянет.
Кончился август 1938 года. Татьяна вернулась к своему ателье и светской жизни, де Савич уехал в Америку, Люба возвратилась домой – к сыну и работе у Скиапарелли. Алекс также отправился в Лондон, где они жили вместе с Любой и Лало. Следующие недели он, как обычно, рисовал – в частности, заканчивал портрет восьмилетнего Лало, который к нему ужасно привязался. Люба, казалось, уже решила, что они с Алексом поженятся, но этому мешало два обстоятельства. Алекса предупредила мать Любы, мадам Красина – она любила его с детства и знала, какой переменчивой может быть дочь. Мать боялась, что Люба сделает Алексу больно. “Уезжай, Шурик, – говорила она. – Так тебе будет лучше”.
Было и еще одно, более важное обстоятельство: пришло письмо от Татьяны, в котором она предлагала Алексу купить что-нибудь из библиотеки Александра Яковлева, который умер той весной. Татьяна была душеприказчиком дяди – разумеется, ей пришло в голову обратиться к Алексу, который обожал Яковлева.
Письмо было написано в начале октября 1938-го – через несколько недель после того, как Эдуард Даладье[68], Невилл Чемберлен[69] и Адольф Гитлер подготовили почву для Второй мировой войны и подписали Мюнхенское соглашение. Письмо Татьяны сработало как катализатор – Алекс уехал в Париж, не сказав Любе ни слова, бросив все свои вещи. Через несколько часов после приезда он пришел к Татьяне и купил почти все книги дяди Саши – много томов по истории искусства, десятитомное издание “Энтомологических воспоминаний” Фабра, “Естественную историю” Бюффона в сафьяновом переплете – эта небольшая изысканная коллекция до сих пор хранится у меня. Они стали видеться каждый вечер. После нескольких ужинов они пришли к Алексу – в мастерскую на Вилле Монморанси. Оказалось, что она так же боится секса, так же полна pudeur – это слово практически непереводимо и обозначает почти пуританское целомудрие. “Я испытывал ужас и восторг, – рассказывал Алекс одному из своих биографов. – На ней было не то черное, не то зеленое атласное платье и меховая шапочка на белокурых волосах. Это было… самое удивительное переживание в моей жизни. Когда мы провели вместе первую ночь, я понял, что жизнь моя изменилась навсегда”.
Месяц спустя я впервые увидела Алекса. Один из осенних четвергов я, как обычно, проводила у прабабушки на авеню Фош – моя гувернантка по четвергам брала выходной. В тот день я заболела, у меня поднялась температура, и мама за мной приехала. Думаю, на дворе стоял октябрь – она завернула меня в шубу, прежде чем взять на руки. Случай примечателен тем, что болела я часто, но впервые мама снизошла до ухода за больным ребенком.
Не могу сейчас не восхититься ее чувством момента: это была встреча двух полюсов ее жизни – первая встреча нового любовника с дочерью, – и она срежиссировала ее и сыграла роль идеальной матери безупречно. Белокурая мать, благоухая духами, шла со мной на руках навстречу улыбающемуся мужчине с аккуратными тонкими усиками и выдающимся носом. Они с матерью двигались чуть ли не по-театральному грациозно. Это была очень важная сцена, и он позировал так же умело, как и она: прислонившись к боку белоснежного автомобиля, подперев правой рукой подбородок, подхватив левой рукой правую. Когда мы приблизились, я заметила, как идеально он пострижен, как ласково улыбается. На его лице было очень характерное выражение – я заметила его, пока он осторожно усаживал меня на сиденье, – лучше всего описываемое французским словом attendrissement: смесь сочувствия, жалости и нежности. Видя это выражение, ребенок понимает, что взрослый растроган и умилен, что он готов выполнить любой детский каприз. Множество лет Алекс относился к нам с Татьяной именно так.
Он отвез нас домой, на улицу Лонгшам. Помню, когда мы прощались, я подумала, что никогда еще не встречала человека приятнее.
Спустя несколько недель после начала романа Алекса и Татьяны нацистские войска вторглись в Судетскую область Чехословакии. Французское правительство, устрашенное сообщениями о мощи воздушных сил Германии, сомневалось, что их армия, ослабленная многолетней мирной политикой, сможет нанести серьезный удар по войскам Гитлера. Франция горячо поддержала предложение Невилла Чемберлена подписать Мюнхенское соглашение, в соответствии с которым большая часть Чехословакии, союзника Франции, уходила в уплату за отсрочку очередной войны с Германией. Левые и пессимисты всех политических мастей (включая моего отца) считали, что это соглашение – самая трусливая капитуляция, и опасались, что, получив в свое распоряжение чехословацкий завод “Шкода” (который в том числе производил оружие) и избавившись от чешской линии защиты, вермахт может всем весом обрушиться на Францию. Но большая часть населения с радостью приветствовала подписание соглашения, и безумие 1920-х годов продолжалось.
В ту осень стали популярны множество новых песен. Алекс и Татьяна сидели в модных клубах – “Бык на крыше” или “Шпагат” и держались за руки, пока юная двадцатиоднолетняя Эдит Пиаф пела “Мой легионер” (Il tait mince, il tait beau, / II sentait bon le sable chaud…)[70] а Жан Саблон мурлыкал: “Vous, quipassez sans me voir / Sans mme me dire bonsoir… ”[71]. Они побывали на велосипедной гонке в Вель д’Ив, которая проходила на стадионе, где четыре года спустя будут в нечеловеческих условиях содержаться под стражей тринадцать тысяч французских евреев. Влюбленные смотрели нашумевший в ту осень фильм Марселя Карне “Набережная туманов”, плакали над “Великой иллюзией” Жана Ренуара – в этом фильме, вопреки всем канонам, французским офицером был молодой обеспеченный еврей. Они ходили на поэтические чтения, концерты и пьесы. Такое времяпрепровождение было скорее в мамином духе. Однако с любимыми женщинами, вкусы которых он мгновенно усваивал, как и в своей карьере, Алекс был всегда готов пойти на выгодный ему компромисс. С Хильдой он катался на горных лыжах, с Ирен Лидовой – ходил на выставки по художественному оформлению книг в Музее декоративных искусств, с Мари-Клод посещал собрания левых, с Любой танцевал чарльстон в ночных клубах, с Татьяной – слушал Моцарта в исполнении Робера Казадезюса[72]. Первый год их любви, совпавший с последним годом мирной жизни в Европе, – был просто волшебным.
Именно в это время началась их первая переписка.
Татьяна писала ласково, но легкомысленно. 26 декабря 1938 года она должна была отправиться в Сент-Мориц кататься на лыжах со своим кавалером, высоким, обходительным миллионером двадцатью годами ее старше, Андре Вормсером. Избавившись там от Вормсера, которого она тогда пыталась мягко вывести из своей жизни, она собиралась встретиться на склонах с Алексом, который тогда был на юге Франции.
Любовь моя [пишет она из Парижа, собирая вещи]. Не могу уехать и не написать, что люблю тебя и счастлива с тобой. Уезжаю и надеюсь скоро вернуться в твои нежные руки.
Не забудь пластинки Баха и Моцарта и снаряжение [пишет она на следующий день из Сент-Морица].
Я катаюсь очень осторожно [пишет она 29 декабря]. На улицах полно одноруких и одноногих. Травмы здесь высоко ценятся, но я постараюсь их избежать. Хочу дождаться тебя целой.
В. [Вормсер] заболел фарингитом и целыми днями лежит в постели, а по вечерам мы с ним играем в лексикон[73]. Мне так только лучше, хотя и жаль его. Как мы с тобой будем кататься!! Как я тебя люблю! Как же мы будем счастливы. Всё только начинается.
Только проснулась, люблю тебя и ужасно скучаю [пишет она на следующий день]. Мы учимся кататься до половины первого, потом спускаемся в Сент-Мориц пообедать и в два возвращаемся к лыжам и катаемся до 4:30. В 3 я ем что-нибудь сладкое с “товарищами по несчастью”. В 6 я встречаюсь со знакомыми в баре или играю в карты с В. Ужин здесь в 8, за ним – долгая горячая ванна, и я засыпаю, только оказавшись в постели, а пока засыпаю, думаю о тебе, представляю твои нежные руки и всё, что нам дорого. Я люблю тебя.
За 1938–1939 годы сохранилось только одно письмо Алекса Татьяне – он хранил ее письма бережнее, чем она его. Но это было выдающееся письмо.
Мы были избалованы той редкой любовью, что предлагает свои дары лишь тем, кто умеет любить по-настоящему [писал он ей в ноябре 1938-го]. Ты любишь меня как ни одна женщина не любила, и благодаря тебе на свет появился мужчина… Любить тебя – для меня всё равно что молиться, это благословение, ниспосланное свыше… Жизнь для меня – это наши взгляды, наши тела, наши мысли, и я любил тебя, люблю и буду любить, пока смерть не разлучит нас.
После встречи в Сент-Морице в январе 1939 года влюбленные отправились в новый дом Алекса в Сент-Максим. Они провели там неделю, которая стала, по словам Алекса, величайшим моментом его жизни. “Чувства наши были необычайно сильны. Я знал – и был уверен, что Татьяна знала – это навсегда”.
Много десятилетий спустя одна из ближайших подруг Алекса, гений издательского дела Тина Браун, сказала о них: “Татьяна повлияла на него так же, как Уоллис Симпсон на принца Уэльского[74]. Помните, как он всё время повторял: она сделала из меня мужчину?”
Глава 8
Татьяна и Бертран
На взгляд окружающих, брак Татьяны с Бертраном дю Плесси (они поженились 23 декабря 1929 года в Париже) складывался просто восхитительно. В медовый месяц супруги отправились в Неаполь – оба раньше не были в Италии, – и письма Татьяны, адресованные матери, так и светятся счастьем молодой жены. “Бертран невероятно заботливый, он самый лучший муж и замечательный спутник”, – писала она из Помпей. Меня зачали в первые две недели их брака – я родилась 25 сентября 1930-го, и мама шутила, что я “спасла ее честь двумя днями”. Вскоре после свадебного путешествия они устроились в Польше – мой отец, полиглот, свободно говорил по-польски и служил торговым атташе при французском посольстве. Поначалу Татьяна была счастлива. Первое сохранившееся письмо из Варшавы датировано 30 марта. Видимо, она уже успела сообщить матери о беременности.
У меня каждые три недели берут анализы, пока что всё хорошо. Меня не тошнит, я пью укрепляющие лекарства. Много провожу времени на свежем воздухе, езжу на корт смотреть, как Бертран игает, и почти ежедневно бываю на ипподроме – у нас там ложа – болею за французских лошадей.
Дальше она говорит, что лето они собираются провести на берегу Финского залива, и рассказывает матери о недавнем концерте Прокофьева, на котором композитор сам дирижировал и играл на фортепиано; успех был такой грандиозный, что марш из “Любви к трем апельсинам” дважды был исполнен на бис. Светская жизнь бурлит, пишет Татьяна, ведь необходимо принимать французских и итальянских предпринимателей, которые приезжают в Варшаву, и она постоянно вынуждена развлекать за обедом гостей. Заканчивается это письмо припиской рукой Бертрана: “Целую вас, дорогая мама”.
Эйфорию молодоженов разрушило известие о самоубийстве Маяковского – Татьяна узнала о нем через три недели после мартовского письма матери. В тот тяжелый период Бертран был особенно нежен с супругой.
“Он настоящий друг, и мне кажется невероятным, что мы когда-либо можем расстаться”, – пишет Татьяна матери в начале мая.
Через две недели после трагедии Бертран, чтобы развлечь жену, повез ее на весеннюю ярмарку в Познань. В пути “всё вокруг цвело”, и Татьяна приободрилась. Ей по-прежнему нравилась их квартира, также утопавшая в зелени (“За окном у нас настоящее зеленое море, словно ты не в городе: Варшава – это одна большая деревня, она вовсе не похожа на Париж”). Вечером они слушали Федора Шаляпина, исполнявшего партию Мефистофеля, – “несмотря на свой возраст”, пел он прекрасно и имел “огромный успех”. Беременность ее проходила так же благополучно: единственным неудобством было то, что Татьяна ела за троих и быстро поправлялась.
Два месяца спустя она бурно ликовала, услышав, что Бертран везет ее в Париж – там ее ждали бабушка, сестра и все ее родные и близкие. Татьяне предстояло четыре дня плыть на пароходе, а муж ее должен был отправиться самолетом. В Варшаве стояла страшная жара, тридцать пять градусов в тени, и Татьяна предвкушала плавание. И всё же в ее письмах чувствуется, что думает она только о Маяковском. Она попросила мать присылать ей все вырезки из газет, где говорится о поэте, и снова написала, что не себя одну винит в произошедшем: “Тому было множество причин, включая его болезнь”.
А что же Бертран дю Плесси? Он пытался сделать счастливой девушку, которой не под силу было пережить ужасы самой кровавой революции века и самоубийство своей первой любви. Моих родителей объединяло то, что оба они стремились забыть прошлое. Татьяна хотела оставить позади свою разрушенную родину, Бертран старался порвать с семьей, поколениями боровшейся с бедностью и гордыней. Когда я думаю об отце, мне вспоминается полуразрушенный замок в Венде, в нескольких километрах от Нанта, где появились на свет пять поколений дю Плесси и где старший брат Бертрана, Жозеф, прожил до самой своей смерти в 1950-х. Я представляю, как за окном моросит дождь, на ободранных стенах висят распятия, окна во избежание сквозняков заперты даже в жару, а от печальных тетушек пахнет немытым телом (во французской провинции к гигиене относятся спустя рукава) и пережитыми потрясениями: многочисленными беременностями и детскими смертями. Это унылое, сырое место, само воплощение гордой нищеты. Весь год там размечен церковными праздниками: косить сено начинали на Троицын день, а на Успение мы ехали в Брест к тетушке Мари. Помню, как пахло пылью от открыток, что дарили на конфирмацию, а потом хранили между страницами древних молитвенников: на них изображались адские муки. Помню портреты предков в мундирах, которым поклонялись как иконам: это твой прадедушка де Ларомисьер, который завоевал Алжир! Твой дядюшка де Монморанси, герой битвы при Марне! Помню, что по всем комнатам были разбросаны листовки радикальных правых групп – “Французской силы”, “Огненного креста”, – которые поклонялись Жанне д’Арк и Нострадамусу и призывали вернуться в Средневековье и очистить Францию от семитской и иностранной крови. Помню, что один из кузенов сочинял для католических газет критику закона, разрешающего аборты, используя для этого александрийский стих. Другие кузены носили траур по Людовику XVI, и в годовщину его казни, 21 января, служили похоронную мессу. В этом болоте поклонялись прошлому и отрицали окружающий мир.
Мой отец сбежал оттуда, так что я – дочь двух беженцев. Мать, сидя в деревне, мечтала о славе, отец грезил о парижской роскоши. Когда ему было четырнадцать, родители умерли от дифтерии, и о нем, младшем, заботились старшие братья и сестры. Мой отец был необычайно хорош собой – высокого для француза роста, с темными волосами, мягкими чертами лица и большими глазами. По натуре он был вспыльчив, но замечательно трудолюбив. Чтобы вырваться из мрачного отчего дома, Бертран поступил сразу в две самые знаменитые французские высшие школы – Высшую коммерческую и Школу восточных языков. Способности к языкам у него были выдающиеся – к двадцати пяти годам Бертран свободно говорил по-английски, немецки и польски, а в двадцать шесть получил должность во французском посольстве в Варшаве. Возможно, благодаря кельтско-бретонской крови, была в его характере и дионисийская сторона, которая гармонично сочеталась с маминым славянским темпераментом. Занимаясь карьерой, Бертран попутно стал искусным музыкантом, полюбил поэзию, освоил профессию пилота, считался знатоком сразу в нескольких областях искусствоведения, в частности в китайской скульптуре и помпейском стекле. Была в нем и врожденная грусть, против которой лучшим лекарством служила любовь – он был настоящим донжуаном, ему нравились элегантные дамы. Свойственный Бертрану авантюризм заставил его в конце 1920-х влюбиться в русскую красавицу, за которой ухаживал знаменитый поэт – задним числом кажется, что это соперничество только подогревало страсть виконта к Татьяне.
Я выделила этот титул, поскольку это связано с еще одним сходством моих родителей: оба они, каждый на свой лад, были снобами. Наше генеалогическое древо восходит к сэру Жошо дю Плесси, который жил в регионе Нант в XVI веке. Хотя нашу семью можно назвать дворянской в самом широком смысле слова, никто из братьев или дядьев отца титулом виконт не пользовался. Однако мой отец, повинуясь некому импульсу, велел указать этот титул на своих визитках, когда заступил на свой первый дипломатический пост. (Мне рассказывали, что среди молодых дипломатов неопределенно-дворянского происхождения принято преувеличивать свои титулы за границей – кроме того, поляки известны своим почтительным отношением к аристократии.) Как бы то ни было, маму впечатлило знакомство с виконтом – в конце 1928 года, в один из отпусков Бертрана, их представили друг другу общие знакомые в Монте-Карло.
Вот как, на мой взгляд, история знакомства родителей ложится в контекст отношений Татьяны с Маяковским: мама и Бертран познакомились в конце 1928 года, после возвращения поэта в Москву. Они понравились друг другу, стали видеться, и, когда Бертран уехал в Варшаву, началась пылкая переписка. Когда в феврале 1929 года Маяковский на восемь недель приехал в Париж, Татьяна отодвинула Бертрана на задний план. Однако, судя по одному ее письму, написанному как раз перед приездом поэта в Париж, дю Плесси в то время уже стал проявлять настойчивость. “Кавалеры приглашают меня в разные страны, – писала она, – но никто из них не сравнится с М.”. После отъезда Маяковского Бертран приехал в Париж и с новой силой возобновил свои ухаживания. То лето, должно быть, выдалось непростым – Татьяна разрывалась между знаменитым поэтом, который мог воплотить в жизнь ее мечту: стать прославленной музой, и благородным французом, который предлагал ей пусть скромный, но всё же дворянский титул, о котором она мечтала всю жизнь. Развязка нам уже известна: в октябре Бертран вновь приезжает в Париж, а Татьяна, успевшая к тому моменту осознать, что Маяковский больше не вернется, принимает его предложение.
Нет нужды останавливаться на ее впечатлении от его родственников – вскоре после свадьбы он привез ее в полуразрушенный замок дю Плесси, чтобы представить семье. “Они очень милы, – писала она друзьям, – но не мылись, кажется, со Средних веков”. Сами дю Плесси были потрясены своей новой родственницей, но Бертран уже был слишком от них далек, чтобы обращать на это какое-либо внимание. Что касается ее семьи, все были только рады такому браку – благородный, элегантный француз с даром к славянским языкам очаровал их с первого взгляда, и это было совершенно взаимно. Титул его вполне удовлетворил дядю Сашу – можно представить, как он был счастлив, заказывая в подарок на свадьбу племяннице серебряный набор для туалетного столика из двенадцати предметов с выгравированными гербами.
Через полтора года после свадьбы, в июне 1931-го, Татьяна написала матери, что перестала кормить грудью вашу покорную слугу. Мне тогда было девять месяцев. “Малышка растет”, – пишет она в конце долгого письма, в котором также описывает успех, который имела в Париже ее младшая сестра Лиля: годом ранее дядя Саша вывез ее из Советского Союза, и Лиля победила на парижском конкурсе красоты.
Поскольку я уже не кормлю [пишет Татьяна], завтра еду к друзьям в Вильнюс на Троицын день. Мы с ней впервые расстаемся. Слава богу, есть телефон, можно будет звонить каждый час… Малышка становится всё милее и уже говорит “мама” и “няня”– к большой зависти Бертрана. Напиши, что тебе прислать. Представляю, как у вас цветет сирень! Целую вас с папой.
Это письмо – последнее из дошедших до нас писем из Варшавы. В результате череды печальных событий дю Плесси пришлось покинуть Польшу, и следующее письмо пришло весной 1932 года из Франции. Мы уже жили на площади Анри Пате, вблизи Эйфелевой башни, и Татьяна открыла свое дело.
Пишу тебе из деревни, куда мы уехали к друзьям на Пасху на три дня. Бабушка живет у нас и присматривает за малышкой. Последние три недели я работала не покладая рук – делала шляпки к Пасхе и совершенно вымоталась. Столько работы!
А Бертран к тому же совершенно не вовремя свалился с гриппом, и мне пришлось за ним ухаживать. Здесь я уже отдохнула: это настоящий дом XVIII века, удобств никаких, но ужасно уютно. Самое главное – здесь не надо ни о чем думать. По утрам, вместо того чтобы работать, я собираю салат. Через месяц дядя Саша возвращается из Азии. Экспедиция их закончилась печально. Его начальник [Жорж-Мари Хаардт] умер от пневмонии, и бабушка не успокоится, пока не узнает наверняка, что дядя Саша покинул это ужасное место. Всё это очень грустно… Малышка очень быстро растет, и когда на распросы в парке мы отвечаем, что ей всего полтора года, все бывают потрясены – выглядит она на два с половиной.
В следующем письме, которое пришло несколько месяцев спустя, говорится, что дю Плесси проводят лето на юге Франции.
Милая мамуленька,
Мы уже две недели на побережье, сняли тут дачу у знакомого. Франсин впервые в жизни плавает, и ей это очень по душе: она плачет, когда мы вытаскиваем ее из воды. Она очень загорела… Шлю тебе нашу фотографию и снимок голенькой Фроськи.
Она очень сладкая. Через месяц ей будет два года, и я думаю: неужели я ее родила! Кажется, это было только вчера… Бабушка гостит у своего брата в Аркашоне, а тетя [Сандра] в санатории, лечит ноги. Позже она к нам присоединится, так что пиши ей на наш адрес.
Но два года спустя, в сентябре 1934-го, мой отец снова потерял работу. Дю Плесси живут только на доходы с маминого дела, и денег на летние каникулы уже не хватает.
Милая мамуленька,
С именинами тебя! Франсин сегодня исполнилось четыре года. Ей подарили множество подарков. У нас всё переменилось. Няня ее от нас ушла и уехала в Польшу. Но всё в порядке., Фроська уже подружилась с новой гувернанткой, которая мне нравится куда больше няни. Я так погружена в работу, что никуда не ездила. Но чувствую себя хорошо, потому что занимаюсь гимнастикой – я всё лето каждый день делала зарядку. Бертран пока что работает дома. Саша уехал на год в Бостон, будет там заниматься переделкой музея и читать лекции про портреты. Какой чудный у нас дядя!
Есть несколько версий того, почему дю Плесси в 1931 году спешно покинули Варшаву. Согласно маминой версии, отец сам решил уехать, поскольку главное новостное агентство Франции, “Авас”, предложило ему работу корреспондентом. Но все, с кем я говорила об этом, включая тех, кто любил мою мать, утверждали, что виновата во всём была она. Согласно их рассказам, через несколько месяцев суровая дипломатическая жизнь в провинции стала ее утомлять – тут были и строгие правила поведения, и обеды для папского нунция, и необходимость развлекать торговых атташе из Осло и Аддис-Абебы. Татьяна всем сердцем стремилась в Париж и начала то и дело допускать серьезные faux pas. Ей можно только посочувствовать. Мама покинула Восток, провозглашая: “В Париж! В Париж!”, словно чеховские сестры, которые мечтали о Москве, а вместо блестящей светской жизни, к которой успела привыкнуть, ее ждал невзрачный польский городок, будто вернувший ее в советский кошмар. Это и вправду было не совсем честно.
Конкретный эпизод, приведший к тому, что дю Плесси покинули Варшаву, выглядел так: на официальном приеме мать во всеуслышание заявила: “Ненавижу поляков!” Кроме того, у супругов не осталось ни гроша – их обескровила мамина любовь к роскошной жизни. Она так и не сумела привыкнуть к скромному доходу мужа-дипломата, на который они должны были жить. Согласно этой версии, Татьяна требовала у супруга бесконечных нарядов, о которых всегда мечтала, а тот подчинялся, поскольку и сам любил пустить пыль в глаза. Судя по всему, он попытался заработать денег на своих дипломатических привилегиях, был пойман, и его попросили уйти в отставку. Об этом мне рассказала и тетя Сандра, которая обожала племянницу, но не умела ничего скрывать, и тетя Лиля, которая не любила сестру и видела ее насквозь. Услышав эту версию произошедшего, мать в истерике всё отрицала, что только подтвердило верность гипотезы.
Поначалу дю Плесси жили в Париже так же роскошно, как в Варшаве: они были одной из самых красивых пар города и на всех балах брали призы за умение искусно вальсировать. Они поддерживали отношения с дипломатами, с которыми познакомились в Варшаве, – среди них были Уильям Буллит, Джордж Кеннан, Джон Уайли, мой крестный отец, который был вторым человеком в американском посольстве в Варшаве и стал лучшим другом родителей, а также поверенный в делах из посольства Германии, Ганс Гюнтер фон Динклейдж, известный также как Шпац (“воробей” по-немецки), – впоследствии его перевели в Париж, и он сыграл неожиданную роль в жизни матери во время Второй мировой войны.
Мама снимала небольшое ателье в нескольких кварталах от дома и, с помощью ассистентки, мастерила и продавала там шляпки. Мой отец пробовал себя в различных сферах, но, подозреваю, так и не нашел себя после того, как оборвалась его дипломатическая карьера, и винил в этом Татьяну. Они стремились заводить богатых знакомых, чтобы расширить клиентуру матери. Чтобы упрочить свое положение в парижском свете, Татьяна заключила сделку с одним из самых известных кутюрье Парижа Робером Пиге (он был автором знаменитых духов Fracas и Bandit) – он одевал ее бесплатно при условии, что она будет носить только его платья.
Через несколько лет после возвращения из Варшавы, в начале 1935-го, произошло еще одно неприятное событие. Как-то раз Татьяна вернулась домой раньше обычного (возможно, у нее болела голова, что случалось нередко) и застала мужа в постели с Катей Красиной, одной из трех сестер, перед обаянием которых в моей семье не мог устоять никто. Много лет спустя мама рассказала мне об этом как бы между прочим – такая небрежная манера зачастую скрывает самую сильную боль. К отцу она была снисходительна и винила во всём Катю.
– А что ему было делать? – вопрошала мама полвека спустя. – Он был таким обаятельным, в Париже любая женщина только и мечтала лечь с ним в постель. Плюс Катя была известной красоткой и нимфоманкой и большую часть времени ходила одурманенная… Она сама на него бросилась. Его вины тут нет.
Что характерно, в следующем письме матери, в короткой записочке от 1935 года, Татьяна впервые ни словом не упоминает мужа. Кроме того, она первый раз пишет о цензуре: все письма, порочащие советскую Россию, теперь могли быть перехвачены, и русских зачастую сажали и отправляли в лагеря только за то, что им приходили компрометирующие письма из-за границы. Татьяна, видимо, знала об этом, и вставляла в письма одобрительные замечания в адрес советского режима.
Мамуленька,
пишу тебе из деревни, куда приехала отдохнуть на день. Я люблю читать, но в Париже у меня столько работы и встреч, что времени на книги не хватает. Читаю одни газеты. Видела в кино спортивный парад в Москве – потрясающе! Вся эта молодежь делает нации большую честь. Здесь тоже занимаются спортом, но только в высшем обществе. Мечтаю о зимних видах спорта – вот уже три года ничем таким не занималась. Франсин прекрасно выглядит. Она ходит в детский сад, учится читать и писать, очень выросла, всё время бегает и шумит, но всё равно ужасно милая.
Р. S. Ради бога, не говори никому ничего о Маяковском. Я бы не хотела, чтобы об этом судачили.
Учитывая, что в Париже Татьяна вращалась в консервативных кругах, а напряжение между СССР и западной демократией росло, понятно, почему ей хотелось скрыть свои отношения с национальным советским героем. Неясно только, как на самом деле она относилась к роману мужа с Катей Красиной. Спустя полвека легче было проявить снисходительность, но тогда ей наверняка было больно и тяжело. В конце концов, она происходила из благопристойной семьи, вышла за отца девственницей, а воспитывали ее бабушка и тетя Сандра. Эльза Триоле писала о ее чувствительности: “Татьяна падала в обморок при слове merde[75]”. Ужасно было, наверное, вернуться домой и увидеть мужа в постели со старой знакомой. (Когда я пытаюсь вообразить, как это было, я вижу всю сцену в белых тонах – бледная Катина кожа, каштановые волосы, солнечный свет на белых простынях, – и сама по сей день чувствую боль.) Первое мое воспоминание о родителях – как они ссорятся у нас дома на площади Анри Пате. Не из-за Кати ли они ссорились?
Помню, как стою рядом с отцом между кроватью и окном в их спальне, и мать с проклятиями швыряет в него что-то. Она промахнулась, и я увидела на полу пухлую желтую телефонную книгу. Мать стоит у шкафа и кричит что-то, ожесточенно жестикулируя. Отец не шевелится и всеми силами пытается принять веселый вид. Она вдруг смотрится в зеркало, приглаживает волосы и бросается из дома прочь, хлопнув дверью. Если темой скандала была измена, речь наверняка шла о Кате, потому что последующие измены отца уже не вызывали такой бурной реакции – с того дня мать переселилась в другую спальню.
Потом мои воспоминания о детстве начинают дробиться и никак не складываются в единую картину, словно хранятся в разных ящичках. Я вдвоем с отцом или с матерью, с бабушкой или тетей Сандрой. До осени 1940-го мы оставались в той же квартире, но я почти не помню себя с обоими родителями одновременно. Они отдалились друг от друга, и я стала чувствовать себя лишней – это ощущение преследовало меня еще много лет. Помню всего два момента, когда видела их рядом до 1939 года. Один из них был у смертного ложа бабушки – она умирала, а мы держались за руки и плакали. В другом случае мы сидели за обеденным столом у нас дома, я жадно грызла яблоко, а родители в кои-то веки смотрели друг на друга, тем самым как бы признавая, что я существую – ничего драгоценнее для меня быть не могло.
За исключением этих редких моментов, их жизни не пересекались. Ясно помню, как отец вдруг заявил, что хочет кое с кем меня познакомить, и сажает в автомобиль. Ура! Мы сломя голову несемся по Парижу: папа из тех отчаянных водителей, что любят пугать окружающих. А ему хочется меня напугать, потому что я нюня, потому что моя гувернантка делает из меня какого-то инвалида, и во всём виноваты русские женщины – мои мать и эта гувернантка, которую она отказывается уволить. Мне же хочется, чтобы вместо этой гувернантки у меня была молодая хорошенькая девушка, которая будет катать меня на лошадях и играть со мной в теннис, правда? Я потрясена до глубины души и кричу: “Нет!”, и это вопль ужаса, потому что отец как раз вылетел на набережную Пасси прямо перед носом у какого-то “пежо”.
Это наша обычная игра: он гонит что есть мочи, я визжу. Когда мы летом вместе путешествуем, он часто так гоняет. “Посмотри, как быстро!” Стрелка спидометра показывает сто пятьдесят – сто шестьдесят километров, и мы вылетаем на проселочную дорогу. Отец в восторге от моих криков и хочет, чтобы я визжала еще громче. За рулем он не умолкает и говорит только про евреев и интеллигентов – увы, антисемитизм был неотъемлемой частью идеологии старой Франции, и он до конца жизни был ее сторонником. “У твоей матери в друзьях одни евреи!” “Евреи все умные, но подлецы”. “Леон Блюм! Очередной еврей во главе Франции!”
Я изо всех сил стараюсь соблюдать нейтралитет, потому что понимаю – нельзя называть подлецами всю нацию сразу. Погрузившись в свои мысли, я забываю спросить, куда же мы направляемся – тем временем мы выезжаем на левый берег. В нескольких кварталах от Сены автомобиль останавливается, и я вижу указатель – улица Святых Отцов.
– Всё будет чудно! – повторяет отец. – Мы выпьем чаю!
Мы выбираемся из автомобиля и входим в уютный садик. Я всё еще думаю, что сейчас увижу одного из его коллег по дипломатическому корпусу, который угостит меня лимонадом и будет разоряться о военной угрозе и иностранном вторжении. Тем сильнее мое удивление.
Мы входим в дом, и на лестнице, покрытой красным ковром, стоит женщина в красном – на стенах красные обои, и всё вокруг тоже ярко-красного цвета. Она смеется, и ее белые зубы, темные волосы и бледная кожа выделяются на ярком фоне. На даме платье для чая, длинное, в пол, украшения с рубинами, ногти украшает красный маникюр. Она протягивает ко мне руки и восклицает:
– Ну наконец-то! Какое чудо!
Я медленно подымаюсь по ступенькам, довольная, что понравилась ей. Отец остается внизу, словно наслаждаясь нашей встречей. Дама невероятно красива, и я пожираю ее взглядом. Мне нравится, что на меня обращают внимание. Я, как щенок, нюхаю ее духи, вдыхаю ее багрянец. Она ведет нас в гостиную и беседует со мной – я демонстрирую свое знание французских королей, таблицы умножения, мировых столиц и, как никогда, чувствую себя взрослой и уместной. Самое удивительное, что я нравлюсь этой даме, кажусь ей интересной. Она внимательно меня слушает и забрасывает вопросами, разливая чай. Скрестив ноги в бархатных тапочках, дама смеется, на ее запястье сверкают рубины, в камине пылает огонь, и в ее голосе слышится акцент, похожий на мамин. В следующий раз мы встретимся много лет спустя – она американка, и с началом войны ей пришлось уехать домой.
Впоследствии я узнала, что ее звали Беттина Баллард, и в те годы она была главой парижского отдела журнала Vogue. Этот журнал, как и сестры Красины, сыграл важную роль в истории моей семьи.
Или другое воспоминание – отец ведет меня кататься на самолетах в Ле-Бурже. Ура! Мы сидим в двухместном самолетике, арендованном на полдня, и это лучшее воскресенье года. Он рассказывает мне о фигурах высшего пилотажа и показывает, как самолет летает на боку, как делает сальто и зигзаги, как ныряльщик перед прыжком в бассейн, и при этом никогда не падает. Я пристегнута к креслу ремнем, меня мутит, но когда самолет ныряет и кружится в воздухе, я от восторга визжу: “Еще! Еще!” “Стойкий солдатик!” – кричит он в ответ и пробует еще более опасные трюки: самолет делает тройное сальто, вертится, как спагетти в кипящей воде… Папа такой храбрый и умный, что получил лицензию пилота незаконно. Он дальтоник, а при проблемах со зрением лицензию не выдают. Все его друзья в восторге, что он обвел вокруг пальца идиотов, которые будто бы могут решать, кому можно летать, а кому нет!
Папа был верным патриотом самого анархистского народа в мире. Идеалист и борец по своей натуре, он с готовностью пошел воевать и рисковал жизнью. Бертран принадлежал к малочисленной группе французских правых либералов, которые с самого начала осознавали опасность нацизма, порицали недостаточность военной подготовки Франции, ее пагубное нежелание вооружаться перед лицом фашистской угрозы. Как и генерал де Голль, под флаг которого Бертран встал в первые же дни существования Сопротивления, отец сразу распознал моральное разложение во французском правительстве, заблуждения администрации, неумелое командование, из-за которого Германия всего за пять недель захватила его родную страну. Лейтенант Бертран дю Плесси погиб над Средиземным морем летом 1940 года – его самолет сбила фашистская артиллерия. Он стал одним из первых четырех кавалеров ордена Освобождения, величайшей награды де Голля. В памятной книге, что хранится в центре участников Сопротивления на улице Тур-Мобур, говорится:
Лейтенант дю Плесси, достойный и выдающийся человек, до войны служил во французском посольстве в Варшаве. После мобилизации стал связистом в польской армии. Сегодня [18 июня 1940 года] он без колебаний последовал зову чести.
Довоенные воспоминания, связанные с мамой, куда спокойнее, и их гораздо меньше. Помню ее по утрам у туалетного столика. Мне семь лет, и мы переехали в новую квартиру на улице Лонгшам вблизи площади Иена, она куда роскошнее предыдущей, находившейся неподалеку от Эйфелевой башни. Мама устроила себе ванную по последнему писку моды. Пол покрыт дивно мягким ярко-синим линолеумом, на туалетном столике с зеркалом лежит набор серебряных аксессуаров с гербом отца и инициалами матери: Т. Я. П. Из угла ванной я в страхе наблюдаю, как она расчесывает гладкие золотые волосы серебряными щетками. Мама может в любой момент вспылить и прогнать меня. Хотя она со мной всегда исключительно нежна, в ее молчании мне слышится какая-то суровость – это не похоже на нее, она известна своей словоохотливостью. Пока я сижу в углу, свернувшись в клубочек, стараясь занимать как можно меньше места, каждые несколько минут она шлет мне воздушный поцелуй и возвращается к своему отражению, к украшению своего совершенного лица. В ванной царит молчание. Для меня это молчание – настоящая пытка, за которой, однако, я прихожу почти каждый день. (Сейчас я понимаю, что всё это было неспроста, что моя мать была искренна. Глубоко застенчивая по своей природе, она любила браваду и болтала без умолку, чтобы скрыть свою застенчивость. Она так и не научилась говорить со своей дочерью, возможно оттого, что ее зачастую опережал куда более привычный к этому отец, с которым она не осмеливалась соревноваться.)
Несмотря на то что мне достаются только воздушные поцелуи и несколько случайных слов, я следую за мамой по пятам, когда она поднимается, готовая к работе, и идет в небольшое ателье, где мастерит шляпки с помощью своей ассистентки – печальной луноликой эмигрантки с трудным именем: Надежда Романовна Преображенская. Надежда Романовна – еще одна русская аристократка, чей муж теперь работает таксистом, она часто всхлипывает и, обнимая меня, лепечет сквозь слезы: “Ах, душенька, какую страну мы потеряли, у нас были дачи, слуги, лужайки, а теперь!..” Надежда Романовна, то и дело заливаясь слезами, сидит за столом, на котором высятся рулоны фетра, горы тюля, вуали и парчи, ворохи лент гро-гро, бархатные и атласные ленточки, перья цапли и павлина, малиновые розочки из ткани, а над всей этой восхитительной горой громоздится паровой пресс, благодаря которому фетр и солома примут форму шляпок, канотье, береток. А во главе стола сидит мать перед огромным зеркалом и прямо у себя на голове укладывает бархат, органзу, атлас, вдохновляясь собственным отражением.
Согласно отцовской причуде, в обычную школу я не ходила. Меня учила Мария Николаевна Шиманская – ревнивая, мнительная гувернантка. Раз в неделю я посещала курсы, где контролировали процесс моего обучения. Целыми днями при первой же возможности я подглядывала за матерью. Сквозь замочную скважину я наблюдала, как она, зажав во рту булавки, поправляет муар и джерси на головах мадам де Розьер, графини Дессоффи, герцогини де Грамон. По вечерам, когда она выходила в высший свет на охоту за клиентками, я отправлялась искать маму в ее шкафах, изучала и гладила кашемир, бархат и шелк. Помню невероятное переживание, очень похожее на детскую мастурбацию: вечернее платье из ярко-синего атласа работы Пиге, пахнущее сухим резким ароматом Bandit. Я нежно гладила платье, и это было почти утешением – будто ткань, что касалась маминой кожи, могла заменить ее объятья и ласки.
Только много лет спустя я поняла, что поклонялась Татьяне, поняла, какое магическое действие оказывало на меня ее молчаливое присутствие. Я нашла тетрадь с первыми плодами своего творчества – увы, это были не стихи или рассказы, которые могли бы стать доказательством раннего проявления таланта. Это были рисунки воображаемых платьев, вечерних нарядов и домашних пеньюаров, неизменно украшавших одну и ту же белокурую даму, очень похожую (в исполнении восьмилетнего ребенка) на маму. Очевидно, я рисовала их с одной мыслью: “Когда я вырасту, я буду делать то же, что и ты. Посмотри же на меня!”
Какими же редкими и драгоценными были те моменты, когда гувернантка брала отгул, отец уезжал, бабушка болела, и мы с мамой вдвоем отправлялись в город. Она неловко, но нежно брала меня за руку, и мы выходили из квартиры. Частенько мы ходили навестить ее подругу, у которой десятью годами ранее она обучалась своему ремеслу, Фатьму Ханум Самойленко. (“Ее муж был очень важным украинцем” – так мама объясняла мне это необычное имя.) У Фатьмы на левой щеке было большое родимое пятно, а сама она была известна на весь Париж своими шляпками. Фатьма рассказывала невероятные анекдоты, курила одну за другой черные сигареты “Собрание” и кормила меня розовым турецким рахат-лукумом – я и сейчас бы дорого дала, чтобы им снова полакомиться. Иногда мы втроем брали такси и отправлялись в тур по магазинам, чтобы закупиться материалами для их восхитительных творений, – мы навещали специализированные магазины, где торговали сотней разновидностей лент гро-гро, павлиньими перьями и вуалями: в кокетливых мушках, густыми вдовьими или вечерними, расшитыми блестками.
Мама была верна старым друзьям. Так же регулярно – обычно раз в месяц – мы навещали музыкальный магазин месье Граффа на улице Виктора Гюго, чтобы послушать записи классической музыки. Хозяин магазина – оживленный щеголеватый еврей, которому суждено было погибнуть в Аушвице, сажал меня у проигрывателя с новой записью Бранденбургских концертов, и я часами слушала музыку, пока месье Графф с мамой обсуждали свои дела: герцогиня де Грамон вчера купила новую запись “Персиваля”, мадам де Розьер на прошлой неделе заказала коктейльную шляпку с тюлем и перьями цапли. Или мы ехали в парк с молодым американцем Джастином Грином, который учился в Париже на врача, был влюблен в маму и обожал возиться с детьми: он подбрасывал меня в воздух или заставлял проделывать гимнастические упражнения. (С годами он стал одним из самых известных детских психиатров Нью-Йорка.) Или же в другие дни мы с мамой останавливались у входа в наш дом и ждали самого важного нашего друга, месье Вормсера – и это были самые чудесные моменты.
Месье Вормсер был очень богат, он ездил на длинном черном сверкающем автомобиле, его шофер ходил в ливрее. У месье были седые волосы, он был высок ростом и, как все мужчины, которых мама удостаивала своим вниманием, отличался превосходными манерами. А еще он невероятно меня баловал: подарил мне первые в моей жизни детские белые перчатки, невероятно мягкие – мне тогда было пять-шесть лет. Еще долгое время уже после того, как я выросла из них, подарок продолжал храниться в специальном ящичке, пока нам не пришлось спасаться бегством от нацистов. Месье Вормсер впервые отвел меня в цирк и подозвал к нашим креслам клоуна, чтобы тот пожал мне руку, на что я разразилась слезами: “Мы же не представлены!..” Он же впервые угостил меня мороженым – гувернантка запрещала мне подобные лакомства, – а мама с месье Вормсером наблюдали, как я поглощаю его в кафе “Северин” на Елисейских Полях. Помню, они смотрели друг на друга так же заговорщически, как мои родители в тот день, когда я ела яблоко. Я совершенно убеждена, что Андре Вормсер (“выдающийся банкир”, по словам матери) был единственным маминым любовником до второго ее знакомства с Алексом Либерманом. Одна кузина, которая хорошо знала и любила маму, – Клод де Ларомигьер, теперь ей восемьдесят шесть – рассказала, что месье Вормсер приглашал Татьяну в путешествия, делал ей роскошные подарки (всего два-три украшения, но зато великолепных). Как мне теперь кажется, она держала его на расстоянии и под любыми предлогами избегала физического контакта. Его спокойствие, нежность и доброта служили ей утешением – до встречи с Алексом от постоянной работы ее отвлекали только многочисленные друзья, собственная красота и в меньшей степени глубокая робкая любовь ко мне.
К осени 1938 года я почувствовала, что месье Вормсер утратил свои позиции – заброшенным детям свойственна такая проницательность. В нашей новой квартире на улице Лонгшам наши с матерью спальни разделяла единственная тонкая стена. (Как это часто бывает в семьях, где супруги ведут раздельный образ жизни, спальня отца располагалась в другом конце квартиры.) Каждое утро, около восьми часов, я слышала, как мать говорит с кем-то по телефону по-русски, и голос ее звучит как никогда мягко и нежно. Примерно тогда – в октябре 1938 года, как я поняла впоследствии, – мама начала встречаться с Алексом Либерманом. Я понимала, что месье Граффа, месье Вормсера и усатого господина в белом автомобиле, Алекса Либермана (той зимой гувернантка водила меня к нему в мастерскую, где я с удовольствием позировала), что-то объединяет: все они были евреями. Среди маминых друзей было множество евреев, и я, переживая в душе из-за своей нелояльности, мысленно спорила с отцом.
Мне бы не хотелось, чтобы сложилось впечатление, что мои родители непрерывно пребывали в состоянии войны. Это было не так – отношения между ними сложились прохладные, но вполне дружелюбные, и скандалов у нас дома не было. Они даже были привязаны друг к другу – например, Татьяна с неизменной благодарностью вспоминала, как муж спас ее после автокатастрофы. А весной 1940 года он месяц провел в военном госпитале с желтухой, и она каждый день приносила ему журналы, книги, письма, домашние лакомства. Да и задолго до этого случая случались их совместные выходы в свет, встречи с родственниками и друзьями, к которым были расположены они оба.
Среди таких людей была чета Монестье. Симона Монестье, троюродная сестра моего отца, образованная, утонченная, открытая женщина, училась музыке у самого Венсана д’Энди[76]. Вскоре после свадьбы они с мужем Андре, блестящим выпускником Политехнической школы (ему принадлежали процветающие бумажные заводы в Пикардии), приютили моего отца – он тогда был студентом в Париже. Монестье – космополиты, полиглоты – оказались ему куда ближе провинциальных родственников. Татьяну они тоже мгновенно полюбили, и она отвечала им взаимностью. Они оставались близкими друзьями родителей и вновь оказали им поддержку в 1934-м, через несколько лет после возвращения из Варшавы: Андре предложил отцу возглавить парижское отделение его компании, и тот занимал этот пост вплоть до начала войны. Мама с Симоной стали особенно близки. Подруга неизменно вставала на мамину защиту, когда у отца случался очередной роман: “Не волнуйся из-за нее, они и месяца не протянут”, или: “Поберегись этой рыжей, она всерьез на него нацелилась”.
Монестье были бесстрашными авантюристами и романтиками: они катались на лыжах в Карпатах, поднимались в горы в Тибете. Глубоко религиозные, они вместе с тем всегда были открыты новым знаниям и опыту: в 1930-х годах, например, Монестье принимали участие в экуменических семинарах в индийских ашрамах и пересекали африканские пустыни вместе с миссионерами. И все тридцать лет брака они были неизменно влюблены друг в друга – вечно спорили по мелочам, но соглашались в серьезных вопросах, и, проведя порознь всего несколько часов, заключали друг друга в объятья. “Наконец-то, милая, я соскучился!” – говорил Андре. “Где ты пропадал всё утро, любимый?” – отвечала Симона.
Симона Монестье – неутомимая рыжеволосая красотка, была одержима потребностью опекать и защищать всех вокруг, что в целом француженкам несвойственно. В ней говорили несбывшиеся мечты о множестве детей. Частично она реализовала свой материнский инстинкт в общении со мной. Монестье держали два дома – особняк в Пикардии, который достался ей в наследство, и уединенное поместье в Жорж-дю-Тарн – там я проводила почти все каникулы. Я была болезненным, худым ребенком, вечно страдала от бронхита и анемии. В Первую мировую войну Симона обучилась сестринскому делу и твердо верила, что в моем слабом здоровье виновата только моя мнительная гувернантка и только ее, Симоны, забота сможет поставить меня на ноги. И действительно, под ее присмотром я всегда расцветала. Иногда гостеприимство Монестье просто зашкаливало, и я спала на кушетке прямо у них в спальне. В эти моменты я с восторгом слушала их шепот – я люблю тебя, жизнь моя, счастье мое – и в первый раз понимала, что мужчина и женщина могут жить мирно, что любовь может пережить даже такой бесконечный срок, как тридцать лет. Благодаря Монестье в моей жизни появились не только радость и здоровье, но и уверенность в том, что муж и жена могут быть счастливы друг с другом.
Единственной их дочери, вышеупомянутой Клод де Ла-ромигьер (сейчас мы с ней уже как родственницы), в 1936 году было восемнадцать. Она вспоминает, что ее родители встречались с дю Плесси по меньшей мере раз в месяц. Они часто ходили вместе в театр или на концерты, а потом отправлялись в любимый ресторан – нижний зал “Рон-Пуан” на Елисейских Пюлях.
– Татьяна спускалась по лестнице и будто светилась от красоты, неизменно в платье от Е[иге, – вспоминает Клод, – а Бертран с гордостью ловил восторженные взгляды, адресованные его жене, и потихоньку наблюдал за присутствующими. А потом она вдруг что-нибудь говорила, он выходил из себя, и начиналось… весь вечер он то ругался, то сиял от гордости. Но в лучшие вечера они вели себя как любящие друзья.
Мои родители встречались и с другой парой – Жаком и Хелен Дессоффи, которые вновь появятся на этих страницах чуть позже. Граф и графиня Дессоффи были одной из тех довоенных французских пар, у кого было достаточно денег, чтобы не работать, и они занимали себя тем, что покупали и ремонтировали дома. Хелен была дочерью высокопоставленного морского офицера – длинноногая, худенькая, каштановые волосы убраны в гладкую прическу. Она беспрестанно курила и была страстной лошадницей. Родители обожали ее за грубоватое чувство юмора. Даже в тридцать восемь лет, когда мы с ней познакомились, она загорала до черноты. Голос у нее был по-мужски низкий и хриплый – частично из-за того, что она выкуривала в день по четыре пачки “Голуаз”. Мои родители не употребляли ничего крепче вина, однако некоторые их друзья, включая Дессоффи, питали пристрастие к выпивке и наркотикам. Жак Дессоффи (они с отцом подружились в Школе восточных языков) большую часть времени проводил в Северной Африке, где доставал лучший опиум непосредственно у изготовителей.
Хелен еще сильнее пристрастилась к виски с тех пор, как рассталась с последним любовником: с середины 1930-х она состояла в связи с обаятельным немецким красавцем, бывшим дипломатом, Гансом фон Динклейджем (Шпацем). В 1934-м он подстроил свое увольнение из дипломатического корпуса, якобы за то, что был женат на еврейке. Отец мой подружился со Шпацем в Варшаве – затем помог ему найти работу журналиста в Париже и познакомил с Хелен. За знакомством последовала бурная связь, которая завершилась осенью 1938 года, после подписания Мюнхенского соглашения. Тогда мой отец посоветовал всем своим друзьям прервать общение со Шпацем и другими немцами, живущими во Франции. Хелен последовала его совету, но расставание далось ей очень тяжело – не облегчало дела и то, что она начала подозревать в нем шпиона. Вскоре эти подозрения подтвердились. Стало ясно, что Шпац пользовался домом Хелен под Тулоном, где располагалась важная морская база, в качестве центра своей разведдеятельности. Постепенно, однако, она справилась с болью и злостью на бывшего любовника (в годы оккупации тот, кстати, был любовником Коко Шанель, которая отличалась безупречным вкусом!).
Была в супругах Дессоффи какая-то доброжелательная рассеянность. Окутанные клубами дыма, окруженные любимыми шнауцерами, они словно пребывали в своем мире, далеком от телесных проявлений чувств. Они были рады принять вас в этот мир – при условии, что вы не нарушали их благостного покоя. Так я узнала, что если у курильщиков опиума достаточно денег, они могут быть самыми приятными собеседниками. В их прелестных коттеджах на юге Франции (они жили отдельно и, как правило, в разных домах) всё было устроено очень удобно и современно – просторные комнаты с белыми стенами и широкими диванами, обитыми льном и хлопком. Помню, что там было много воздуха, все шутили и смеялись, собаки весело скакали вокруг, светило солнце, в воздухе мягко пахло хорошим виски. Отец так привязался к Хелен, что весной 1939-го купил ветхий домик неподалеку в Санари-сюр-Мер под Тулоном и собирался перестроить его, “как только позволит политическая ситуация”.
Изобилие денег и свободного места позволяло Дессоффи жить в состоянии перманентного праздника и приглашать в свою жизнь всех, кто развлекал и очаровывал их. В начале 1930-х годов они подружились с замечательной четой дю Плесси, а когда у матери появился Алекс, приняли и его. Поэтому не знаю, кто кого испытывал в тот раз, о котором я хочу рассказать.
Дело было весной 1939 года, и мы с отцом жили у Хелен, в ее новом доме в Санари. Помню, мы все собрались на кухне. Незадолго до того Гитлер грубо нарушил Мюнхенское соглашение предыдущего года и оккупировал оставшуюся часть Чехословакии. Отец, как обычно, распространяется об угрозе нацизма, некомпетентности французского правительства, а Хелен, по обыкновению, рассеянно кивает в ответ. “Почему Франция не сразилась с Германией в 1936 году, – вопрошает отец, – когда нацисты вошли в Рейнскую область? Германия тогда только начала перевооружаться, французы бы стерли немцев в порошок! Во всём виноват этот старый кретин Гамелей[77] – редкий трус. Не говоря уже о Леоне Блюме и всех его евреях-пацифистах! А трудовые союзы только и делают, что бастуют и тормозят перевооружение. И что в итоге? Мюнхен! Да французы все должны повеситься от стыда! За это время у немцев появились танковые войска, быстрые мессершмиты, теперь они и Чехословакию поглотили, между прочим, нашего старого союзника. А мы даже пальцем не пошевелили! Чего ждут эти идиоты в правительстве?”
Когда отец сердится, он часто успокаивает себя готовкой, особенно если дело происходит в гостях у друзей – вот и сейчас, закончив свою инвективу, он берется за ужин. Будучи выдающимся поваром (до войны среди французов это редкость), он недавно научил меня делать шоколадные трюфели. Пока отец помешивает говядину по-бургундски, я трудолюбиво катаю маслянистые шоколадные шарики в какао. Разговор принимает неожиданный поворот.
– Ты знаешь Либерманов? – неожиданно спрашивает Хелен.
– Грязные евреи, – сердито бросает тот.
– Неправда, они очень милые, особенно их сын.
– Да, отец там хуже всего. Грязные евреи!
Это звучит ужасно. Впервые в жизни я чуть ли не ненавижу отца. Я полюбила Алекса. Он завоевал меня своим обаянием, душевным теплом и заботой. Поскольку я уже не ребенок, то не могу не задуматься: неужели Хелен заговорила о Либерманах, чтобы выяснить, в курсе ли отец нового романа жены? Или она упомянула их, чтобы узнать, в курсе ли я? Этот вопрос терзает меня по сей день. У Хелен не было детей (думаю, это был сознательный выбор – сложно представить ее, опекающей кого-нибудь сложнее шнауцера), но всё равно, странный поступок.
Эти весенние каникулы были последними, что я провела с отцом. Кроме того, это была последняя мирная весна – большинство французов к этому моменту почти два десятилетия считали, что мир будет вечным.
Полвека спустя после разговора на кухне между Хелен Дессоффи и отцом мне повезло наткнуться на следующий абзац из Мориса Сакса, в котором он с пугающей лаконичностью описывает заблуждения, охватившие Францию в межвоенный период – заблуждения, против которых, надо отдать ему должное, горячо выступал мой отец.
Ни переворот 18 брюмера, ни Империя, ни Ватерлоо <…> ни Вторая республика, ни Вторая империя, ни поражение при “Седане”, ни Парижская коммуна, ни зарождение Третьей республики – ничто не потрясло Францию так основательно, как война 1914 года и последовавший за ней мир. <…> Перемирие 1919 года стало началом вечного мира. <…> Французы, опьяненные этой восхитительной иллюзией, первыми уверовали, что этот мир (<…> отличавшийся от других лишь своей способностью вводить людей в заблуждение) знаменует уникальную судьбу их Родины. <…> Победа даровала им право на любые излишества и безумства.
Глава 9
1939–1940
Несмотря на военную угрозу, летом 1939 года французы, как обычно, отправились в отпуск. Премьер-министр Эдуард Даладье отдыхал с любовницей, маркизой де Круссоль, на яхте друга вблизи Лазурного Берега. Президент республики Альбер Лебрюн уехал к себе на виллу в Лоррене – Мерси-ле-О. Министр юстиции Поль Маршан провел двенадцать дней в Эвиане, где лечил печень. Министр финансов Поль Рейно отдыхал в Ле-Туке на Ла-Манше, после чего вместе со своей подругой, графиней де Порт, отправился в Аркашон на берегу Атлантики. Министр по колониям Жорж Мандель, который давно уже требовал дать отпор германской агрессии, очевидно, больше других был озабочен положением дел и всего лишь на три дня уехал в Довиль.
Семья дю Плесси провела большую часть августа в поместье Ла-Кроз в Жорже-дю-Тарн, которое мой дядя, Андре Монестье, приобрел несколько лет назад. Поместье представляет собой несколько построек из грубого серого камня в уединенном месте на берегу бурной реки – настоящий рай для любителей дикой природы. Добраться туда можно только на лодке, до ближайшей дороги двадцать километров. Никто из нас никогда не пытался пересечь лесистые горы, чтобы найти эту дорогу.
На противоположном берегу, в пяти километрах от поместья, располагается ближайшая деревушка – Ла-Мален. Помимо лодки, единственным путем к цивилизации, которым иногда пользовались самые смелые и ловкие из нас, была крутая тропинка, ведущая к деревне, – там речка сужалась и ее можно было перейти вброд. Лозер, провинцию, где расположено поместье, называют самой дикой частью Франции – именно здесь появился знаменитый Авейронский дикарь[78]. И это невероятно красивое место. (Я пишу о поместье в настоящем времени, потому что оно по-прежнему существует и принадлежит моей семье.) Здесь всюду растут дикие цветы, речка сверкает, как платиновая ленточка между серебристых тополей, а такого чистого воздуха, как здесь, в Европе почти нет.
Доставка почты и еды в Ла-Кроз происходит самым необычным образом: письма, продукты и вчерашние выпуски “Фигаро” прибывают к нам в деревянном сундуке на канатах, который переправляют через реку с помощью огромного блока. Общение с тем берегом происходит в форме воплей:
– Месье Легран! – кричите вы мяснику, – не могли бы вы найти нам хорошую баранью ногу к выходным?
Телефона тогда не было, и нежданные гости со всех уголков Франции взывали к нам с другого берега – они приезжали, вылезали из автомобилей и вопили:
– Мы дю Плесси (Лоренсье, д’Аржантей) из Перпиньяна (Нанта, Ангулема). Можно у вас пообедать?!
– Конечно! – отвечали мы всегда.
Тетя Симона и впоследствии моя кузина Клод, обе великолепные поварихи, держали в кухне множество помощниц из деревни. По сей день это бедная местность, прислуга там стоит дешево, и за столом по вечерам редко собирается меньше двадцати человек. Ла-Кроз всегда был местом, где можно скрыться от мира, тайным королевством. За исключением воскресных путешествий на мессу (выдавались радостные воскресенья, когда в Ла-Кроз гостил священник и мог провести службу дома), выход в деревню рассматривался как капитуляция.
Любовь к приключениям заставила Монестье приобрести Ла-Кроз – благодаря имению они подружились с мамиными родственниками. Монестье обожали бабушку, восхищались Сашей Яковлевым и собирали его работы, искренне полюбили мою милую, грустную тетю Сандру, которая в ту пору зарабатывала на жизнь, преподавая оперный вокал. Совершенно естественно, что летом 1939 года, после смерти бабушки, они пригласили тетю приехать с нами, чтобы помочь ей справиться с горем.
В этом чудесном любящем обществе я провела большую часть августа – последнего лета перемирия, продлившегося с 1919 года. Расписание родителей, как обычно, было очень сложным. Они на месяц отпустили гувернантку, полагая, что мне будет лучше под присмотром тети, и августа отец отвез нас в Ла-Кроз. После двух недель там, в середине месяца он уехал, чтобы “повидаться с друзьями” (то есть, подозреваю, с дамой в красном), а в конце месяца должен был вернуться и забрать нас в Париж. Мама приехала к нам 13 августа, намереваясь провести здесь неделю и вернуться на юг Франции (видимо, к Алексу). Мама плохо сочеталась с Ла-Кроз. Как бы ни любила она Монестье, ее раздражали масляные лампы, недостаток ванных и общая ветхость. Она то и дело садилась в лодку или за руль – к нашему ужасу, поскольку права она получила только прошлой весной – и отправлялась якобы на поиски каких-то особых продуктов для меня, в особенности порошка под названием “Банания”, который давали слабым детям. На самом деле она очевидно стремилась в ближайшие деревни, где можно было спокойно написать Алексу и отослать открытку.
Здесь всё так дико и красиво. Тетя говорит, что это похоже на Даръяльское ущелье на Кавказе [написала она ему 17 августа]. Удобств никаких – ни электричества, ни дорог. Будь ты здесь, это было бы мило, но без тебя тут ужасно. Утешаюсь только обществом Франсин и окружающей красотой… Я люблю тебя нежно и берегу твой образ в душе, как самую свою жизнь. Напиши мне, и я сама заберу письмо, повиснув на веревке.
Как жаль, что ты не пишешь [жалуется она 19 августа в одной из четырех открыток, которые отослала в тот день]. Здесь постоянно грозы, но я много плаваю и гуляю, чтобы не сойти сума без тебя. Тетушка ужасно милая, и я нещадно ею пользуюсь. К сожалению, Фроська выглядит неважно, не лучше, чем в Париже, и очень устает от детских игр.
Наконец-то я получила твое письмо! [Восклицает она тем же вечером в очередной открытке.] Аптимтим [так мама с Алексом называли друг друга], какое милое, чудное письмо! Боже, через два дня мы будем вместе… Мы так не заслужили своего счастья, что должны беречь его пуще всего на свете.
Об этом последнем мирном лете у меня сохранилось всего несколько драгоценных воспоминаний – мне тогда было восемь лет. Помню, как я была счастлива, что со мной пятеро самых любимых людей – мама, папа, дядя Андре, тетя Симона и тетя Сандра. Помню, как проснулась от того, что дядя кричит почтальону: “Добрый день, месье Лефевр! Я передам!” Помню, как завтракаю за длинным дубовым столом и наблюдаю, как мама – она совсем не умела готовить – пытается развести для меня “Бананию” и чертыхается, пролив кварту молока. Я еще не умела плавать (гувернантка считала это слишком опасным делом) и бродила по колено в воде вместе с тетей, смотрела на нее снизу вверх и восхищалась белизной ее зубов. Помню, как папа и дядя без конца обсуждали военную угрозу: Франции и Великобритании срочно надо подписать пакт о ненападении с СССР, переговоры об этом ведутся с марта, Даладье беспомощен и только затягивает дело. Помню, как родители – в тот день они оба были в Ла-Кроз – сидят на берегу сверкающей речки под тополями и мама просвещает Монестье о светской жизни в июньском Париже. Это невиданная, потрясающая роскошь, говорит она; самой блестящей вечеринкой оказался ежегодный бал в польском посольстве – мадам де Порт, любовница министра финансов Поля Рейно, выглядела чуть менее уродливо, чем обычно, в великолепном лиловом шелковом платье от Пату; блистательная супруга Отто Абеца, поверенного в немецком посольстве, француженка, была в бежевом шелковом платье; зал освещали тысячи волшебных огней; в три часа утра посол заставил всех гостей разуться, и они танцевали полонез на посольских лужайках… “Пир во время чумы”, – перебил ее отец с мрачным видом – он всегда так выглядел, когда при нем упоминали Польшу, а тем летом ее упоминали часто.
Но ярче всего я помню легендарный пятикилометровый путь от Ла-Кроз до Ла-Мален – возможно, потому что для меня он стал своего рода обрядом посвящения, ведь по нему можно было ходить только взрослым. Дело было на следующий день после отъезда матери на юг – она квохтала надо мной, как моя гувернантка. Отец буквально заставил меня пуститься в путь, и по прошествии трех недель под опекой тети Симоны я чувствовала себя готовой принять этот вызов. Мы бодро шли по густым зеленым зарослям, ориентируясь на серебряную ленту где-то внизу, поскальзываясь на устилавших землю плотным слоем ароматных сосновых иголках. День был прохладный, солнечный, и я была в таком восторге, что почти не чувствовала усталости. Через два часа, когда на том берегу завиднелись первые дома, мне даже стало обидно – высота была взята, и мне требовалось новое испытание. Перед мостом мы присели отдохнуть под деревом, и отец расхвалил меня, как никогда раньше, – он превозносил мою силу, ловкость и смелость. Пахло хвоей, я таяла от счастья, слушая его похвалы: “Стойкий солдатик, – говорил он, – мы теперь будем гулять всюду, в Морване, на бретонском побережье!”
На следующий день, 23 августа, произошло главное событие лета: СССР после пяти месяцев бесплодных переговоров с Великобританией и Францией объявил, что они подписали пакт о ненападении с Германией. Почтальон прокричал эту новость с другого берега реки прежде, чем мы, как обычно, послушали беспроводное радио. “Теперь в любой момент может начаться война”, – мрачно сказал отец. Наши каникулы кончились. Было решено всем в течение суток покинуть Ла-Кроз и вернуться в Париж. Следующее, что я помню, – мы едем в город, я сижу между папой и тетей Сандрой, положив голову ей на колени. Вокруг ночь. Папа, на этот раз спокойно, объясняет Сандре, что нас ждет Вторая мировая война.
– Господь знает, – говорит он, – как я ненавижу коммунистов, но французы и англичане так затянули дело, что русским просто ничего другого не оставалось. Маршал Ворошилов готов был пустить в ход свои многотысячные дивизии, британцы и французы могли предложить только несколько сотен! Франции надо было сосредоточиться на танках, а не на этой дурацкой линии Мажино…
Моя аполитичная, миролюбивая тетя постепенно засыпает, и ее голова клонится к моей.
– И единственный наш союзник на востоке теперь – милая старая польская кавалерия, – продолжает отец. – Их представления о войне так устарели, что для них до сих пор лошади – это часть армии.
– Ты уйдешь на войну? – спрашиваю я, а тетя упирается головой мне в плечо.
– Да, зайчонок, очень скоро, – отвечает он и гладит меня по голове. – Тетя Симона, дядя Андре, мама и тетя Сандра будут о тебе заботиться.
В день нашего возвращения в Париж его призвали. Пару дней спустя Монестье на неделю отвезли меня в другой свой дом, в Пикардии. Все думали, что отец ненадолго приедет в субботу, по пути в свой полк. Помню, как преданно ждала его на ступеньках и таращилась на поросшую травой лужайку, окруженную розами. Он должен был приехать в три, но пробки на дорогах – в ожидании войны парижане в страхе покидали столицу – задержали его приезд на шесть часов.
Я сидела на крыльце, вздрагивая всякий раз, когда мимо дома проезжал автомобиль, отказываясь уйти, и рыдала, когда меня попытались увести. Я хотела увидеть папу в форме! Я хотела увидеть его в ту секунду, когда он выйдет из автомобиля! Меня оставили в покое. Наконец на дороге появился знакомый бордовый “пежо”, и он вышел из автомобиля – на офицерском мундире блестел золотой шнур. Папа подхватил меня на руки, и мы пошли ужинать. После ужина меня стало клонить в сон – давно было пора ложиться спать, – но до меня доносились обрывки разговоров. Папа привез свое завещание. На случай, если с ним “что-то случится”, он хотел, чтобы моим опекуном до достижения 21 года стал Андре Монестье (его, как и всех мужчин старше сорока, призвали на фронт только несколько месяцев спустя).
Германия напала на Польшу ентября. На рассвете 3 сентября Великобритания объявила немцам войну – восемь часов спустя к ним нехотя присоединились французы. 29 августа отец уже уехал на польский фронт. Как специалиста по Польше, его назначили связным офицером при генерале Жюле Арменго, который возглавлял часть, посланную в Польшу французским правительством для поддержки еще до объявления войны. Помню заголовок в “Фигаро” в начале сентября: “В третий раз за семьдесят лет Венера Милосская покинула Лувр и была спрятана в глубине страны”. В первые недели войны вошло в моду носить с собой противогаз, закинув его за плечо, – мне эта манера казалась ужасно бравой. В начале сентября каждую ночь выла воздушная тревога. Мы с мамой и гувернанткой тогда бежали в свое убежище – подвал соседнего дома, переполненный нервными женщинами в халатах и бигуди. Через несколько недель мама решила, что нам с гувернанткой лучше уехать за город – в конце концов, следующая тревога может оказаться настоящей. Дом Монестье в Пикардии был расположен небезопасно – отец всегда предупреждал, что когда Германия нападет, это произойдет в Арденнах, через бельгийскую границу. Вместо этого нам предстояло отправиться в Жиронду, в домик прабабушкиного брата, Александра Петровича Кузьмина, который прошлой зимой отошел ко мне по завещанию.
Хотя и куда более скромный, дедушкин домик в деревне Гужан-Местра был мне таким же родным и знакомым, как Ла-Кроз, как дом Монестье в Пикардии, как всякий милый уголок моего детства. Тесный деревянный домик на три комнаты стоял на болотистой равнине. В этом пристанище, где не было ни воды, ни электричества, дедушка нашел приют после трагедии, постигшей его. Уехав из России и поселившись в Германии, он влюбился в акробатку и женился на ней. Вскоре после свадьбы он потратил все свои сбережения и купил ей собственную академию верховой езды, но она сбежала от него с воздушным гимнастом. Он остался без гроша, с разбитым сердцем и устроился в Гужан-Местра, где коротал время играя в “Солитер” и перечитывая русские романы. К тому моменту, как мы встретились, “месье Русский”, как его звали селяне, совершенно выжил из ума, всё время улыбался и то и дело высовывал язык, что меня очень смущало. Он узнавал о мировых событиях из русских газет, но в общем и целом погрузился в обломовскую спячку. Смыслом его жизни явно были шесть летних недель, которые мы с бабушкой, тетей Сандрой и гувернанткой проводили у него в гостях.
Тогда мы набивались в этот крохотный домик битком – бабушка с тетей Сандрой жили в одной спальне, мы с гувернанткой в другой, а дедушка с радостью устраивался на диване в гостиной. Было нечем заняться – можно было читать, ходить в деревню за продуктами, таскать воду из ржавой колонки в конце грязной дороги или помогать бабушке готовить по-русски пышные обеды. И всё же я любила летние вечера, когда мы собирались вокруг масляной лампы за зеленым столом под печальным взглядом иконы, смотревшей из угла, – дедушка сохранил ее, когда бежал из России. В тесной гостиной, где пахло горячей кашей, дедушка, как обычно, был поглощен своим “Солитером”, гувернантка читала или штопала, а бабушка играла со мной в карты или шашки. Тетя Сандра проигрывала оперные записи на стареньком граммофоне. Иногда, когда слушала арию из “Тристана и Изольды” или “Золотого петушка”, она подпевала звучным, глубоким меццо, на глазах у нее появлялись слезы – ей вспоминались дни славы в петербургской опере. Тогда вместо пения звучали всхлипы, прерываемые героическими тремоло. Дедушка поднимал взгляд от “Солитера” и тревожно высовывал язык. Бабушка подбегала и утешала свою взрослую дочь:
– Душа моя, сокровище мое, – шептала она, – у тебя была блестящая карьера, но ничто не дается навечно.
На этих словах вся семья, терзаемая тоской по потерянной России, заливалась слезами, и я вслед за ними.
Но в 1939 году я оказалась в Гужан-Местра без моих любимых родственников. Дедушка и бабушка умерли, тетя Сандра пошла работать в парижский Красный Крест. Я болезненно ощущала пустоту, образовавшуюся после смерти бабушки. Это было начало школьного года, и мы с гувернанткой придерживались прежнего унылого расписания. По утрам мне мерили температуру. Если градусник показывал больше 37,5, я на весь день оставалась в постели. Это мне нравилось, потому что позволяло погрузиться в романы Жюля Верна – той осенью больше всего мне нравился “Зеленый луч”. Если на градуснике было меньше, начинались уроки: французский диктант, русский диктант, история, математика. Учебное заведение, куда я ходила в Париже, присылало мне задания. Раз в несколько дней мы ходили на почту и звонили матери, которая пережидала предполагаемые налеты на Париж у друзей, живущих прямо рядом с городом. (Только потом я поняла, что они с Алексом жили у его родителей в Шату.) Единственным развлечением была ежедневная прогулка в деревенский магазин: по пути мы проходили дом мэра, тучного коммуниста в неизменной красной рубашке – по воскресеньям он заводил граммофон и, сидя на крыльце, слушал “Интернационал”. Иногда приходила деревенская девочка по имени Колетт – мы с ней играли каждое лето, и в тот год она начала приобщать меня к чуду деторождения. За писькой, говорила она, стянув трусы, есть еще одна дырочка, и мужчины засовывают туда свою штуку. Нам сложно было представить, как можно куда-нибудь засунуть эту вялую штучку, которую мы пару раз видели у старых извращенцев на улицах, и мы сочли это безосновательными слухами.
Пребывание в Гужан-Местра продлилось с 10 сентября до первых чисел ноября. Тем временем оставшиеся в Париже без устали успокаивали своих родственников за границей. 13 сентября Алекс написал отцу длинное письмо, где сообщил, что они с Татьяной живут в Шату (Семен Либерман предвидел, что ближайшие несколько лет евреям лучше в Европе не бывать, и переехал в Нью-Йорк). Алексу, очевидно, приходилось нелегко – он ощущал вину и стыд, что его признали негодным к военной службе. Кроме того, его властная мамаша изо всех сил старалась разрушить его отношения с Татьяной. Алекс, в свою очередь, пытался уговорить мать уехать к отцу в Штаты.
Любимый папа [пишет Алекс отцу]. Не волнуйся за нас с мамашей. Я рад, что тебя тут нет, и уверен, что в Америке ты принесешь Франции больше пользы. Мы теперь живем в Шату – мамаша, Таня и я. К сожалению, мамаша несчастна, ревнует, и рядом с ней тяжело находиться – ей с ее здоровьем и нервами не стоит здесь быть. Было бы хорошо, если б ты нашел способ отправить ее в Америку.
С невероятным идеализмом Алекс восхваляет безумную французскую самоуверенность:
Атмосфера здесь прекрасная. Все преисполнены такого спокойствия, храбрости и решительности, что сам воодушевляешься и гордишься тем, что ты француз. <…> Все здесь верят в победу!
Далее он страстно пишет о том, как Татьяна его поддерживает, и снова говорит об истерической ревности матери:
Я раньше боялся войны – не физически, а потому, что не испытал еще счастья. <…> Но всё изменилось. В этом году я испытал любовь. Она сделала меня мужчиной, научила меня творить. Я нашел свой путь, свое вдохновение, свою истину. <…> Таня всегда рядом, мы неразлучны. <…> Всё гораздо проще, когда рядом любимый человек. <…> Мне жаль мамашу. Она страдает и заставляет страдать других. Больнее всего видеть ее эгоизм в те моменты, когда эгоизм надо преодолевать, когда все мы должны забыть о себе и жить ради общей цели. Теперь она куда более одинока, чем раньше. <…> Ревность ее – это пытка, и я ничего не могу сделать. <…> Хочу сказать тебе только одно. Это я могу рассказать лишь тебе.
Я никогда не был счастливее, чем теперь, с Татьяной. И я никого так не любил, и меня так раньше не любили. Помни, мой родной, что бы ни случилось, душа моя спокойна, что я поделился с тобой, с настоящим моим другом.
Целую тебя нежно,
Шура
В то же время Татьяна писала в Советский Союз ответ на встревоженное письмо матери и уверяла, что война их не коснулась. Они впервые с 1935 года обменялись письмами – удивительно, что советский режим это допустил. Любовь Николаевна рисковала, прося дочь написать ей, и Татьяна вновь писала сдержанно, чтобы защитить мать:
Дорогая моя мамулечка,
Счастлива была получить твое письмо. Пусть ты и не писала мне долго, сама знаешь, это не значит, что ты обо мне не думала. Ради бога, о нас не беспокойся. Тут всё в порядке, у нас всё прекрасно. Разумеется, мужья наши на войне, но так всюду. Франсин живет в деревне со своей гувернанткой и хорошо себя чувствует. Лиля тоже живет за городом. Я и тетя Сандра в Париже и много работаем.
Она перечисляет смерти в семье за прошедшие годы: дядя Саша скончался в мае 1938 года (“ужасно… эта внезапная смерть нас всех потрясла”); дедушка Александр Петрович в октябре того же года; бабушка в следующем мае (“для нас это была тяжелая потеря, а как она любила свою внучку”). Она сообщает матери, что ее ателье пользуется успехом, а Бертран и Альберт Даре, хозяин гостиницы в Париже, за которого Лиля вышла замуж тремя годами ранее, воют. “Целую тебя и папу нежно, – пишет она в конце. – Не воображай, что здесь хуже, чем на самом деле”.
Разумеется, мама не могла упомянуть в письме в СССР, что супругу ее поручена опасная миссия. Советский Союз вместе с Гитлером только что оккупировал Восточную Польшу, и отец едва спасся. Будучи подчиненным генерала Арменго, он был на польском фронте во время этой злополучной кампании, которая продлилась всего три недели – в основном из-за превосходства немецких люфтваффе. Уже 27 сентября, когда Польша капитулировала, войскам союзников пришлось спасаться бегством. Арменго и его спутники сумели перебраться в Румынию, по-прежнему сохранявшую относительный нейтралитет, а оттуда в Албанию, где сели на корабль, идущий в Бейрут. Из Бейрута они перебрались в Сербию – в ту пору еще бывшую французской колонией и важнейшей военной базой: там, например, служил будущий премьер-министр Франции Пьер Мендес-Франс и большинство возвысившихся впоследствии французских офицеров. Хотя большая часть его подразделения осталась в Сирии, Арменго вернулся в Париж. Он был одним из тех, кто много лет предупреждал верховное командование Франции: нельзя недооценивать дальние бомбардировщики. Но, как водится, его воззвания не были услышаны: верховное командование возглавлял семидесятидвухлетний генерал Гамелей, который не знал ничего, кроме тренчей Первой мировой. В наказание за “прогрессивные” взгляды Арменго сослали на административный пост в военном министерстве.
В начале ноября нас уверили, что мой отец благополучно прибыл в Бейрут. В тот же месяц мама вызвала меня обратно в Париж – к тому моменту парижане поняли, что в ближайшее время немцы не нападут, и стали возвращаться в город. Жизнь вернулась к бездумному межвоенному веселью. Из той поры мне вспоминается в основном музыка… Думая о первых месяцах войны, я слышу веселые мелодии Мориса Шевалье: “Ура, Проспер”, “Знали бы вы мою курочку”, “Как хорошо во Франции”, “Веселитесь” (“Жизнь так коротка, // так веселитесь же как сумасшедшие”). Помню популярные песенки Шарля Трене 1939 года: “Всюду радость” (“Всюду радость, всюду радость, привет, ласточки… Всюду радость”) и “Я буду ждать вечно” – последняя выражала не только любовное томление, но и беспомощную скуку солдат в окопах, у которых в первые восемь месяцев не было другого занятия, кроме дозора.
Но лучше всех отражают иллюзии и заблуждения того года другие две песни. Первая из них – “Всё хорошо, прекрасная маркиза”, в которой высмеивается беспечность аристократии. В ней дворецкий перечисляет маркизе все беды, которые свалились на поместье после отъезда хозяйки. Новости становятся всё хуже: ее любимая кобыла околела, конюшня сгорела, а вместе с ней и весь дом, а пожар начался, когда застрелился маркиз. Каждый куплет завершается бодрым припевом: “Но в остальном, прекрасная маркиза, всё хорошо, всё хорошо!” Второй песней была “Мы развесим белье на линии Зигфрида”. Мы с одноклассниками каждую неделю пели ее и водили хоровод. Стоит привести здесь несколько строк, чтобы показать трагический, безумный оптимизм, охвативший французскую нацию в первые месяцы войны.
- Мы развесим белье на линии Зигфрида,
- Потому что будет день стирки…
- Мы развесим белье на линии Зигфрида,
- Если она еще будет на месте.
Другие воспоминания – звуки, запахи, картинки – относятся к периоду начиная с февраля 1940-го, когда отца, тяжело заболевшего в Сирии, привезли в Париж и положили в военный госпиталь Валь-де-Грас. У него был тиф, осложненный желтухой. Мы с гувернанткой навещали его по очереди с мамой – та носила ему угощения, журналы, книги и пыталась его подбодрить. Он ужасно похудел и осунулся, кожа его пожелтела. Когда я приходила, он неподвижно лежал на белоснежной подушке и пожирал меня взглядом. “Зайчонок мой, сокровище мое, – повторял он. – Я скоро вернусь”. Но домой он вернулся только через два месяца. Помню станции метро на пути от нашего дома на улице Лонгшам (метро “Иена”) до госпиталя – надо было доехать по линии Монтре до остановки “Страсбур-Сен-Дени”, перейти на линию Порт д’Орлеан и доехать до Шатле-ле-Аль, а оттуда еще три остановки по линии Монруж до станции “Порт-Рояль”.
В марте заболели мы с гувернанткой. У меня был гепатит – видимо, я подхватила его в госпитале. Гувернантка слегла с бронхитом. Мама пыталась одновременно работать и ухаживать за мной, и перенесла меня к себе в комнату, где я спала за огромной черно-золотой китайской ширмой, которую дядя Саша привез с Востока. Боясь, что я заражусь бронхитом, она запретила гувернантке навещать меня, и сама ухаживала за нами обеими. Тетя Сандра и тетя Симона Монестье по очереди приходили ко мне на несколько часов в день, чтобы мама могла съездить к отцу. (Я не знала, что в госпиталь ее возил Алекс – пока она была у мужа, он терпеливо читал в машине.) Я с нежностью вспоминаю, как дремала и читала за ширмой, а за мной ухаживали три самых любимых женщины. Наверное, тогда я почувствовала, что моя мать может быть одновременно и настоящей героиней, и бесконечно нежной, впервые по-настоящему восхитилась ею и стала ей доверять.
К концу апреля, когда я уже пришла в себя и наши занятия с гувернанткой, всё еще больной, частично возобновились, отец вернулся домой из госпиталя, мрачный и худой. Ему дали отпуск в министерстве. Через две недели после его возвращения началась настоящая война. В пятницу, 10 мая, в 4:31 утра по Парижу, немецкие бронетанковые войска под руководством генерала Гейнца Гудериана (пионера бронетанковой атаки) ударили по Люксембургу. В следующие сорок восемь часов они так стремительно прошли по Бельгии и Голландии, что к понедельнику пересекли Арденны и реку Мез – недальновидное французское командование полагало, что эти территории окажутся неподвластны немецким танкам.
Всю субботу и воскресенье отец, мрачный, сидел за столом, притворялся, что работает, и отвечал на мои вопросы односложно. До поздней ночи у него был включен приемник. Рано утром в понедельник (до капитуляции Голландии оставалось два дня) я вошла к нему и с изумлением увидела на нем военную форму:
– Папа, ты же на лечении! – воскликнула я.
– Мне надо в министерство, – ответил он. – Потом расскажу.
Он вернулся еще мрачнее прежнего, руки у него дрожали. Мама ушла разносить заказы. Я прошла за отцом в кабинет – он упал в кресло, уткнулся лицом в колени и разрыдался.
– Меня не взяли! Говорят, я слишком болен, чтобы летать!
Он сполз на пол и зарыдал еще сильнее, как ребенок в истерике. Я опустилась на колени рядом с ним и, заливаясь слезами, гладила его по голове и шептала:
– Папочка, ты скоро поправишься, ты уже через месяц полетишь.
В дверь заколотила гувернантка, требуя, чтобы ее впустили.
– Оставьте нас, Марья Николаевна! – рявкнул отец. Он был мне теперь почти как ребенок, младенец, о котором я всегда мечтала. Я обнимала его, гладила по щеке и плакала с ним. Он принялся перечислять обычных врагов: Гамелена, Вейгана, слабоумных идиотов, которые выходят против немецких танков с приемами времен Первой мировой войны. Его посадили за какой-то вонючий стол в министерстве, его не пускают в небо, когда он так нужен своей стране.
Я выглядывала в окно, смотрела на залитую солнцем улицу Лонгшам и вспоминала знакомые с детства окрестности: слева от нас, в нескольких домах, стоит музей Гиме[79], куда папа часто водил меня полюбоваться на вазы династии Тан и пейзажи династии Сун; справа, в нескольких кварталах, площадь Трокадеро, откуда открывается потрясающий вид на Эйфелеву башню…
– Эти идиоты не пускают меня в бой, – всхлипывал отец. – Мне не дают воевать!
– Папочка, ты уже выздоравливаешь! Может быть, тебе дадут полетать на следующей неделе.
Я была рада заботиться об отце и подходила к этому со всей серьезностью, но мне отчаянно не хватало рядом взрослого – кого-то, кто мог бы так же его утешать и помогать мне.
Наконец в двери повернулся ключ, и в квартиру ворвалась мама. Шепотом обменявшись с гувернанткой парой фраз по-русски, она подошла к кабинету.
– Открой, Бертран, – взмолилась она по-французски. – Милый, открой дверь.
Всхлипывая, он кое-как добрался до двери и рухнул в объятья матери.
– Любимый мой, бедный мой, – шептала она.
И мне:
– Фросенька, набери Жасмин 34–10 и попроси тетю Сандру прийти.
Я тоже знала тетин номер наизусть. Она оказалась дома и сразу же поспешила к нам – мне не пришлось ничего объяснять. Я вернулась к родителям. Мы долго сидели втроем, обнявшись, и оплакивали несправедливость мира. Заливаясь слезами, я в то же время чувствовала огромную благодарность, что мы – одна семья.
Затем мама принялась за дело – заставила отца лечь, сняла с него туфли, расстегнула воротничок. Пришла тетя Сандра, и они быстро пришли к выводу, что Бертран был “на грани срыва”. Отец всхлипывал, спрятав лицо в руках. Тетя вызвала нашего семейного доктора, Симона, который лечил нас с моего детства, и тот сделал отцу укол успокоительного.
Доктор Симон, эльзасский еврей невероятной кротости – мы даже поддразнивали его за необоримый оптимизм, – присел у изголовья и тихо обратился к больному:
– Работа в министерстве ничуть не хуже фронта, старина, – сказал он. – Ты воевал в военно-воздушной разведке, ты можешь сделать огромный вклад.
– Они перешли Маас и идут к Седану, – простонал отец. – Ты понимаешь? Всё кончено.
– Милый Бертран, ну зачем так мрачно смотреть на вещи, – увещевал его доктор Симон. – В любой момент может открыться новый фронт.
– Танки в три дня перейдут Бельгию и войдут в Пикардию, – продолжал упорствовать отец, но уже сдерживая зевок. Мама с тетей шептались у окна.
– Депрессия – обычное дело после желтухи, – уверенно сказала тетя.